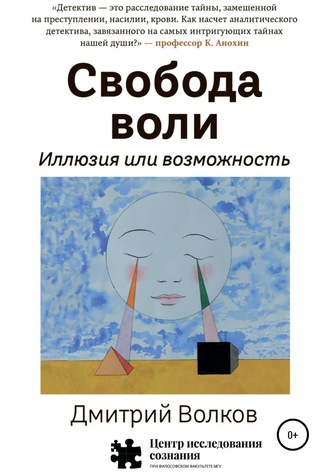
Дмитрий Волков
Свобода воли. Иллюзия или возможность
II. Проблема ментальной каузальности в современной аналитической философии
1. Аргумент исключения ДЖ. Кима против ментальной каузальности
Аргумент исключения, судя по количеству комментариев и ответных статей, – один из наиболее значимых аргументов современной аналитической философии в области ментальной каузальности. Первые версии его были разработаны Ч. Тэйлором [Taylor 1964] и Н. Малкольмом [Malcolm 1968]. В конце 80-х он был актуализирован американским метафизиком Дж. Кимом, а затем подробно разработан им же в статье «“Нисходящая каузальность” в эмерджентизме и нередуктивном физикализме» в 1992 г. Как пишет А. Кузнецов в своей диссертации, «Ким – философ, вокруг которого строятся дискуссии о проблеме ментальной каузальности» [Кузнецов 2016b, 52]. В наиболее поздней монографии «Физикализм или что-то около того» Ким представляет обновленную версию Аргумента, вписанную в более широкую теорию отношения ментального и физического [Kim 2008, 13].
Рассуждение Кима основано на совмещении нескольких вполне правдоподобных принципов. Это три утверждения: Принцип каузальной исключительности (ПКИ), Принцип каузальной замкнутости физического мира (ПКЗ) и Принцип отсутствия систематической сверхдетерминации (ПОСС). Принцип каузальной исключительности фиксирует, что в стандартной ситуации причина события может быть только одна:
(ПКИ) Если событие e имеет достаточную причину с в момент t, никакое событие в t, отличающееся от с, не может быть причиной e (кроме случаев сверхдетерминации).
Согласно этому принципу утверждается, что достаточная причина у события должна быть одна, кроме специальных случаев сверхдетерминации. Под случаями сверхдетерминации имеются в виду случаи, когда событие могло произойти по любой из нескольких не связанных между собой причин. К примеру, смерть от расстрела стрелковым подразделением – это сверхдетерминированное событие, так как попадание каждой пули в жизненно важные органы является смертельным и пули двигаются независимо друг от друга. Принцип каузальной исключительности – для многих это установка по умолчанию. Она может даже казаться аналитической истиной. Большая часть исследователей среди relata причинно-следственной связи насчитывают одну достаточную причину и одно следствие. Если причина достаточная, то она будет одна.
Второй важный принцип – это Принцип каузальной замкнутости физического мира (ПКЗ). На этом принципе базируется научное знание, в частности понятие физического закона. И несмотря на то, что существуют отдельные любопытные попытки оспорить этот принцип, он все-таки представляет правдоподобное положение. Согласно ПКЗ:
(ПКЗ) Каждое физическое событие в момент t имеет в качестве своей достаточной причины другое физическое событие в момент t.
Ссылка на конкретную отметку по временной шкале нужна Киму для того, чтобы исключить конфликт причин, разнесенных во времени. Одно и то же событие может быть результатом нескольких следующих друг за другом событий. В этом виде, согласно ПКЗ, все процессы и действия – вспышка сверхновой, извержение вулкана, взлет беспилотника и кипение воды в чайнике – в равной степени обусловлены предшествующими физическими событиями. Чтобы объяснить любые события, достаточно только физических причин, в природе нет места чудесам.
Впрочем, этот принцип можно немного адаптировать, ведь кто-то может допускать беспричинные события или случайности. Вместо того чтобы спорить по этому поводу, здесь можно просто несколько ослабить этот принцип, представив его в таком виде:
(ПКЗ1) Если физическое событие имеет причину в момент t, оно имеет достаточную физическую причину в момент t.
В таком виде этот принцип допускает беспричинные события (как и предыдущий принцип), утверждает лишь наличие физических причин у событий с причинами. И он не должен вызывать сомнения.
И наконец, последний интересующий нас принцип – Принцип отсутствия систематической сверхдетерминации:
(ПОСС) Не существует систематической сверхдетерминации физических событий.
Я уже разъяснил, что имеется в виду под сверхдетерминацией, и привел пример, когда она имеет место. Но подчеркну, что сверхдетерминация – это особенный случай. Систематическая, регулярная сверхдетерминация представляется невероятной. Одно дело – допускать единичный случай наступления смерти в результате расстрела стрелковым подразделением, а другое – утверждать, что всегда, когда кто-то погибает от пуль, стреляющих как минимум двое. Второе кажется невероятным.
Итак, что получается из соединения этих принципов? По мнению Кима, ПКЗ, ПОСС и ПКИ в сочетании образуют серьезную трудность для интерпретации ментальной каузальности при условии, что ментальные состояния не отождествляются с физическими процессами. Ход рассуждений философа таков. Допустим, ментальное событие M является причиной физического события, действия P*. Обозначим это M → P*. При этом, согласно ПКЗ, у события P* есть также достаточная причина P – другое физическое событие, некоторое состояние мозга, одновременное с событием M. То есть P → P*. Если M ≠ P, то у P* две причины: ментальная и физическая. То есть P – сверхдетерминированное событие. Иными словами, каждое из этих предшествующих событий достаточно для реализации события P. Но, согласно ПКЗ, физическая причина, предшествующее состояние мозга, обязательна, а ментальная – нет: согласно условию, мы имеем дело с физическим событием, у которого есть причина, а значит, у него должна быть достаточная физическая причина (согласно ПКЗ), тогда как наличие у него ментальной причины не обязательно. Значит, событие P* произошло бы, даже если бы M отсутствовало. Следовательно, ментальные события не вносят никаких изменений в ход дел. Они эпифеноменальны, то есть не имеют каузальной силы. События развивались бы точно так же, даже если бы ментальных состояний не было. «Очевидный вывод этого аргумента в том, что каузальное действие ментального на физическое является иллюзией; оно никогда не происходит. Это эпифеноменализм, как минимум в отношении физических событий. Это не исключает влияния одних ментальных событий на другие ментальные события. Но если ментальные события, как убеждения и интенции, никогда каузально не влияют на движения тела, это лишает агента возможности существования…» [Kim 2006, 217].
Конечно, чтобы попытаться спасти ментальную каузальность, можно допустить тождество M и P: M = P. Но это жертва очень значительная. На первый взгляд, мы спасем ментальную каузальность. Но при этом придется отрицать особый статус ментального и его специфические свойства, в том числе возможность множественной реализации. А это – тоже общепризнанный тезис. Ментальные свойства могут быть реализованы в разных случаях и у разных индивидов разными физическими состояниями. К примеру, боль как ментальное свойство может быть реализована возбуждением различных нервных окончаний и активацией разных нейронных сетей. Таким образом, Аргумент исключения фактически ставит перед нами дилемму: либо ментальная каузальность невозможна и ментальные состояния в лучшем случае эпифеноменальны, либо они тождественны физическим процессам, а значит, специфических ментальных свойств не существует. Обе альтернативы крайне нежелательны. Эта дилемма и представляет суть проблемы ментальной каузальности.
2. Аргумент супервентности против каузального влияния одних ментальных состояний на другие
Впрочем, в приведенных рассуждениях все еще присутствует открытый ход. Выше был рассмотрен случай каузального влияния ментального на физическое. Аргумент исключения приводит к выводу, что это влияние невозможно. Но может быть, ментальное хотя бы способно влиять на ментальное, то есть одни ментальные состояния могут быть причиной других? Если одни ментальные состояния влияют на другие, справедливым будет, по крайней мере, сказать, что убеждения могут основываться на воспоминаниях, желания – на убеждениях, а выводы – на умозаключениях. Это хотя бы отчасти даст основания к утверждению существования и действенной силы разума.
К сожалению, и здесь нас ожидает препятствие – еще один аргумент Кима – Аргумент супервентности (АС). Он строится на уже знакомых принципах: ПКЗ, модификации ПКИ и Тезисе о супервентности (ТС). Тезис о супервентности представляет собой ядро физикалистских позиций, он разделяется практически всеми, кто придерживается доминирующих сегодня философских взглядов. С ним согласны сторонники редукционистского физикализма (например, последователи теории тождества), функционалисты и даже эмерджентисты. В основе ТС лежит представление о том, что полностью идентичные в физическом смысле системы будут полностью идентичны и в плане ментальных состояний. ТС указывает на то, что ментальное не является независимым и не существует автономно от физического, а, наоборот, супервентно, то есть зависимо и определено базовыми физическими свойствами. ТС имеет множество формулировок, к некоторым из которых мы обратимся ниже, однако для целей своего аргумента Ким представляет его в самом общем виде:
(ТС) Все, что происходит в ментальной жизни, полностью определено физическими процессами.
Вот что получается, когда мы анализируем каузальное влияние ментального на ментальное с учетом Тезиса о супервентности. Предположим, ментальное событие M является причиной другого ментального события, M*. Согласно ТС, однако, ментальное событие M* в качестве своей базы должно иметь некое физическое событие P*, ведь ментальное не существует автономно. Теперь применим ПКИ, точнее вариант ПКИ. В исходном виде этот принцип не совсем подходит, ведь он относится к случаям каузальной связи. Но его можно обобщить до любых генерирующих (определяющих) связей, в том числе и отношения супервентности. Тогда он будет звучать так:
(ПКСИ) Если событие e определено событием с – каузально или отношением супервентности, – тогда событие e не может быть определено другим, отличающимся от с событием, кроме случаев сверхдетерминации.
Применив этот принцип, получим: если событие M* имеет достаточное основание в событии с, это и есть его единственное основание (кроме случаев сверхдетерминации). Но которое из двух перечисленных оснований, M или P*, является достаточным? М, вероятно, детерминирует M* горизонтально, с течением времени, а P* – вертикально, как база для супервентного свойства. Известно, что, случись P*, М* произошло бы с необходимостью. Тогда достаточной базой является P*. То, что мы наблюдаем в этом случае, сам Ким называет максимой Эдвардса (в честь американского философа и теолога Джонатана Эдвардса): «Существует конфликт между вертикальной детерминацией и горизонтальной каузальностью. Фактически вертикальная детерминация исключает горизонтальную каузальность» [Kim 2008, 36]. Тогда остается лишь один вариант влияния ментального на ментальное – М может стать причиной M*, став предварительно причиной базового события P*. Единственный способ каузально влиять на супервентное свойство – только через каузальное влияние на его базу. Но это шах, ведущий к мату. Ведь это случай каузального влияния ментального на физическое. А в отношении возможности подобного влияния был уже вынесен отрицательный вердикт в связи с Аргументом исключения. Круг замкнулся, и теперь мы в полной мере наблюдаем трудность философской проблемы ментальной каузальности.
Похоже, что ментальные состояния не могут каузально влиять не только на физические состояния, но и на другие ментальные состояния. Кажется, общепринятые взгляды на ментальное и его действенность непоследовательны. И попытки совместить веру в ментальную каузальность с важными метафизическими и логическими принципами приводят нас к патовой ситуации. Дж. Ким так обобщает эту ситуацию: «Следует заключить тогда, что проблема сознание-тело для нас, желающих быть физикалистами, разделяется на две проблемы: проблему ментальной каузальности и проблему сознания, и они вместе представляют самый большой вызов для физикализма. Если физикализму суждено уцелеть в качестве нашего мировоззрения, он должен показать, каково наше место в физическом мире, и это означает, что он должен показать наш статус как сознательных существ, обладающих возможностью влиять на окружающую среду благодаря сознанию и ментальности. Аргументы, представленные выше, уже показали, что физикализму не удастся сохраниться без изменений…» [Kim 2008, 31].
За последние несколько десятилетий вопросу о соотношении ментального и физического (проблема «сознания») и проблеме ментальной каузальности были посвящены многие сотни работ. Значительная их часть написана философами. Но растет также количество исследований, предпринятых учеными-когнитивистами, нейрофизиологами, психологами, врачами, физиками. Философия, кажется, теряет эксклюзивные права в этой области. Но среди исследователей остается что-то вроде общего консенсуса: физикалистская позиция продолжает преобладать. Это позиция, согласно которой все в окружающем нас мире в конечном итоге состоит из физических объектов и зависит от физических свойств. С появлением новых книг растет количество аргументов, и авторы с критикой набрасываются на тексты своих коллег, так что у любопытствующей публики создается полное ощущение горячего спора. Но если в действительности спор и имеет место, этот спор скорее о деталях. Оригинальность авторов обычно выражается в способе аргументации, но не в явной новизне позиции. Одним из редких исключений являются тексты нашего коллеги, российского философа В. В. Васильева. Он предлагает провести ревизию физикализма.
III. Решение проблемы ментальной каузальности в локальном интеракционизме
1. Ключевые положения локального интеракционизма
По нескольким статьям и трем монографиям[6], опубликованным в последнее время, можно проследить оригинальную философскую позицию, которую защищает российский философ В. В. Васильев. Автор называет ее «локальным интеракционизмом». В соответствии с этой позицией утверждается специфический, нередуцируемый характер ментального. С точки зрения автора, квалиа, качественные характеристики воспринимаемого во внутреннем опыте, не могут быть сведены к физическому, к состояниям мозга. При этом, по его представлениям, квалиа не просто сопутствуют физическим процессам. Они не эпифеноменальны, не являются «номологическими бездельниками», а реально влияют на поведение. Без них мозг не мог бы работать так, как он работает, поэтому существование квалиа эволюционно оправданно. Но как тогда быть с Принципом каузальной замкнутости физического? Достоинством и уникальной особенностью локального интеракционизма является попытка совместить тезис о ментальной каузальности и некоторый вариант ПКЗ. Положения локального интеракционизма можно резюмировать в следующих тезисах:
Онтологический статус сознания: Ментальные состояния существуют как субъективные переживания и нередуцируемы к физическим.
Ментальная каузальность: Ментальные состояния каузально влияют на поведение.
Связь с состояниями мозга: Они не могут быть полностью обусловлены только процессами в мозге.
Каузальная замкнутость: Принцип каузальной замкнутости не работает в некоторых локальных объектах, но сохраняется глобально в мире.
Рассмотрению этой позиции целиком следует посвятить отдельное исследование. Я же попытаюсь в этой главе разобрать один из интереснейших аргументов, который изобретает автор «Трудной проблемы сознания» – Аргумент каузальных траекторий (АКТ). Это рассуждение было разработано Васильевым в 2004 г. при размышлении над книгой «Сознающий ум» Д. Чалмерса [Васильев 2009, 216]. На этом аргументе основывается важная часть теории локального интеракционизма и решение проблемы ментальной каузальности.
2. Аргумент каузальных траекторий в пользу ментальной каузальности и против локальной супервентности
Аргумент сформулирован в виде трех посылок и вывода. Первая посылка – это утверждение о том, что одинаковые события могут иметь разные причины. Вот шар попал в лузу, он мог там оказаться самыми различными способами, в результате самых различных соударений и движения по множеству траекторий. Как, впрочем, любая вещь могла оказаться там, где она есть, множеством различных способов. Посылка выглядит бесспорной. Вторая посылка – это констатация того, что память отражает события, происходившие с субъектом в прошлом, то есть отражает каузальную историю субъекта. Конечно, память может представлять каузальную историю ошибочным образом, но это скорее исключение, чем норма [Васильев 2009, 217]. Столь же несомненно, по мнению российского философа, что воспоминания представляют собой приватные квалитативные состояния и образуют основу убеждений, желаний и других осознанных состояний субъекта. Третья посылка указывает на корреляцию поведения и желаний. Эта посылка не отрицается даже эпифеноменалистами. Эпифеноменалист, правда, считает, что корреляция не имеет отношения к причинно-следственной цепи. А вот представленный аргумент заставляет нас склониться к обратному.
Объединяя посылки, Васильев получает следующую картину: «Если реально, что одно и то же событие или комплекс событий могли бы порождаться разными причинами и если мой мозг в данный момент времени может рассматриваться как громадный комплекс физических событий (некоторые составляющие которого могли бы иметь и иные причины), то очевидно, что он мог оказаться в данном состоянии в результате самых разных предшествующих событий. Иными словами, мой мозг… мог иметь иную каузальную историю, нежели та, что действительно была у меня и составляла мою жизнь. Но если бы у меня была иная история, то, как следует из второй посылки, я обладал бы сейчас другими воспоминаниями и эти другие воспоминания фундировали бы иные убеждения и желания. Поскольку же мои убеждения и желания… скоррелированы с моим поведением (третья посылка), то, обладая другими убеждениями и желаниями, я вел бы себя иначе, чем веду себя в данный момент…» [Васильев 2009, 217–218].
Итак, из аргумента следует, что, находясь в том же самом физическом состоянии, агент мог бы вести себя различным образом. И эти различия обуславливаются только его квалитативными ментальными содержаниями, различными убеждениями и желаниями. И никакой анализ наличного физического состояния не способен дать точный прогноз действий субъекта. Ментальные состояния действенны, а значит, эпифеноменализм ложен. Но опровержение эпифеноменализма, с моей точки зрения, не самое критичное из следствий Аргумента каузальных траекторий. Гораздо более значимым мне кажется опровержение того, что является общим местом современных теорий сознания, – Тезиса о супервентности ментальных содержаний на состояниях мозга (ТС).
Понятие супервентности обозначает зависимость одних свойств или фактов от других. Если свойства типа А супервентны на свойствах типа B, то два объекта не могут различаться в свойствах А без различий в свойствах В. В современный философский дискурс это понятие ввел уже упомянутый Д. Дэвидсон в знаменитой статье «Ментальные события» (1970): «Хотя согласно позиции, которую я занимаю, отрицается существование психофизических законов, она совместима с мнением, что ментальные характеристики в некотором смысле зависят, или супервентны на физических характеристиках. Здесь супервентность означает невозможность двух событий, не отличающихся в физическом смысле, но отличающихся в ментальном отношении, невозможность изменения объекта в ментальном отношении без изменений в физическом отношении» [Davidson 2006b, 111]. Несмотря на то что Дэвидсон защищает свой вариант решения проблемы сознания, тезис о супервентности ментального на физическом является распространенным. И его принятие могло бы служить критерием минимального физикализма. Его разделяет большинство философов: дуалисты свойств, эмерджентисты, функционалисты, сторонники теории тождества, элиминативисты, ведь ТС – это не решение вопроса о сознании и ментальной каузальности, а современная его постановка: как объяснить ментальное (сознание), если оно супервентно на физическом? Тем важнее оказывается аргумент, который подвергает этот тезис сомнению, отрицает супервентность. Впрочем, здесь необходимо сделать некоторые уточнения.
Возможны как минимум три формулировки Тезиса о супервентности. (1) Ментальное супервентно на физическом в том случае, если верно, что если нечто X имеет ментальное свойство М, то имеется физическое свойство P такое, что X обладает P, и необходимо, что всякий объект, обладающий P, наделен М. (2) Ментальное супервентно на физическом в том смысле, что объекты, совершенно одинаковые в своих физических свойствах, не могут отличаться относительно ментальных свойств. (3) Ментальное супервентно на физическом в том смысле, что миры, одинаковые во всех физических отношениях, одинаковы и во всех ментальных отношениях; то есть миры, одинаковые физически, совершенно одинаковы в целом[7]. Сила этих утверждений различна. Наиболее сильным является утверждение (1), так как оно фиксирует супервентность даже одного изолированного свойства. А наиболее слабым – (3), так как в нем утверждается супервентность только миров в целом. Если условия, описанные в утверждении (1), выполняются, то будут выполняться и условия (2). А если выполняются условия по утверждению (2), автоматически будут выполнены и условия по утверждению (3). Определение (3) фиксирует отношение глобальной супервентности, а определения (1) и (2) – локальной. Для примера возьмем свойство «быть банком». Это свойство не имеет локальной супервентности, но имеет глобальную. Так, здание может быть одним и тем же, но является ли это здание банком или, скажем, музеем, зависит от того, какой статус оно имеет и как используется обществом. Аналогично, свойство «быть оригинальной картиной Ван Гога» также не имеет локальной супервентности. Пусть 1000 картин не отличаются друг от друга ни на один атом, тем не менее одна из них может быть подлинной картиной Ван Гога, а другие – точными копиями. Это зависит не только от самой картины, но и от внешних по отношению к ней факторов. Итак, как соотносятся 3 варианта Тезиса о супервентности с выводом Аргумента каузальных траекторий?
Очевидно, реальная возможность существования двух идентичных людей с разными ментальными состояниями, допускаемая в качестве результата этого аргумента, противоречит варианту (1) ТС. Но сам Васильев сообщает, что его выводы не противоречат «глобальной супервентности»: «последняя формулировка выражает так называемую “глобальную супервентность”, и мы увидим, что предложенные мною аргументы не отрицают ее. Вторая формулировка тоже не опровергается ими, если она допускает глобальную интерпретацию. Ошибочно лишь первое понимание» [Васильев 2009, 243]. Что же получается? Перед нами – неожиданная и удивительно красивая картина мира. Ментальные состояния отличаются от физических. При этом они не эпифеноменальны, а действенны. Они влияют на поведение. Но это влияние не разрушает законы природы, в том числе фундаментальный закон сохранения энергии.
Ментальное является посредником, условием влияния нелокальных физических факторов, а локально – причиной поведения. Ментальная каузальность защищена, тщетность усилий ученых найти корреляты ментальным состояниям объяснена, ПКЗ сохранен, и… в качестве бонуса получен ключ для решения двух философских проблем: «трудной проблемы сознания» и проблемы тождества личности. Из подобной картины следует, что сознательные состояния существуют потому, что необходимы для генерации человеческого поведения (без них поведение разумного человек было бы просто невозможно). И что тождество личности не связано только лишь с тождеством тела, но также и с тождеством каузальной истории, зафиксированной в ментальных состояниях. Что ж, если это построение, помимо своих бесспорных эстетических качеств, сможет выдержать критический анализ, то это крупный успех и даже прорыв в философии. Итак, учитывая значимость выводов, вернемся к аргументу еще раз и попытаемся для начала проверить, действительно ли он опровергает Тезис о локальной супервентности, сохраняя при этом глобальный вариант. Именно в этом случае он совместим с ПКЗ, вписывается в современную научную картину мира и согласуется с базовыми естественными установками.


