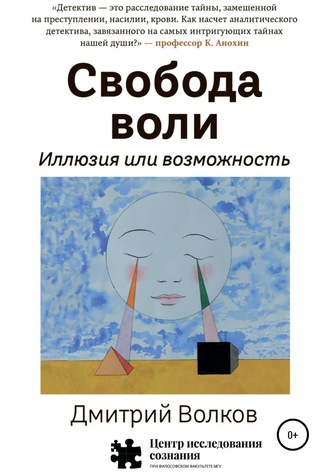
Дмитрий Волков
Свобода воли. Иллюзия или возможность
2. Преимущества нарративного подхода
Нарративный подход предполагает, что личность формируется из рассказа и, соответственно, обладает характеристиками, расположенными в разных временных координатах. Личность реализуется в жизненной истории, автобиографии. В этом и есть сущность личности. Поэтому для личности особенно важно, чтобы нарратив развивался максимально благополучно. Личность имеет основания ожидать справедливой компенсации в рамках этого нарратива и несет ответственность за действия, включенные в нарратив. Особую роль в формировании этого нарратива играет перспектива первого лица. То, что рассказ из этой перспективы имеет большое значение, дает дополнительные автономию, контроль и свободу личности[47]. При этом автономия личности не абсолютна. Автономия ограничивается внутренними и внешними критериями характеризующего автобиографического нарратива. Имеет ли этот подход преимущества в сравнении с другими подходами? И решает ли он проблему, обозначенную в Аргументе пяти трансплантаций?
Аргумент пяти трансплантаций показывает, что субстанциональный, биологический и психологический подходы не объясняют особой заботы личности о будущем. Забота о «своем» будущем, в соответствии с этими подходами, в целом не должна отличаться от заботы о будущем других личностей. Парфит называет это утверждение Крайним утверждением (Extreme claim) [Parfit 1986, 307]. Крайнее утверждение следует из Аргумента пяти трансплантаций. Обратной стороной Крайнего утверждения является то, что я назову Исключающим утверждением. Исключающее утверждение состоит в отрицании возможности атрибуции моральной ответственности ввиду отсутствия асинхронного тождества личности, исчезновения агента. Нарративный подход, определяя личность не как последовательность временных фаз, а как распределенный во времени рассказ, решает эту проблему и, следовательно, обходит как Крайнее, так и Исключающее утверждения. Этот подход опирается на идею фундаментального единства нарратива и его частей. И благодаря этому способен объяснить особую заботу личности о своем будущем и ее ответственность за свое прошлое.
Субстанциональный, биологический и психологический подходы оказываются уязвимыми для гипотетических случаев с делением и умножением личности. Следствием применения этих подходов к подобным ситуациям является противоречие или эпистемологический пат. У сторонников этих подходов есть только две альтернативы. Либо им необходимо признать, что определить наследника существовавшей до деления или умножения личности невозможно. Либо что одна личность вдруг становится тождественной нескольким разным личностям. Нарративный подход обходит эту дилемму. Это оказывается возможным потому, что связь через нарратив фиксирует отношение принадлежности, а не отношение асинхронного тождества. Предположим, произошло деление или умножение личности. Согласно нарративному подходу, наследниками действий и моральной ответственности одной личности будут несколько человек. У этих людей будет одинаковое прошлое. Но в данном случае противоречия не возникнет. Как стена может быть частью и гостиной, и спальни одновременно, так и часть нарратива может входить в разные биографии. Следовательно, гипотетические случаи с делением и умножением личностей не являются проблематичными для нарративного подхода. И этот подход обладает преимуществами по отношению к другим подходам. Но насколько он уязвим для критики? Кажется, некоторые варианты возражений, уже опробованные выше, могут быть применены и к нарративному подходу, в частности возражение, основанное на разнообразии модусов человеческой жизни.
3. Возражения к нарративному подходу
Возражение 1. Проблема двойников
Одно из самых существенных возражений к психологическому критерию тождества личности строилось на возможности возникновения двойников, тождественных в качественном смысле, но различающихся нумерически. Эта возможность была продемонстрирована в Аргументе редупликации, а также с помощью примера Телетранспортер. Однако может показаться, что аналогичное возражение работает и в отношении нарративного подхода. Такое возражение высказывает, например, российская исследовательница М. Секацкая [Секацкая 2018]. Она считает, что у нарративного подхода даже меньше шансов справиться с этой критикой, чем у психологического. Как объяснить возможность существования нескольких личностей с одинаковыми нарративами в случае с редупликацией? Кому приписывать ответственность и как решать вопрос о выживании в случае с ветвлением личности?
Я считаю, что это возражение важно, но не из-за того, что представляет угрозу для нарративного подхода, а из-за того, что позволяет его лучше прояснить. Ситуации ветвления личности допустимы для нарративистов и не представляют проблемы именно благодаря тому, что сторонники нарративного подхода для решения практических вопросов не считают необходимым соблюдение нумерического тождества. Они не занимаются нумерической реидентификацией личностей в разное время, а ищут способы характеризации личности. Следствием такого подхода является возможность пересечения характеризующих нарративов, ветвление и объединение их. Возьмем в качестве иллюстрации уже известный нам случай с Гаем Фоксом.
В описанном выше сценарии дупликации Роберт и Чарльз становятся Гаем Фоксом, обретая его воспоминания, характер, убеждения и привычки. Они оба утверждают, что они Гай Фокс. Более того, сторонние наблюдатели не могут отрицать, что по всем данным Роберт и Чарльз являются Гаем Фоксом. В данном случае нарративный подход не отрицает этого факта. Согласно этой концепции, оба человека несут ответственность за действия Гая Фокса и оба являются продолжениями его личности. Пока их история совсем неразличима – это одна личность с двумя телами. Однако это состояние краткосрочно, так как истории неизбежно разойдутся, и тогда личностей будет две. Дупликация личностей не ведет к проблеме, ведь характеризация, в отличие от нумерического тождества, не является отношением один к одному. У двух разных объектов могут быть общие характеристики так же, как у двух разных объектов могут быть общие части. Таким образом следует объяснять дупликацию в нарративном подходе.
Возражение 2. Личность предшествует нарративу
Второе возражение связано с контринтуитивностью тезиса о первичности нарратива. Это возражение высказывает, в частности, другой российский аналитический философ, И. Гаспаров. Он считает, что выбор «в пользу нарративного подхода не выглядит очень привлекательным, поскольку, на первый взгляд, автобиографический нарратив кажется вторичным по отношению к метафизическим, моральным и иным убеждениям, которые имплицитно или эксплицитно имеются у его создателя» [Гаспаров 2018, 182]. Гаспаров указывает, что единство конструкции нарратива, его перспектива, траектория и телеологическая направленность определяются лежащими в его основе убеждениями и желаниями личности. Личность первична по отношению к нарративу, и, следовательно, эта же личность могла создать другой нарратив. Августин, к примеру, остался бы Августином, даже если бы не изменил манихейству и создал другую автобиографию. Такую ситуацию Гаспаров считает реалистичной. Как вообще текст может предшествовать личности?
Должен согласиться, что в нашей обыденной практике тексты действительно кажутся вторичными по отношению к личностям. Личности обычно являются авторами и предшествуют написанным ими сочинениям. Но эта ситуация не является единственно возможной. Могут рождаться и тексты, не имеющие автора, и эти тексты могут порождать личность в качестве своих героев. Подробно механику этого процесса я попытаюсь раскрыть в конце этой главы. Но здесь в качестве ответа на это возражение приведу один лишь подобный пример сторонника нарративной теории Д. Деннета. Это игра «Психоанализ», описанная в «Объясненном сознании» [Dennett 1991b, 10].
По сути, эта игра представляет собой розыгрыш. Разыгрываемого назначают ведущим и говорят ему, что, когда он покинет комнату, один из участников расскажет остальным свой сон. Сюжет этого сна ведущему надо будет затем восстановить, задавая участникам вопросы, предполагающие только ответы либо «да», либо «нет». И далее ему нужно угадать, кому из компании этот сон приснился. Но как только разыгрываемый покидает комнату, участники договариваются о принципе, по которому будут формироваться ответы. Например, этот принцип может быть таким: если последнее слово в вопросе заканчивается на букву из первой половины алфавита – ответ положительный, в противном случае – отрицательный.
Таким образом, сюжет «сна» не придумывается заранее, но формируется из гипотез ведущего по произвольно установленному алгоритму. При этом те, кто играл в подобную игру, знают, какими увлекательными порой получаются сюжеты. В этих сюжетах есть события, герои, развязка… при этом у них в строгом смысле нет автора. Нарратив сам производит своего героя. Почему подобным образом не может складываться автобиографический нарратив?
Возражение 3. Проблема кого-то еще
Нарративный подход предполагает, что сущностью личности является последовательная жизненная история. И что для реализации этой сущности необходима способность структурировать свой опыт, а также способность хотя бы отчасти выражать его: описывать поступки от первого лица и связывать их со своими ментальными состояниями. Но такие способности отсутствуют у людей в младенчестве, а иногда и в старости или в состояниях психических заболеваний (при слабоумии, в хроническом вегетативном состоянии и т. п.). Таким образом, кажется, что нарративный подход вынуждает нас вычеркивать эти этапы из жизни личности. А это противоречит интуициям. И порождает новую проблему – Проблему кого-то еще. Если человек в хроническом вегетативном состоянии (ХВС) – не та же личность, что был до этого состояния, то кто этот человек в ХВС? Кто этот «кто-то еще»?
Я могу представить два возможных ответа нарративистов на этот вопрос. То, какой из них правдоподобнее, зависит от наблюдателей и рассказчиков истории жизни агента в ХВС. Согласно одному ответу, личность в вегетативном состоянии перестает существовать. Вместо нее продолжает существовать только биологическое существо. Это биологическое существо жило и раньше, и личность существовала на его основе. Возможно, оно еще имеет потенциал вновь стать личностью, но в ХВС оно таковой не является.
Согласно другому ответу, личность продолжает существовать. И существование этой личности возможно благодаря историям других рассказчиков, а не рассказам самой личности. Этот новый этап жизни личности можно включить в ее историю как главу о ней, написанную не самой личностью, а другими авторами. Когда речь шла о требовании правдоподобия нарратива, я уже говорил о необходимости согласования нарратива от первого лица с нарративами, выстроенными из других перспектив. Тем самым уже предполагалось, что истории других людей релевантны по отношению к биографическому нарративу личности. Биографический нарратив – это не только история, написанная от первого лица. Даже в условиях полного «молчания» личности он может быть дополнен рассказами других участников и свидетелей событий из жизни личности. Это дает возможность включить в историю личности даже такие этапы ее жизни, как раннее детство или ХВС. Такой вариант нарративного подхода обходит проблему «кого-то еще».
Отмечу, что такая трактовка не нарушает условия личности, о которых говорилось выше. Наличие сознания и самосознания, способность занимать личностную установку, владение языком и т. д. – все это, как было отмечено, является лишь нормативными критериями, которые задают идеальную модель личности. Реальные личности удовлетворяют этим условиям лишь отчасти или на протяжении некоторого времени своей жизни. Даже здоровый человек во время сна, очевидно, не отвечает многим из этих критериев. Однако мы не склонны считать, что в это время жизнь его личности прекращается, каким-то образом возрождаясь затем снова.
Аналогичным образом дети, люди с психологическими дефектами или находящиеся в ХВС являются личностями в силу того, что они соответствовали или могут соответствовать этим условиям в будущем, хотя и не отвечают им в данный момент. И именно в свете такого признания их личностями участие других в создании их биографического нарратива оправданно. Напротив, люди с некоторыми тяжелыми врожденными когнитивными дефектами, как и животные или неодушевленные объекты, в принципе не в состоянии удовлетворять этим условиям, и потому они не являются личностями, не имеют и не могут иметь автобиографического нарратива, и другие личности не могут им помочь в его создании.
Возражение 4. Эпизодические личности
Нарративный подход можно критиковать также с помощью контрпримеров. Такую тактику избирает американский философ Г. Стросон. По его мнению, существует тип людей, которые, кажется, не подойдут под критерии личностей, представленные сторонниками нарративного подхода. Таких людей Г. Стросон называет эпизодическими личностями. Эпизодические личности – это те, кто не считает себя кем-то, кто существовал в прошлом и будет существовать в будущем. При этом эпизодические личности, естественно, понимают, что биологическое существо, в котором реализуется их Я, обладает временной длительностью, но само Я они не считают длящимся [Strawson 2005, 65]. Эпизодические личности не видят свою жизнь как разворачивающийся нарратив. В этом смысле они живут только в настоящем, полностью в настоящем. Их Стросон противопоставляет диахроническим личностям. Диахронические личности осознают себя как того, кто существовал в прошлом и будет существовать в будущем. Возможно, диахронических личностей большинство. Но, по мнению Стросона, эпизодические тоже существуют. К эпизодическим личностям он относит и себя. Как бы то ни было, помыслить существование эпизодических личностей можно. Значит, в наших интуициях обнаруживается противоречие. Из этого, по мнению Стросона, следует, что, согласно интуициям, нарратив не является неотъемлемым и сущностным элементом личности. А значит, нарративный подход ложен.
Стросон предвидит соображения, которые мог бы выдвинуть сторонник нарративного подхода в свою защиту, – аргумент, доказывающий нарративный характер структуры даже эпизодических личностей. Аргумент состоит в следующем. Жизнь эпизодических личностей – это развитие, как и жизнь диахронических личностей. В этом смысле жизнь эпизодических личностей тоже представляет последовательность. Эту последовательность могут описывать как сами эти личности от первого лица, так и их окружение. Следовательно, эпизодические личности также реализуются в нарративах. Но Стросон считает, что этот аргумент неудачен, так как он сводит нарративный подход к тривиальности. Если жизнь эпизодической личности можно тем не менее считать реализующейся в нарративе, то и жизнь любого человека будет в этом смысле нарративной. Более того, даже жизнь лошади или собаки можно таким образом считать реализующейся в нарративе. В конце концов, и в жизни лошади или собаки будут развитие и последовательность. Таким образом, Стросон предлагает своеобразную стратегему: либо нарративный подход тривиален, либо он опровергается контрпримером. Так ли это?
Мне кажется, что критика Стросона может быть эффективна для некоторых нарративных концепций личности. Но она бьет мимо тезиса, который я пытаюсь защищать в этой работе. Для удобства свой тезис я назову Прагматическим тезисом о нарративной природе личности. Суть его в том, что именно моральная ответственность за действия личности в прошлом (а также другие прагматические вопросы, такие как забота о выживании или справедливой компенсации) базируется на нарративной структуре личности. Прагматический тезис следует отличать от Психологического тезиса о нарративной природе личности[48]. Согласно Психологическому тезису, все люди переживают свою жизнь как историю, нарратив. Именно Психологический тезис уязвим для критики с помощью контрпримеров с эпизодическими личностями, а не Прагматический. Прагматический тезис предполагает лишь то, что основанием применения моральной ответственности будет нарративная структура и единство личности. Но человек может существовать и без такой структуры. В таком случае, однако, он просто не будет личностью в том понимании этого слова, как оно используется в данной работе, и применение моральной ответственности к нему будет неуместным, неоправданным, безосновательным. Моральная ответственность – как плод на ветке нарратива: падает ветка, падает и плод. Значит ли это, что эпизодические личности не являются собственно личностями и не несут ответственности? В частности, означает ли это, что к Стросону нельзя применять эту категорию?
В строгом смысле – да. Действительно, эпизодические личности не должны нести ответственность за действия. Но является ли личность эпизодической или диахронической – вопрос не такой однозначный. В решении этого вопроса не только сама личность, но и представления окружающих об этой личности имеют значение. Человек может декларировать отсутствие особой привязанности к своему прошлому и особой заботы о своем будущем, как это делает Г. Стросон. «Я имею прошлое, как любой другой человек, и я прекрасно понимаю, что имею прошлое, – пишет он. – У меня достаточно фактических знаний о нем, и я также помню некоторые из моих прошлых переживаний “изнутри”, как говорят философы. И при этом я ни в коей мере не переживаю свою жизнь как оформленный нарратив и тем более как бесформенный нарратив. Совсем не переживаю. Точно так же у меня нет какого-то великого или особого интереса к своему прошлому. Как нет у меня и какой-то серьезной озабоченности своим будущим» [Ibid., 67]. И при этом из его поведения может следовать обратное, по крайней мере иногда. В таком случае его нельзя считать эпизодической личностью. К примеру, если человек все-таки иногда сожалеет или гордится событиями своего прошлого, если он иногда с большей тревогой относится к переживаниям в будущем собственной боли, чем к будущим переживаниям боли других, значит, он – не эпизодическая, а диахроническая личность. И он несет моральную ответственность за действия, которые следует относить к его биографической истории, даже если сам он их явным образом к себе не относит. Каким человеком является Гален Стросон? Мне сложно сказать, но мне трудно представить, чтобы человек, живущий вполне обыкновенной жизнью, был эпизодической личностью.
С другой стороны, я, конечно же, могу представить себе человека, проживающего экстраординарную жизнь, который был бы эпизодической личностью. Таким человеком мог бы быть, например, отшельник, проводящий время в медитации и реализовавший буддийские идеалы: человек, лишенный страдания и освободившийся от желаний. Нет ничего противоречивого в том, чтобы помыслить человека с такими психологическими характеристиками. Но его поведение, по моему мнению, радикально отличалось бы от поведения обычных людей, и это было бы очевидно со стороны. Такого человека вряд ли можно было бы считать обычной личностью или вообще личностью. Более того, думаю, ему вообще трудно было бы приписывать наличие Я.
Это отчасти подтверждают описания переживаний существования эпизодических личностей самого Г. Стросона: «Я не имею осмысленного ощущения, что я – я, сейчас размышляющий над этим вопросом, – существовал когда-то в прошлом. И для меня очевидно, что это не ошибка восприятия. А скорее регистрация факта обо мне – о том, кто сейчас размышляет над этой проблемой» [Ibid., 68]. Стросон ссылается на то, что у него нет ощущения, что Я присутствовало в прошлом. Но он также не разъясняет, в чем заключается осмысленное ощущение существования Я в настоящем. Если «переживания перспективы изнутри» не являются достаточными для переживания Я, то ни в прошлом, ни в настоящем с помощью интроспекции нельзя обнаружить Я. Достаточно вспомнить приведенные в начале главы рассуждения Юма на этот счет. Таким образом, в ответ на стратегему Стросона я предлагаю другую: либо большинство людей, считающих себя эпизодическими личностями, фактически являются диахроническими личностями, то есть просто личностями – в том смысле, как этот термин понимается в данной работе, либо такие люди действительно эпизодические личности, но тогда они не только не личности в собственном смысле слова, но и не обладают Я. Эти специальные случаи эпизодических личностей возможны, но они не являются угрозой для Прагматического тезиса о нарративной структуре личности. Таким образом, я считаю критику Стросона неопасной.
Не будучи опасной, она тем не менее небесполезна. Замечания Стросона подтверждают, что свойство «быть личностью» не является фундаментальным и простым свойством объектов. Оно основано на паттерне событий. Как и ментальная каузальность, это – сложное высокоуровневое свойство, различимое только из перспективы моральной ответственности и рождающее иллюзию метафизической простоты, иллюзию точки сборки и источника действий.
Анализ преимуществ нарративного подхода и замечаний в его адрес позволяет сделать вывод о том, что это – наиболее удачное решение проблемы связи событий и атрибуции их личности. Нарративный подход позволяет объединить атрибуты личности как единомоментно, так и в темпоральной перспективе. Атрибуция событий, в свою очередь, обеспечивает основания приписывания моральной ответственности за действия, произведенные личностью в прошлом. Однако остается не до конца проясненным соотношение нарратива и личности. Ведь именно личность является субъектом ответственности. Нельзя же приписывать ответственность тексту!
Итак, нарратив позволяет охарактеризовать личность. Но кажется, что личность – не то же самое, что биографический нарратив. Представления о нарративе и интуиции о личности, об эго, о Я значительно расходятся. Выше, в начале главы, я уже перечислял традиционные характеристики личности. Среди них – представление, что личность – это простая, элементарная, неделимая сущность. Что она является единым командным пунктом, где принимаются волевые решения. Что эго – «главное место», и что личность сохраняет нумерическое тождество во времени и является абсолютно уникальной, что ее невозможно копировать или размножить. Если нарратив и связан с личностью, то, согласно этим первичным интуициям, он каузально зависим от эго, Я. Я является автором нарратива, разве не так?


