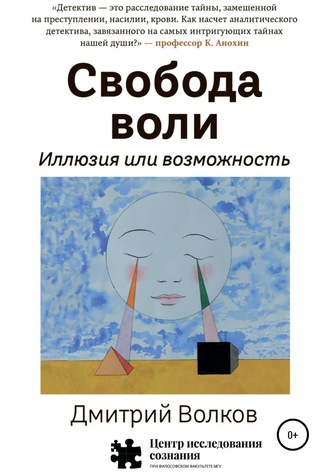
Дмитрий Волков
Свобода воли. Иллюзия или возможность
C. Вымышленные мотивы и вымышленные агенты
Выше я показал, что психические механизмы ассоциации позволяют вполне произвольно объединять ментальные содержания в кластеры. Тем самым я стремился доказать, что определение личности – это не fait accompli, а непрекращающийся творческий процесс. Выше я также указал на существование механизмов ретроспективной атрибуции мотивов действий, домысливание ментальных содержаний. Так я хотел продемонстрировать, что многие атрибуты личности являются фантастическими. Но все эти выводы были основаны на аномальных случаях, на наблюдениях за пациентами с психическими дефектами. Можно ли делать экстраполяцию этих выводов на здоровых людей? Можно ли делать выводы о работе нормальной психики на основе наблюдений за ее нарушениями?
По моему мнению, нет оснований считать, что обнаруженные психические механизмы являются следствиями нарушений. Просто дефекты позволяют явным образом обнаружить механизмы функционирования нормальной психики. И тем не менее я согласен, что справедливость этих выводов для здоровой психики стоило бы подкрепить отдельно. И такая возможность существует. Это можно сделать с помощью примеров, которые приводит уже упомянутый выше профессор психологии Д. Вегнер в книге «Иллюзия свободной воли». Его примеры позволяют подтвердить, что ретроспективная атрибуция ментальных содержаний и их произвольная кластеризация являются стандартными механизмами здоровой психики.
a) Ретроспективная атрибуция ментальных содержаний
«Голодная Лиса пробралась в сад и на высокой ветке увидела сочную гроздь винограда. “Этого-то мне и надобно!” – воскликнула она, разбежалась и прыгнула один раз, другой, третий… но все бесполезно – до винограда никак не добраться. “Ах, так я и знала, зелен он еще!” – фыркнула Лиса себе в оправдание и заспешила прочь». Эта басня Эзопа отражает вполне типичную ситуацию: ретроспективную подмену намерений. Исходным мотивом персонажа басни была добыча лакомства, но, когда виноград оказался недоступным, лиса изменила свое отношение. Мотив достать «сочный виноград» сменило решение игнорировать «незрелый фрукт». Подобную подмену совершают и многие люди в повседневной жизни. Часто действие оказывается противоречащим исходным интенциям, а результат – ожиданиям. Но вместо того, чтобы признать расхождение, обнаружить противоречие и удивиться, человек просто меняет исходную диспозицию: «Что? Да именно это я и собирался сделать!» Известно, что актеры, сыгравшие роль литературного персонажа, склонны в дальнейшем разделять его позицию, даже если она противоречила их собственным изначальным установкам. А авторы эссе на заданную тему имеют склонность защищать основной тезис, даже если этот тезис им вначале казался ложным. Выходит, суждения личности о собственных предпочтениях и мотивах отчасти опираются скорее на объективные наблюдения за собственным поведением, чем на интроспекцию. Самыми яркими примерами таких ретроспективных интерпретаций собственных мотивов являются примеры с постгипнотическим внушением.
Люди, которые получили инструкции во время гипноза, после пробуждения часто выполняют эти инструкции. При этом они не помнят внушения, не знают настоящей причины собственных действий и придумывают самые невообразимые мотивы, чтобы объяснить свое неожиданное поведение. Во время одного из сеансов гипнотизер внушил женщине, что она должна взять книгу со стола и положить ее на полку. Пробудившись, она так и сделала. Когда женщину попросили объяснить ее действия, она сказала: «Не люблю я смотреть на разбросанные вещи; место для книг – на полке. Поэтому я и положила ее туда» [Wegner 2002, 149]. Можно предположить, что это стечение обстоятельств и что у женщины действительно были подобные желания еще до гипноза. Что ж, другой случай не оставляет сомнений в творческой природе ретроспективных объяснений. Гипнотизер внушает человеку абсурдное действие: он должен взять с окна цветочный горшок, обернуть его в ткань, положить на диван и поклониться горшку три раза. После пробуждения человек выполняет данную инструкцию. Какое же объяснение он может дать столь странному поведению? «Вы знаете, когда я очнулся и увидел, что там стоит цветочный горшок, я подумал, что, поскольку здесь довольно холодно, этот горшок лучше слегка согреть, иначе цветок погибнет. Поэтому я обернул его тканью. И потом я подумал, что, поскольку диван стоит как раз возле камина, хорошо бы положить цветок греться туда. И я поклонился потому, что остался доволен тем, насколько хорошая идея пришла мне в голову» [Ibid., 150]. К удивлению окружающих, сам человек не счел свои действия безумными, а определил их как вполне рациональные, ведь он смог дать им объяснение. Мне кажется, эти случаи дополняют аргумент в пользу творческого ретроспективного редактирования мотивов.
Аналогичным образом, пожалуй, можно дополнить аргумент в пользу произвольной кластеризации ментальных содержаний.
b) Атрибуция ментальных содержаний виртуальным агентам
Американский актер и радиоведущий Эдгар Берген стал популярным в 30–40-х гг. в первую очередь как чревовещатель с куклой Чарли Маккарти. Случай из его жизни позволяет предположить, что он настолько сжился с образом куклы, что искренне приписывал ей часть своих ментальных содержаний. Однажды гость зашел в комнату к Бергену и обнаружил, что тот не репетирует, а самым настоящим образом разговаривает со своей куклой. Берген задавал Чарли философские вопросы, а Чарли отвечал с сократической мудростью. Увидев гостя, Берген смутился, покраснел и сказал, что у него сейчас состоялась удивительно интересная беседа. На что гость заметил, что Берген вел эту беседу сам с собой. «Наверное, в конечном счете так и было, – ответил Берген, – но я задаю Чарли вопросы, а он отвечает. У меня нет ни малейшей догадки, что он скажет в следующий момент, и я поражен его проницательностью»[51]. Возможно, этот случай – голливудский миф. Но мне кажется, что он вполне реалистичен, учитывая творческий талант и развитое воображение актера. Но если читателю трудно поверить в его правдоподобие или если этот пример кажется ему признаком душевной болезни, стоит просто представить на месте Э. Бергена ребенка. Тогда такое поведение должно перестать быть аномалией. Дети часто воображают подобных собеседников. И в современной психологии это считается признаком становления здоровой психики.
Исследования показывают, что примерно 65 % детей имеют воображаемых друзей [Klausen, Passman 2006, 349]. Воображаемый друг – это существо, придуманное ребенком, с которым ребенок регулярно общается. Такими друзьями могут быть невидимые существа, одушевленные в воображении ребенка предметы (в том числе игрушки), а также вымышленные агенты, роль которых разыгрывает сам ребенок. Систематические исследования этого феномена психологами начались в конце XX в. И теперь есть даже основания говорить о появлении нового поля научных исследований [Klausen, Passman 2006].
Изначально наличие вымышленных друзей исследователи интерпретировали как отклонение от нормы. Одни психологи считали, что их присутствие свидетельствует о патологической неспособности ребенка отличать вымысел от реальности, иногда – о психической болезни или неблагоприятных обстоятельствах воспитания. Другие, напротив, полагали, что этот феномен свидетельствует о необычайной одаренности детей, служит показателем особых творческих способностей. Одним из первых, кто счел наличие вымышленных друзей этапом нормального психического развития, был швейцарский психолог Ж. Пиаже. Он сделал вывод, что общение с вымышленными друзьями служит транзитной стадией развития языковых способностей (от внутренней речи – self-talk – к социальным коммуникациям). Впоследствии мнение о том, что наличие в раннем возрасте воображаемых друзей является нормой развития личности, закрепилось. В частности, его придерживается М. Тейлор, профессор психологии из Университета Орегона, посвятившая феномену воображаемых друзей монографию [Taylor 1999]. Она приводит следующие случаи в качестве примеров работы здоровой детской психики.
Одна 4-летняя девочка, участвовавшая в исследовании, рассказала о том, что дружит с двумя невидимыми птичками по имени Натси и Натси, которые живут на дереве за окном ее спальни. По словам девочки, у двух Натси цветные перья, они 30 см ростом и постоянно болтают. О двух птичках знали даже родители. Более того, Нат-си были фактически домашними питомцами. Когда семья выезжала куда-то, птички ехали на крыше машины; когда все садились за стол, птичкам оставляли место. И все вместе смеялись их глупым выходкам. Спустя два года девочка все еще помнила про своих питомцев, и ее мама рассказывала, что они иногда садились с дочкой и вспоминали птичек Натси и Натси [Ibid., 8–9].
Такое описание является характерным для случаев с вымышленными друзьями. Однако существует множество вариаций. Вымышленные персонажи могут принимать самые различные формы и воплощения. У некоторых детей есть вымышленные копии их реальных друзей, у некоторых – это копия персонажа из фильма, другие одушевляют мягкие игрушки и даже обычные предметы. Так, у одного мальчика была длительная и бурная история отношений с комодом. Другие же «разыгрывают» вымышленных персонажей сами. Мама одной девочки сообщила, что ее дочка дружит с вымышленным существом по имени Applejack (Яблочный Пирожок). Когда психологи стали расспрашивать девочку, как часто она с ним играет, та стала недовольно возражать: «Это я, я и есть Applejack». Оказывается, мама не разобралась, что девочка не столько дружила с вымышленным героем, сколько иногда им была [Ibid., 15].
Наличие вымышленных друзей в детстве – это распространенное явление и признак нормального развития психики. Ни большое количество таких воображаемых друзей, ни многообразие их форм не являются симптомом отклонений. И существование таких «друзей» во взрослом возрасте также не обязательно является аномалией. Это подтверждает другое исследование М. Тейлор, посвященное отношениям между авторами художественных произведений и их персонажами [Taylor, Hodges, Kohanyi 2002–2003]. По мнению Тейлор, их отношения во многом схожи с отношениями между детьми и их воображаемыми друзьями.
Ключевое сходство в том, что воображаемые персонажи представляются в обоих случаях как автономные, самостоятельные агенты с собственными мыслями, чувствами и действиями. Эта их автономия выражается в непредсказуемости и неподконтрольности человеку их поведения. Дети часто жалуются, что их воображаемые друзья не ведут себя так, как они хотели бы: не делятся тем, что у них есть, не всегда появляются, когда им бы этого хотелось, или, наоборот, надоедают своим присутствием, разговаривают слишком громко, мешают. На подобную автономию вымышленных персонажей указывают также писатели. В интервью национальному общественному радио Джоан Роулинг, автор мирового бестселлера про Гарри Поттера, на вопрос о том, почему главный герой ее произведения мальчик, а не девочка, отвечала: «Спустя шесть месяцев после начала работы над романом я подумала, что я женщина, а он – мальчик. Но было уже слишком поздно, было слишком поздно делать из Гарри Генриетту. Он был для меня реален как мальчик, и, если бы я надела на него платье, это все равно был бы Гарри, только в женской одежде… Когда я пишу, я никогда не говорю, мол, “так, теперь мне нужен какой-то персонаж”. Как мои герои являются мне – это такой таинственный процесс, который никто толком не понимает. Они просто появляются» [цит. по: Ibid., 363].
Некоторые авторы «живут» со своими персонажами, беседуют, спорят. Иногда авторы даже вынуждены вести переговоры с героями об их судьбе в романе. Сара Парецки в интервью радио сообщала, что ей пришлось идти на уступки, когда по сюжету ее герой должен был попасть в тюрьму. Герой отказывался идти на это до тех пор, пока она не пообещала ему взамен настоящую любовь [Ibid., 363]. Подобные комментарии, признания наличия независимой и «свободной» воли у персонажей, встречаются у множества писателей и сценаристов. Среди них – Достоевский, Сартр, Пруст, Джеймс, Тарантино. Английский романист Э. М. Форстер так описывает процесс создания романа: «Герои появляются тогда, когда их пробуждаешь, но полные бунтовского духа. Из-за того, что у них так много общего с людьми, они пытаются, как мы, прожить собственную жизнь, и потому часто вступают в заговор против основного сюжета книги. Они “сбегают”, “выходят из-под контроля”: они – творения внутри творения, и часто не помещаются в него. Если им дать полную свободу, они раздерут книгу на куски, но если слишком сильно держать их в узде, они отомстят своей смертью и отравят ее своим гниением» [цит. по: Ibid., 364].
Описание Форстера показывает устойчивость иллюзии независимого существования персонажей. И является хорошим подтверждением нашей гипотезы о том, что здоровая психика может компоновать, кластеризовать ментальные содержания так, чтобы они образовывали нарративы. Если этот нарратив один, в результате его интерпретации появится единственный агент, если множество – агентов тоже будет множество. В любом случае за процессом индивидуации личности стоит творческий процесс. Приведенные примеры должны показать, что аналогии Деннета, представленные выше, релевантны по отношению к личности. Они подкрепляют гипотезу о том, что личность – это абстрактная сущность, некоторая удобная фикция, рождающаяся в ходе интерпретации нарратива. Эта гипотеза, в свою очередь, позволяет нам разрешить проблему, с которой мы начинали эту главу, – Проблему исчезающей личности.
Впрочем, можно было бы попытаться возразить: если личность – это фикция, и при этом, как утверждалось выше, личность необходима для реализации свободы воли и моральной ответственности, значит, свобода воли и моральная ответственность – тоже фикции? Это очень важное замечание, и я должен в заключение представить на него ответ. Да, я действительно считаю свободу воли и моральную ответственность в некотором смысле фикциями, но только в том смысле, в каком их обычно отстаивают сторонники субстанционального дуализма или агент-каузального либертарианства. Свобода воли и моральная ответственность, необходимые для рационализации существующих межличностных отношений, существуют реально. Референтами этих понятий служат объективно существующие абстрактные паттерны, которые, в свою очередь, являются неотъемлемой частью описания реальности. Свобода воли, моральная ответственность и личность – это фикции, но полезные фикции, место которым найдется в науках так же, как и понятиям «центр тяжести», «вектор движения» или «ген». Такой онтологии придерживается и Деннет, называя ее «умеренным реализмом» [Dennett 1991a, 30]. Однако наиболее емкое и запоминающееся название этой онтологической позиции дал профессор философии Кейптаунского университета Дон Росс. Он назвал ее «реализмом тропических лесов» [Ross 2000, 147].
VII. Итоги третьей главы
Событийный каузализм создает опасность для тождества личности и самого ее существования. Ее можно назвать Проблемой исчезающей личности. По мнению множества философов, существование и тождество личности являются условиями моральной ответственности. Но если событийный каузализм верен, то эти условия не соблюдаются, личность как бы «исчезает», и некому оказывается приписывать действие и ответственность за него. Препятствием для признания наличия свободы воли и ответственности также является противоречие между обыденными интуициями о свойствах личности и эмпирическими данными о том, как устроен человек и его мозг. Это препятствие можно обозначить, вслед за У. Селларсом, проблемой согласования «данности и научных взглядов» [Sellars 1991] в отношении личности и ее действий. Эта проблема была обнаружена уже философами Нового времени, на нее указывали Г. Лейбниц и Д. Юм. Современная разработка этой проблемы обнаруживается, в частности, у Д. Деннета. Он делает выводы о том, что рациональность, сознательность, самосознание и другие классические условия существования личности не могут быть полностью удовлетворены в принципе, а личности как конкретной, единой сущности не существует.
В поисках решений этих проблем мы обратились к современным теориям личности и рассмотрели психологический подход Дж. Перри и С. Шумейкера, биологический подход Э. Олсона и субстанциональный подход Р. Суинбёрна. Я попытался показать, что эти подходы оказываются неприменимы к некоторым гипотетическим ситуациям, таким как «Телетранспортер» Д. Парфита и «Где Я?» Д. Деннета. Эти гипотетические ситуации выявляют проблемы концептуальных построений современных аналитических философов. Возражения к описанным подходам были резюмированы в Аргументе пяти трансплантаций. В контексте этого аргумента и представленных мысленных экспериментов вновь встал вопрос о наличии свободы и основаниях приписывания ответственности.
Нарративный подход в этом отношении представляется наиболее перспективным. Этот подход не является классическим, так как он заменяет вопрос о реидентификации вопросом о характеризации личности и опирается на нереалистическую концепцию личности. Но он позволяет решить проблему рациональных оснований ответственности. Согласно разработанной концепции, каркасом личности является биологический организм. Одна из функций организма – создание расширенного фенотипа. Расширенным фенотипом человека служат в том числе созданные им тексты. Именно эти тексты обеспечивают связь атрибутов человека в прошлом и настоящем, его ментальных содержаний и действий. Таким образом, сама структура текста позволяет избежать вопроса о тождестве личности во времени и заменить его вопросом о принадлежности. Она позволяет снять требование нумерического тождества во времени и заменить его требованием связности, выполнение которого успешно обеспечивается текстом. Структура текста и его смысловая направленность позволяют интерпретировать события, описываемые в нем, как результат деятельности какого-то определенного агента.
Такой агент – это допущение, результат интерпретации, виртуальный, теоретический конструкт. Этот агент является абстрактной, а не конкретной сущностью. Поэтому найти его ни интроспективно, ни объективными методами не удается. Личность как фиктивная сущность наделяется фантазийными характеристиками, такими как полная рациональность, целостность, неделимость, уникальность. Эти характеристики в абсолютном смысле недостижимы. И личность всегда обладает ими только «отчасти».
В нарративной концепции личность – это фантазия, порожденная структурой текста. Но это – полезная, удобная фантазия. Она позволяет объяснить и предсказать поведение биологического организма и наладить сотрудничество между людьми. Ее удобством обуславливается повсеместное принятие этой теоретической конструкции. А повсеместное принятие является основанием для возможности ответных реакций и моральной ответственности.
Заключение
Моя книга – исследование свободы воли и моральной ответственности. Она отвечает на вопрос, возможны ли ответственность и свобода в мире, где действуют физические законы, где длинная цепочка причин определяет наличное состояние вещей и где причинами могут быть только события, а не субстанции. В решении этого вопроса нельзя было обойтись без современных представлений из области физики, нейрофизиологии, психологии. В этом смысле работа опирается на научные теории. Однако эта книга – философская. Сами по себе научные теории и эмпирические факты не могут дать искомого ответа: они не способны склонить ни в ту ни в другую сторону. Только в философском контексте эти научные теории могут свидетельствовать против возможности свободы и ответственности. Поэтому поиск ответа я осуществлял с помощью философских методов: концептуального анализа, мысленных экспериментов и логических аргументов. Так я попытался отвести основные опасности.
Традиционно опасностью для свободы и ответственности считается детерминизм – представление о том, что в каждый момент времени существует только одно реально возможное будущее. Однако в книге я представил и другие, не менее опасные для свободы и ответственности концепции: физикализм и событийный каузализм. Физикализм – это убеждение в том, что у всех событий в мире есть только физические причины, а событийный каузализм – тезис о том, что причинами событий могут быть только другие события. Детерминизм исключает альтернативные возможности, физикализм – ментальную каузальность, а событийный каузализм – связь личности и действия. Три эти философские концепции, как может показаться, подрывают условия для реализации свободы и ответственности. Анализу каждой из этих «опасных» теорий и их соотношения с условиями свободы я посвятил отдельную главу.
Первая глава была посвящена совместимости ментальной каузальности и физикализма. Хотя этот вопрос обычно считается частью проблемы сознания, я включил его в дискуссию о свободе воли и ответственности. Это включение оправданно потому, что каузальная эффективность ментальных состояний, желаний и намерений, является определяющим элементом действия, а без возможности действия, очевидно, невозможно и свободное действие. Но ментальная каузальность, возможно, не согласуется с физикализмом. По крайней мере, это следует из Аргумента исключения. В качестве возможных решений я представил несколько философских теорий. Самой удачной из них, как выяснилось, является телеофункционализм. Эта теория наиболее успешно опровергает Аргумент исключения и обосновывает возможность ментальной каузальности. В поддержку этой теории я предложил собственный мысленный эксперимент и комментарии к нему. Новый мысленный эксперимент, как и эксперименты, предложенные теоретиком телеофункционализма Деннетом, являются контрпримерами к Аргументу исключения. С помощью этих контрпримеров первое препятствие на пути свободы было преодолено.
Во второй главе я исследовал отношение между свободой и детерминизмом. В начале этого исследования я определил общие условия свободы воли и моральной ответственности – принципы автономии и альтернативных возможностей. Эти принципы, по мнению некоторых философов, несовместимы с детерминизмом и даже с индетерминизмом. Я рассказал о нескольких инкомпатибилистских теориях, которые построены на этой интуиции. Потом я изложил аргументы, которые используются сторонниками этих позиций. Самый известный из них – Аргумент последствий – якобы показывает, что никто в принципе не имеет альтернатив совершаемым действиям, так как будущее целиком является последствием прошлого и законов природы. Но, проанализировав этот аргумент, я показал, что оба принципа могут быть выполнимы в условиях детерминизма. Аргумент построен на неоправданно узкой трактовке выражения «иметь возможность». Из моих размышлений следует, что ни детерминизм, ни индетерминизм не являются препятствиями для свободы. А значит, наиболее достоверной позицией является суперкомпатибилизм. Согласно этой позиции, какими бы законами наш мир ни определялся, детерминистическими или индетерминистическими, свобода в принципе реализуема… только если ее не ограничивает событийный каузализм. Ему я посвятил третью главу.
Событийный каузализм – теория, согласно которой причиной действий могут быть только события – является препятствием для асинхронного тождества личности (то есть тождества личности в прошлом и настоящем), но он может оказаться препятствием и для возможности приписывать решения и ответственность агенту. Если причинами событий могут быть только другие события, как можно связать личность и ее поступки в прошлом? Этот вопрос связывает проблему тождества личности с проблемой ответственности. В качестве возможных решений я исследовал наиболее авторитетные философские теории тождества личности. Самой удачной из них, как было показано, является нарративный подход. Это антиреалистическая концепция тождества личности. В ней длительное существование личности признаётся зависимым от убеждений других личностей. Эта теория подтверждается экспериментальными данными (в частности, исследованиями Д. Вегнера и М. Газзаниги) и позволяет приписывать решения и ответственность агенту.
Таким образом, в результате исследования я доказал, что ни одна из перечисленных выше философских концепций не исключает свободу и ответственность, то есть условия свободы и ответственности в принципе реализуемы. Конечно, для того, чтобы они фактически реализовались, должны выполняться и другие условия: личность должна быть психологически здоровой и находиться в состоянии бодрствования и здравомыслия, она должна фактически знать о многих обстоятельствах своего поступка, быть в состоянии предвидеть последствия, верно оценивать их и т. п. Эти условия и их расшифровка – предмет других научных исследований. Философские размышления позволяют сделать вывод о том, что свобода и ответственность могут существовать в принципе. Он кажется интуитивно достоверным, но, может, тогда следовало сразу положиться на интуиции? Насколько важны размышления, приведенные в этой книге, если они приводят к выводу, совпадающему с исходными интуициями, если они соответствуют простому здравому смыслу?
Опора на интуиции важна как отправная точка размышлений. Но интуиций недостаточно в качестве основы для убеждений. Ведь несмотря на то, что интуиции часто достоверны и закреплены в языковой практике, иногда они все-таки оказываются ложными. Более того, как было видно из текста, многие ученые и некоторые философы оспаривают интуиции о свободе и ответственности. Они уверены, что доказали, почему свободы и ответственности быть не может. Размышления в этой книге опровергают аргументы критиков свободы и отстаивают ее возможность. В свою очередь, отрицание свободы не только безосновательно, но вдобавок плохо влияет на мотивацию людей.
Убеждение в отсутствии свободы воли снижает желание прилагать усилия и принимать сложные альтруистические решения. Для многих оно становится универсальным оправданием и поводом к деградации. Я могу подтвердить это, сославшись на несколько психологических исследований. Это эксперименты К. Вос и Дж. Скулера [Vohs, Schooler 2008]. Они показывают, что даже короткое знакомство с аргументами против свободы воли ослабляет моральные установки личности.
В одном таком эксперименте двум группам испытуемых предлагалось выполнить математические задачи. Во время выполнения заданий все участники могли сжульничать. До начала испытания участники первой группы читали параграфы из книги нобелевского лауреата Ф. Крика «Удивительная гипотеза: научный поиск души», в которых утверждалось, что большинство ученых считают убеждение в существовании свободы воли опровергнутым. Испытуемые в другой группе читали параграфы этой же книги, в которых ничего не говорится об отсутствии свободы воли. В результате эксперимента оказалось, что испытуемые, прочитавшие текст об отсутствии свободы воли, жульничали гораздо чаще.
В другом подобном эксперименте участникам предлагалось выполнять математические задания за вознаграждение. Вознаграждение полагалось за каждое правильно выполненное задание, однако их подсчет велся участниками самостоятельно. В результате этого эксперимента выяснилось, что больше правильно выполненных заданий засчитали себе те, кто предварительно прочел текст об отсутствии свободы воли. Таким образом, Вос и Скулер показали, что убеждения в отсутствии свободы воли снижают моральные установки личности. Можно привести и другие аналогичные исследования. Большинство из них подтверждает негативное влияние убеждения об отсутствии свободы[52]. Следовательно, аргументы, изложенные выше, должны действовать наоборот, как противоядие, и мотивировать к моральному поведению. Кроме того, эти аргументы дают основание для эпистемологического оптимизма.
Иногда ученые и философы, которые не видят способа сочетать свободу, детерминизм, физикализм и событийный каузализм, начинают отрицать именно последние три тезиса. Наличие свободы представляется им уж слишком очевидным, и, по их мнению, они выбирают меньшее из двух зол. Однако это решение я считаю очень неудачным. Оно ведет к отходу от фундаментальных натуралистических, научных принципов. Но ведь именно на этих принципах основана большая часть знаний и достижений человечества. Детерминизм, физикализм и событийный каузализм позволяют считать, что мир однороден и события в нем совершаются законосообразно. Это, в свою очередь, дает основания считать его познаваемым в принципе. Отказавшись от этих тезисов, наука и философия рискуют заведомо признаться в своей несостоятельности и неспособности объяснить мир. Моя книга показывает, что оснований для такого отказа недостаточно, и направлена против мистерианства. Она демонстрирует, что свобода и ответственность не нуждаются в нематериальной субстанции, квантовой неопределенности и нарушении локальной супервентности и что не нужно искать лакуны в законах природы. Кроме того, книга проясняет ключевые философские понятия.
Прояснение терминов «причина», «свобода воли» и «ответственность» необходимо, поскольку от них непосредственно зависят выводы о возможности ментальной каузальности, свободы и ответственности. Бытовые значения этих слов слишком туманны, а философы предлагают различные, иногда не согласующиеся между собой определения. Из различных определений следуют различные, порой даже противоположные выводы. И утверждение о возможности ментальной каузальности, свободы и ответственности, к которому я прихожу в тексте, также обусловлено выработанными в ходе рассуждения формулировками. Почему я прихожу именно к этим определениям и нет ли в этом произвола?
Я использую метод последовательных итераций. Вначале я ориентируюсь на самые общие определения, практику словоупотребления, и пытаюсь выявить заложенные в ней интуиции. Эти интуиции в ходе анализа преобразуются в более точные философские формулировки, а затем сопоставляются с достоверными философскими утверждениями. Согласовав ключевые утверждения и объединив их в философскую позицию, я вновь уточняю понятия. Это позволяет мне утверждать предпочтительность принятых определений. Они ближе других к обыденному словоупотреблению, точнее схватывают исходные интуиции в понимании этих слов и согласуются с современным научным дискурсом. Из этого следует, что в моей книге не желаемая философская позиция определяет значения понятий, а исходные интуиции и практика словоупотребления. Полученный результат – это своеобразное рефлексивное равновесие между обыденным словоупотреблением, техническими определениями понятий и связанными с ними философскими убеждениями.


