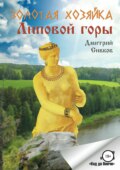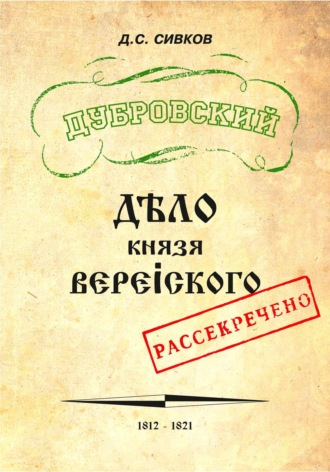
Дмитрий Сергеевич Сивков
Дубровский. Дело князя Верейского
VIII
На пути к себе в имение князь то и дело возвращался мыслями к разговору в Меньшиковском дворце. Тут же ему мысленно рисовался сам предмет речи и больше – эмалевые образки. Рассказы отца о тех, кто на них изображён, становились в детстве вроде уроков по истории Отчизны. Вот он кладёт на ладонь образ тот, что слева, – князя Владимира Святославича, прославленного в лике святых как равноапостольный. Известен как Креститель, выбравший для родного государства путь христианства, а ещё – как Красное Солнышко, представленный в былинах и сказаниях. На правом медальоне – сыновья Владимира – Борис и Глеб. Убитые братом Святополком Окаянным, они стали первыми святыми Руси. Канонизированные в лике мучеников-страстотерпцев, Борис и Глеб считаются покровителями Отечества и небесными помощниками русских князей. Центральный лик – святой равноапостольной княгини Ольги. Мать Святослава – отца Владимира Крестителя, она первая из державных русичей приняла христианство.
Саженье не было в чистом виде женским украшением, хотя центральное расположение лика Ольги косвенно это подтверждало. Но в первую очередь оно являлось одним из атрибутов власти князя Тверского.
IX
Для Верейских-Палеологов эта реликвия наполнилась ещё и особым смыслом из-за важной роли Константинополя в христианизации Руси. Ведь из многих вариантов государственной религии Владимир в 987 году выбрал крещение «по закону греческому». Сам после обряда принял имя Василий – в честь византийского императора Василия II – и взял в жёны его сестру Анну. Княгиню же Ольгу за тридцать лет до этого лично крестил на берегу Босфора император Константин VII.
К тому же все четверо святых почитались и католической церковью. Как теперь думалось Верейскому, это тоже могло повлиять на выбор саженья в качестве ритуального артефакта. Конкордат Наполеона 1801 года частично возвращал церкви утраченный в революцию 1789 года статус религии большинства и связь с Ватиканом. Революционные церковные реформы вызвали и недовольство Папы Римского, и довели до раскола в самой Франции. Требовалось как-то нивелировать эти последствия. Так что, возможно, Бонапарт, как заправский некогда артиллерийский офицер, старался одним ядром поразить две цели. А может, и три. Будь подпоручик роты бомбардиров иного склада ума, не быть ему генералом в двадцать четыре года, а ещё через десять лет – и императором.
Вообще, предсказуемый и уверенный в себе человек хорош только на работе, иссохшей от любви к дуракам. Выполнение сколь-либо ответственных задач требует куда большего, чем готовность – и уж тем паче желание – непременно разбить лоб. Не говоря про то, чтобы эти задачи толково ставить.
Разведка – дело семейное
I
Неделю Арбатово и Верейский привыкали друг к другу. Имение с трудом, как подслеповатая старуха-кормилица, опознало в импозантном, холёном, чуть лысеющем господине некогда вихрастого барчука. Ему же это далось без труда – с его юных лет здесь мало что изменилось, а внутреннее ощущение родного крова пришло не сразу.
На беглый взгляд, всё было прежним: неизменные, словно лепнина, воркующие голуби на фронтоне дома; в гостиной – кресла величиной с небольшую бричку и зеркала, морщинистые в углах от отслоившейся амальгамы; тома в библиотеке в заскорузлых, как кожа седла, переплётах с ремарками деда на жухлых страницах; людская, где любил тайком от гувернёра уплетать обжигающую рот картошку с ржаным в серых льдинках соли хлебом… Но лишь когда эти картинки наполнились потаёнными запахами и стали говорить на знакомом языке, всё окончательно встало на свои места.
Произошло это так. Василий Михайлович, уже томимый праздностью, осматривал библиотеку. В руках оказалась книга на французском – солидная, как требник митрополита. Открыл наугад – взгляд согрели заметки на полях. Лет сто назад, не меньше, дед Андрей Дмитриевич вывел: «Размышление сиё достойно – разумно и сердечно». С улыбкой князь провёл ладонью по круглому мягкому росчерку… Тут же ноздри уловили запах шершавой бумаги – она отдавала и скислым молоком, и засушенным смородиновым листом.
II
Встревоженный таким открытием: «Не показалось ли?!», князь устремился в гостиную. Её окутывал шлейф аромата, исходящего от подоконников, где сушился липовый цвет. Сладковатый, чуть дурманящий запах – такой источают дебютантки на губернаторских балах до первой кадрили или невесты, ещё не окуренные кадилом у алтаря.
Насладиться состоянием помешал Харлов. Управляющий обозначил себя лёгким покашливанием. Под мышкой отставной майор зажимал амбарные книги, ему не терпелось уже отчитаться о делах, чего хозяин имения всячески избегал. Заверения в том, что ему всецело доверяют, не могли успокоить служаку, привыкшего держать отчёт своим командирам.
Князь же доверие к такого рода арифметике утратил ещё до первых седых волос. Куда важнее аккуратных столбцов цифр и даже регулярного поступления дохода на банковский счёт было то, что он увидел в имении. Крестьянские дворы в Арбатове большей частью основательные, соломенных крыш почти не встретишь, разве что у захудалого хозяина. Крыты хаты всё больше дранкой, а то и черепицей. Немало кто водил пчёл, жили тут и гончары, и бондари, да ещё по столярному и кузнечному делу. На всём – от круглобоких «заморских» коров до цепных собак – лежала печать основательности.
III
Да и жили арбатовцы подолгу – вернее признака благополучия не найдёшь. На завалинках коротали дни старики и старухи с выбеленными головами, с иссохшей, едва ли не пергаментной кожей на обветренных лицах и костистых руках.
Единственное, что могло придать им живости, – это приближающаяся гроза. Раскаты грома ускоряли кровь в их вытянутых жилах, отчего к щекам точками, на манер веснушек, приливал румянец, руки же несуразно степенности их хозяев начинали мелькать в крестных знамениях, губы – шептать, уже казалось, забытые молитвы. Всем этим ведал страх, но не страх гибели. Пугало оказаться застигнутым врасплох и не успеть исповедаться у суетного от нескончаемых хлопот батюшки.
Этим Василий Михайлович казался схож с арбатовцами. Быть застигнутым врасплох для охотника за чужими секретами – хуже нет. Картины этого видятся в тревожных снах, они гонят прочь забытьё с мятых подушек и устраивают рандеву с бессонницей. Случись такое наяву, только и останется, что исповедоваться. Есть в чём. Работа помощника по особым поручениям военного министра сводилась к потаканию чужим порокам, игре на слабостях человеческих, лощению надежд. Всё это рядом не стояло с добродетельностью.
Но Верейский перед кончиной скорее предпочёл бы выковыривать говядину меж зубов, допивая херес, чем исповедоваться в грехах, долгие годы принимаемых им за служение Отчизне.
IV
Вот на такие мысли наводили князя амбарные талмуды упарвляющего, испещрённые столбцами расчётов-перерасчётов. Скучные, надо отметить, мысли. Верейский тут же позвал «дядю» пить чай, где запретил говорить о делах, так как «это мешает усвоению пищи». Из-за стола же прямиком отправился гулять по усадьбе, оставив Харлова с его отчётами не у дел.
Каменный дом в британском стиле построил ещё отец его родителя, тот в свой черёд разбил английский парк. В пику моде обустройства на французский манер с выраженной геометричностью и симметрией рара создал некое единство с окружающим пейзажем. Сыну тоже было по душе равновесие между вмешательством в природу и её неупорядоченным естеством.
В этом проявлялось врождённое неприятие Верейскими абсолютного контроля как такового, а не только человека над природой. А ещё – нежелание быть как все. Те же, кто мог себе позволить обустроить парк, желали видеть этакий мини-Версаль, затейливо стриженые деревья и кустарники, высаженные по шаблону и образующие симметричные узоры.
И всё же тщательно созданная особая атмосфера поместья не удержала здесь родителя. Внезапная кончина любимой жены для Михаила Андреевича стала решающим фактором переезда в Петербург. Этому способствовало и неприятие мира смоленской шляхты, её цепкости к умирающим традициям. Да и та не могла простить князю обособленности и женитьбы на незнатной и бедной дворянке из Московии.
V
Праздная жизнь в столице князю была по карману, но не по душе. Связи и имя помогли определиться на службу в Коллегию иностранных дел. Тогда она совмещала дипломатическую деятельность и внешнюю разведку. И тут поперёшноть Верейского, к тому же знающего латынь, польский, французский и немецкий языки, пришлась ко двору. Князь довольно быстро стал одним из помощников главы ведомства – канцлера графа Никиты Петровича Панина. В частности, отвечал за сбор и анализ наблюдений дипломатических миссий за турецкими войсками, прогнозировал их действия.
Эти докладные попадали на стол императрицы Екатерины и вкупе с другой информацией формировали основу стратегического планирования. Оно вылилось в манифест 1783 года «О присоединении полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под державу Российскую». Полуостров и другие земли Таврии империя обрела скорее силой дипломатии, чем оружия.
Коллегия иностранных дел также намечала политические шаги князю Григорию Александровичу Потёмкину. С её подачи ведавший крымскими делами светлейший обязал являть миролюбивое, дружелюбное отношение войск к населению и знаки уважения татарской знати. Это оказало должное воздействие и привело к «бескровному» присоединению Крыма. Мирно же в состав империи вошли Кубань и две крупнейшие ногайские орды – Едисанская и Джамбулуцкая присягнули на верность России. Имелась в этой политической виктории и толика князя Михаила Андреевича Верейского.
VI
Всё это сыну открылось позже. В молодости ему хватало знать и то, что отец служит «по дипломатической линии». Родитель между тем исподволь готовил сына в помощники. Для этого дал ему возможность получить многоплановое образование. Самому-то пришлось уповать главным образом на природный ум и характер. Наследник оказался не обделён ни тем ни другим, знания же, как катализатор, должны были их раскрыть более полно и в лучшем свете.
Образование для Василия началось в пажеском корпусе. Полученные там знания достаточны тем, кто видел себя в будущем камер-пажом. Верейские же рассчитывали на иное служение. По выпуску молодой человек отправился изучать юриспруденцию в Лейпцигский университет. Окончив учёбу в Германии, бакалавр права собирался вернуться в Россию, но родитель направил его во Францию. Там княжич детально познавал экономику в Страсбургском университете. Лишь два диплома стали достаточным основанием для отцовского благословения вернутся на родину.
Но и тут Михаил Андреевич не спешил приобщить сына к делам. Для начала определил его в Санкт-Петербургскую таможню. Служба здесь могла помочь Василию установить связи в коммерческих кругах Европы – очень важного источника информации. Вести с торговых судов нередко оказывались и оперативнее, и конкретнее тех, что прибывали диппочтой. К тому же командовал столичной таможней большой приятель князя Александр Николаевич Радищев.
VII
В конце концов эта дружба обернулась для Верейских большими проблемами. Михаилу Андреевичу доводилось бывать в доме Радищева на Грязной улице. Нередко хозяин в близком кругу устраивал читку своих произведений. Они носили дух вольнодумства, товарищи – такие, как князь – могли и не разделять всецело позицию автора, но ценили образ его мыслей.
Иную оценку сочинениям главного таможенника дала императрица. Автора «Путешествия из Петербурга в Москву», изданного в 1790 году, Екатерина назвала «бунтовщиком, хуже Пугачёва». Подобная рецензия может как обессмертить любого сочинителя, так и укоротить его жизнь, открыв дорогу на плаху. Радищева арестовали. На допросах он не выдал никого из тех, кто посещал читки, и этим уберёг их от беды. Самому ему рассчитывать на милость не приходилось. По уложению о «покушении на государево здоровье», о «заговорах и измене» Радищева приговорили к смертной казни. Но именной указ Её Величества «по милосердию и для всеобщей радости» заменил высшую меру десятилетней ссылкой в Илимский острог.
Молчание каторжника не уберегло от неприятностей Верейского. Нашлись завистники его положению в Коллегии иностранных дел, тем более что князь смог занять это место без высокого положения в обществе и фавора. Донос лёг на стол шефа – Ивана Андреевича Остермана, назначенного главой Внешнеполитического департамента после смерти Панина. Если бы бумага ушла в Тайную экспедицию, «доброхоты» потирали бы руки.
Граф не дал пасквилю ход. К тому же, зная, что это не остановит доносчиков, настоял на отставке князя и выезде его на лечение за границу.
VIII
Президент Коллегии в своё время также едва не пострадал от интриг. После восшествия императрицы Елизаветы на трон его родителя – графа Андрея Ивановича Остермана, вице-канцлера при Анне Иоанновне, обвинили в государственной измене. Колесование уже на лобном месте заменили «вечным заточением в Берёзове». Сына же лишь перевели из гвардии в армию. Мало того, разрешили выехать по делам за границу. Цель такой милости – завладеть капиталом семьи, его отец благоразумно перевёл в голландский банк с непременным условием выдать их лично ему или сыну.
Русскому министру при Генеральных штатах направили указание: по получении Остерманом денег арестовать его под благовидным предлогом и выслать домой. Посланник, возмущённый таким коварством, посоветовал молодому человеку не настаивать на выдаче капитала, а совершить заграничное путешествие. Благодаря этому будущий главный дипломат империи объехал почти всю Европу, изучил несколько языков и существенно пополнил своё образование. Всё это по возвращении на родину позволило ему сделать блестящую карьеру по дипломатической линии.
Советом Верейскому немедля ехать в Карлсбад на лечение Остерман возвращал долги провидению.
IX
Глава Коллегии иностранных дел оказался прав. Вскоре после отъезда Михаила Андреевича по его душу явились агенты Тайной канцелярии. Остерману пришлось лишь руками развести, а людям главы политического сыска Шешковского – возвращаться в казематы ни с чем.
Желудок у князя и вправду, как у любого работающего день-ночь человека, давал сбои. Год нахождения на водах Карлсбада и хлопоты местных эскулапов настроили желудочно-кишечный тракт не хуже механизма Пражских курантов – средневековых часов с астрономическим циферблатом. Именно Прагу князь выбрал следующим местом жительства. Здесь Верейский открыл бюро по консультации желающих вести торговые дела в России среди подданных австрийских Габсбургов. Таких оказалось немало, так что дела у конторы Vereisky&Co шли хорошо. В компаньонах ходил сын, для чего Василию Михайловичу пришлось выйти в отставку и уехать из России. Тут-то пригодились и его знание языков, и европейской жизни, а также опыт работы и связи на таможне.
После смерти императрицы Екатерины и коронации Павла I наметились изменения и в политической жизни. Радищеву вышла амнистия, ему разрешили вернуться из Сибири – пока лишь в своё имение в Калужской губернии. Только при Александре I его призовут в столицу и назначат членом Комиссии для составления законов.
Х
Коснулись эти изменения и Верейских. Остерман не забыл укрытого за границей до поры до времени козыря. Михаилу Андреевичу предложили вернуться на работу в Коллегию иностранных дел, но уже на нелегальном положении. Бюро Верейских оказалось отличным прикрытием и местом сбора информации. Человек с репутацией пострадавшего «за вольнодумство», да ещё и знатный, в чьих жилах текла кровь двух царственных родов, вызывал доверие недругов России. От них-то и шли наиболее важные сведения политического, экономического и военного характеров.
Тут уж отцу пришлось вводить в курс дела и сына. Тот легко усвоил непростые правила жизни тайного агента. Оба оказались причастны к секретному договору между Австрией и Россией о военной помощи в случае, если Пруссия нападёт на какое-нибудь из союзных государств. Позже младший Верейский отправился в Англию открывать представительство Vereisky&Co. Основной же целью поездки в Лондон стала добыча сведений, необходимых для заключения трактата между Россией и Англией о дружбе, торговле и мореплавании. Это стало для Василия Михайловича проверкой на зрелость. Успешной, надо сказать.
Бюро Верейских после этого стало работать на два направления – английское и французское. Главный офис теперь находился в Париже. Здесь, с узурпацией власти Бонапартом, находился главный центр противостояния и угрозы России.
XI
Казалось бы, для Верейских и дела, и обстоятельства начинают складываться наилучшим образом. Но в 1797 году, ссылаясь на возраст и «болезненные припадки», испросил себе увольнение Остерман. За этим последовал целый ряд едва ли не ежегодных назначений на руководство Коллегией иностранных дел: Безбородко, Ростопчин, Панин, Кочубей.
До этого у кормила внешней политики люди стояли по десятку лет и более: тот же Остерман – шестнадцать. Вся эта чехарда не сулила ничего хорошего и сказалась на деятельности ведомства как в штатном, так и в особом режимах. Не жди доброго сидра, когда трясут несозревшие яблони. В итоге в 1802 году Коллегию высочайшим указом подчинили только что учреждённому Министерству иностранных дел.
В эти годы задания Верейским из Петербурга фактически сошли на нет. О том, что их не забыли напрочь, говорило лишь жалованье, исправно поступавшее на банковские счета. В этих франках не было ни радости, ни нужды: доходы от коммерции с имения и так позволяла жить, ни в чём себе не отказывая. Михаил Андреевич, воспрянувший духом от того, что снова в строю, пусть и невидимого фронта, сник. Хотя продолжал собирать информацию, анализировал её в надежде, что когда-нибудь она будет востребована.
ХII
Позднее сын думал, что именно жажда действий заставила отца броситься в холодную воду ноябрьской Сены. О том, как русский князь спасал пассажиров рухнувшего с моста Менял омнибуса, говорили на всех рынках. Но не одни торговки языки чесали, заметки о происшествии опубликовали La Gazette, Journal de Paris, Journal des Dеbats.
Плавал Михаил Андреевич, чьё детство прошло на берегах Днепра, отлично. А вот от закалки с годами не осталось и следа. Пневмония сожгла его лёгкие за неделю. Париж не забыл своего недавнего героя. Сообщения о его кончине в столичных газетах располагались рядом с некрологами о Шарле Леклерке, генерал-капитане Сан-Доминго, муже сестры Наполеона.
Сын не успел из Лондона на похороны. Отца упокоили на недавно открытом кладбище Пер-Лашез. Наследнику оставалось лишь позаботиться о памятнике. От печальных мыслей отвлекали заботы. Василий Михайлович денно и нощно пропадал в конторе Vereisky&Co. Приходилось вникать в суть дел парижского офиса и его «тайной бухгалтерии».
Во многом помогли записки отца, составленные им перед смертью. Понимая, что не выкарабкается, князь, пока мог, записывал наставления сыну. Каждый новый лист запирал в сейф, код от него знали только Верейские, опасался, что в какой-то момент обессилеет или впадёт в беспамятство. Тогда секретная информация окажется доступна кому угодно, хоть гробовщику, когда он придёт снимать мерки.
ХIII
Вскоре наступил 1805 год. Он положил начало открытому российско-французскому противостоянию. Здесь-то и проявился военный гений Наполеона, злой для россиян и их союзников. Противостоять ему можно было отнюдь не числом, а уменьем. И разведка в этом значила не меньше, а то и больше, чем тактика со стратегией.
Осознавал это и граф Виктор Павлович Кочубей, последний руководитель Коллегии иностранных дел и первый – Министерства внутренних дел Российской империи. По его указанию активизировалась работа с Верейским. Уже скоро получаемая от него информация оказалась в категории «особо важная». Успешная работа поначалу во многом зиждилась на тайном наследстве отца. Но много ли хлеба испечёшь на старой закваске? И вот уже «выпечка» сына по-своему могла поспорить с лучшими булочными Люксембургского сада.
Сознавали это и в Петербурге. Довольно быстро там перестали употреблять слово «сын», когда речь заходила о Верейском. Свой почерк в работе молодого князя узнавался без труда, а положение его упрочнялось. Не повлияла на него и отставка Кочубея с поста министра по собственному желанию в знак несогласия с Тильзитским миром. Даже наоборот, в результате князя назначили на должность помощника министра внутренних дел по особым поручениям.
Сохранился этот пост и с передачей функций внешней разведки Министерству военных сухопутных сил. Незадолго до отъезда из Франции Верейского известили о присвоении ему чина статского советника. В армии он занимал положение между чинами полковника и генерал-майора.