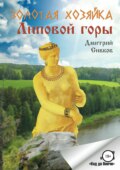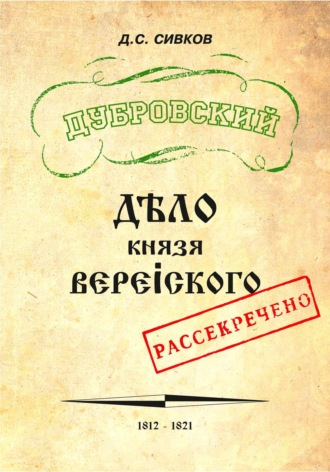
Дмитрий Сергеевич Сивков
Дубровский. Дело князя Верейского
II
Поначалу военный министр остановился на лейб-гвардии в Семёновском полку. Обособленность его расположения казалась весьма удачной: здания примыкали к большому плацу, а фасадами выходили к Загородному проспекту, Рузовской и Звенигородской улицам, а с юга территория ограничивалась Обводным каналом. Но затеянная год назад реконструкция основных зданий 1790-х годов постройки внесла в жизнь по уставу все атрибуты большой стройки. Повсюду встречались то обстоятельные каменщики, то бойкие плотники, то ушлые подрядчики и нерасторопные возницы. Лишних глаз – не одна сотня, про каждого не дознаешься.
Неподалёку – вдоль Гороховой улицы, от Фонтанки у Семёновского моста до Загородного проспекта – квартировал лейб-гвардии Литовский полк. Однако воинская часть находилась в стадии формирования, с присущими этому процессу неурядицами. По схожим причинам отвергли и Лейб-Гренадёрский полк: удалённые от центра города казармы с выходом на берега Большой Невки и Карповки заселили ещё на этапе завершения строительства.
Даже лейб-гвардии Финляндский полк, имевший собственную территорию на Васильевском острове с 1808 года, забраковали. Причина – за три года уклад прежнего военизированного деревенства вновь заявил о себе. По соседству с новыми казарменными зданиями на улицах-ротах появились обычные частные дома, где любой мог снять жильё. В том числе и наполеоновские агенты, накануне предстоящего вторжения их засылка, без сомнений, активизировалась. По этой же причине исключалось и здание военного министерства. В его стенах наверняка орудовала если не агентура, то уж её информаторы – вольные или невольные – точно.
III
Так или иначе все гвардейские части оказались неподходящими для проведения совещания агентов военной разведки. Даже, казалось бы, самый беспроигрышный вариант с Кавалергардским полком дал осечку. Да, казармы, построенные Луиджи Руска три года назад, в архитектурном отношении были на высоте. Один только офицерский корпус на Шпалерной с центральным зданием, украшенным портиком и скульптурами древнеримских богов войны – Марса и Беллоны, чего стоил. В то же время большое число тёмных галерей со стороны двора и крыши с низким скатом делали казармы малопригодными для петербургского климата.
Тут уж, как говорится, ничего не попишешь, да и для поиска нужного здания – дело третье. Открытием же для не так давно занимающего свой пост министра стало то, что внутри этого пространства было довольно тесно. В Кавалергардском полку располагались: служебные корпуса с конюшнями во дворах, госпиталь с садом, помещения для размещения семи эскадронов. Так что сами кавалергарды терпели большие неудобства и занимали дополнительные помещения вне казарм. Если гвардейцы ещё и могли утешаться пословицей: «В тесноте, да не в обиде», то в военном министерстве искали другие варианты.
IV
Когда ставка на гвардейские части не оправдалась, директор канцелярии стратегической разведки Особенного отдела полковник Алексей Воейков наведался в другие здания ведомства. Выбор в итоге пал на Меншиковский дворец, где размещался Первый кадетский корпус.
Усадьба фаворита Петра Первого Александра Меншикова, обвинённого в государственной измене и казнокрадстве, поступила со всем имуществом в казну. В 1731 году здание перестроили для Императорского сухопутного шляхетного корпуса. Своё нынешнее название кузница элиты офицеров русской армии получила при императоре Павле. Одним переименованием дело не ограничилось. Значительные изменения в систему образования внёс на посту директора генерал-лейтенант Михаил Кутузов. Так, вместо пяти возрастов сформировали роты – четыре мушкетёрские и одну гренадерскую, всех гражданских учителей заменили офицерами. Нововведённые занятия по тактике и военной истории проводились не только с воспитанниками, но и с офицерами.
Но в данном случае имело значение то, что первое каменное здание Санкт-Петербурга располагалось обособленно, недалеко от стрелки Васильевского острова. Четырёхэтажный фасад дворца образца архитектуры стиля барокко выходил на Неву. К тому же большинство воспитанников находились в учебных полевых лагерях для закрепления спецдисциплин: фортификации, тактики и «фрунтовой службы».
V
Устроители совещания не зря так пеклись о его секретности. Её плотной завесой окутана разведывательная деятельность любого государства. Это вполне естественно, ведь предназначение разведки состоит в выведывании чужих тайн и сохранении собственных. Всё это прекрасно осознавал Барклай де Толли, назначенный императором Александром I военным министром в начале 1810 года.
В свои пятьдесят два года Михаил Богданович являлся опытным военачальником. Один решительный и неожиданный для врага переход его корпуса по льду Ботнического залива в 1809 году чего стоил. Смелый манёвр обеспечил России победный исход войны со Швецией, а самого триумфатора «за оказанные отличия» произвели в генералы от инфантерии.
Так что новому министру чины доставались не за шарканья по паркету Зимнего дворца. Барклай де Толли знал на личном опыте цену сведениям о противнике при ведении боевых действий. Когда ему говорили о том, что разведывательная деятельность организована неважно, он с солдатской прямотой поправлял: «Плохо». В первую очередь это относилось не к войсковой разведке, а к внешней. В её структуре и организации ещё со времён Петра Первого не происходило значительных изменений.
Сведения, поступающие от дипломатических миссий из-за рубежа, не несли ценной и оперативной информации. Одно название – «разведка», на самом деле – бюро по сбору слухов и общедоступных данных без риска для здоровья, не то что жизни. Вялотекущую форму этой «болезни» обострил недруг, какого у России не было со времён короля Швеции Карла XII – наполеоновская Франция. Понимание замыслов Наполеона могло не только стать пищей для российских штабных умов, но и спутать карты противника.
VI
Требовалось организовать системную охоту за планами грозного и мощного противника. Министр составляет докладную записку по этому вопросу на имя Александра I и вскоре получает добро на учреждение Особенной канцелярии. Эта структура вела три направления: стратегическое – добыча информации за границей, тактическое – сбор данных о войсках, дислоцированных в непосредственной близости от границ, контрразведка – работа по выявлению и нейтрализации вражеской агентуры.
Функции контрразведки легли на воинскую полицию, образованную во исполнение секретного указа Александра I. Её подразделения имелись в каждой действовавшей армии и находились в ведении начальников их штабов. Что до тактической разведки, то она не имела чёткой организации и являлась слабым звеном в общей структуре. За организацию здесь отвечали специальные агенты на границе, военные коменданты приграничных городов и командование расквартированных там частей.
В качестве агентов за кордон в основном отправляли местных жителей. Толковых сведений те раздобыть не могли, так как в военных делах имели понимания не больше, чем в лечении язвы желудка. Полковые писари плевались, записывая никчёмные, но обстоятельные сведения лапотных агентов о ценах на воск, щетину, рожь и репу. Всё это отчасти компенсировали общие «известия о движении неприятельских корпусов».
VII
В деле же организации стратегической разведки уповать на абы каких людей непозволительно. А по большому счёту – преступно. Главная нагрузка в получении секретных данных, а также сбор и анализ общедоступной информации ложились на агентов Особенного отдела. Первый состав – семь офицеров – действовал во Франции, Австрии, Саксонии, Баварии, Швеции, Испании и Германии.
Штат канцелярии, вопреки русскому обыкновению «один с сошкой ― семеро с ложкой», оказался малочислен: директор, три экспедитора и один переводчик. Что касается сотрудников, то их подбор министр никому не доверил и занимался этим делом лично. Так, руководить канцелярией поставил человека из своего ближнего окружения – флигель-адъютанта, полковника Алексея Воейкова. Военная служба этого достойного офицера началась с ординарцев у самого Александра Суворова в швейцарском походе 1799 года.
На деятельность разведывательного отдела Особенной канцелярии сразу же наложили гриф чрезвычайной секретности. Эти дела не фигурировали в еженедельных министерских отчётах. Деятельность сотрудников регламентировали «Особо установленные правила». Они предписывали агентам собирать данные «о числе войск в каждой державе, об устройстве образовании и вооружении их… о состоянии крепостей, способностях и достоинствах лучших генералов и расположении духа войск». Помимо этого, «не менее ещё желательно достаточное иметь известие о числе, благосостоянии, характере и духе народа, о местоположениях и произведениях земли, о внутренних источниках сей империи или средствах к продолжению войны…».
VIII
Летом 1810 года специальные агенты отбыли в посольства европейских столиц. Требования к кандидатам на эту должность предъявлялись высокие, и исключительно только соответствие им являлось основанием для зачисления в штат. Оттого и состав получился весьма разномастным.
Были тут и представители известных дворянских фамилий, имевшие хорошее домашнее образование и уже боевой опыт: Григорий Орлов, Павел Брозин и Александр Чернышёв. Этих направили соответственно в Париж, Берлин и Мадрид. В их компании оказался и сын бедного лифляндского чиновника поручик Павел Граббе. Он окончил кадетский корпус и с успехом выдержал специальный экзамен, его путь лежал в Мюнхен. Прошли экзамен и два офицера свиты Его Императорского Величества: голландский уроженец барон Фёдор Тейль ван Сераскеркен убыл в Вену, а имевший шотландские корни Роберт Ренни – в Берлин.
Виктор Прендель не мог похвастаться молодостью и образованием, зато имел большой опыт. Да ещё какой! Тирольского дворянина конвент Франции приговорил к обезглавливанию на гильотине за его роялистские взгляды. Но смертнику удалось бежать и записаться в ряды австрийской армии. Там ему в 1799 году довелось воевать под знаменами самого Суворова в Италии и даже командовать казачьим отрядом. Покорённый духом русской армии, он стал её офицером, нередко выполнял секретные задания, некоторые – лично от императора Александра I. В сорок четыре года Пенделя назначили резидентом в столицу Саксонии Дрезден.
XI
Спустя два года все агенты получили вызов явиться в Санкт-Петербург. Те, чьи личные дела хранили истории, способные впечатлить не только генеральских дочек, но и их отцов, ехали в Россию с беспокойством. Так чувствует себя штык-юнкер, впервые званый на офицерскую попойку
Никто не знал, что именно кроется за этим приказом. Первое, что шло на ум всем, – отставка в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей. Второе и третье – носило личный характер и имело куда меньшее значение. Но когда все увидели, что обширный, как небольшой плац, кабинет начальника Кадетского корпуса заполнен соратниками, у большинства отлегло от сердца. Стало понятно – командование объявило всеобщий сбор. Друг другу их не представляли, кто был знаком прежде, обменялись рукопожатиями.
Помимо семи агентов и помощника министра по особым поручениям князя Верейского – с ним большинству уже доводилось общаться за границей – здесь были сотрудники канцелярии разведотдела и ещё несколько лиц. Среди них и Юстас Грунер, бывший министр полиции Пруссии. Эмигрировав в Австрию, он из Вены координировал действия информаторов агентурной сети в германских княжествах. Напротив его – отставной ротмистр русской армии прусский дворянин Давид Саван. Через этого двойного агента в Великом герцогстве Варшавском получали сфальсифицированную в русском генштабе информацию.
X
Все ждали Барклая де Толли. Министр опоздал на полчаса. Оказалось, докладывал императору о совещании и получил на этот счёт высочайшие указания. Доводить же их не спешил, для начала обошёл всех, пожав руку каждому. Затем слово взял докладчик – подполковник Пётр Чуйкевич. Он руководил направлением Особенного отдела по анализу и систематизации поступавших из-за кордона донесений. Офицер, известный собравшимся больше в качестве военного писателя, в отличие от своих творений, оказался доходчив, как гусар с уездной кокоткой на летних манёврах. Есть такой тип авторов: впечатляешься услышанной от них историей, но остаёшься разочарованным от её изложения на бумаге.
Суть выступления: войны с Наполеоном следовало ожидать уже этим летом, максимум – через год. Выводы основывались на составленной отделом дислокационной карте французских частей с отметкой всех их передвижений. Разведданные даже позволяли ориентировочно оценить численность первого эшелона французских войск – до полумиллиона человек.
Исходя из этого и разрабатывалась стратегия в предстоящей вой военной кампании. Основная её идея состояла в том, чтобы как можно дольше избегать прямых крупных столкновений.
– Уклонение от генеральных сражений, партизанская война летучими отрядами в тылу операционной неприятельской линии, недопускание до фуражировки и решительность в продолжении военных действий, – резюмировал Чуйкевич. – Такие меры для Наполеона внове, для французов утомительные и союзникам их нестерпимые.
XI
– Благодарю, Пётр Андреевич, – отозвался министр. – Как видите, господа, войны не избежать. Да вы, думаю, это и без того уже поняли. Многие из вас сейчас, можно сказать, работают в тылу будущего противника. Ничего не поделаешь, господа, стратегия русской армии в начале кампании – отступать с боями. Но потеря нескольких областей не должна нас устрашить, ибо целость государства состоит в целостности его армий. Наша, в данном случае – ваша, основная задача состоит в дезинформации. Требуется донести до французов и их союзников якобы основную идею штаба нашей армии – дать генеральное сражение вблизи рубежей. Пусть они исходя из этого и разрабатывают генплан своего блицкрига, как говорят немцы. Я хотел, чтобы вы услышали это непосредственно от меня. Донести это в письменном виде рискованно. Не доверяйте информации или указаниям иного характера на этот счёт. В случае получения таковых надо твёрдо знать, что это фокусы вражеской контрразведки и вы на грани провала. В это время стоит проявлять бдительность как никогда. И да пребудет с вами Бог, и не отвернётся удача!
Барклай де Толли направился к выходу. Присутствующие встали с мест.
– Господа, – объявил полковник Воейков, когда за министром зарылась дверь. – Сейчас прервёмся ненадолго. Рядом в кабинете организован буфет с закусками и самоваром. Прошу, угощайтесь. Кто-то ведь прямо с дороги. Сбор через полчаса. Подполковник Чуйкевич более детально введёт в курс общего положения дел и расклада сил в Европе. Далее с каждым из вас мы в личном порядке определим его цели и задачи.
XII
Начальник Особенной канцелярии направился к выходу из зала. Уже в дверях он повернулся, нашёл глазами князя Верейского и обратился нему:
– А вас, Василий Михайлович, прошу следовать за мной.
Князь, помедлив, двинулся следом за начальником Особенной канцелярии. Нерасторопность Верейского его коллеги офицеры приписали образу жизни штатского человека. Причиной же стало внутреннее замешательство. Смутил отнюдь не вызов на аудиенцию, а его тон. Обычно при обращении к нему начальственные нотки в голосе полковника растворялись куском сахара в горячем чае. Тут же слова хрустели на зубах чёрствым сухарём.
О, сколькими возможностями природа наделила человека для демонстрации своих чувств и эмоций! Слова что, слова – удел зависимых или прямых, как степной большак, людей. Обладающий силой либо влиянием, прежде чем заведёт речь, может извести так, что и говорить ему уже незачем. Если только для ясности. И арсенал для этого широк, словно у армии накануне прорыва обороны: мимика, интонации голоса, взгляд, жестикуляция, шаги… Когда наблюдаешь такие знаки, то на ум приходят дороги среди степей.
Почётный резерв
I
Командирские эполеты при каждом шаге вздрагивали золотой бахромой, как если бы её тревожил лёгкий ветер. Верейский, следуя за начальником, не отрывал глаз от пляски завитушек, но ум его занимали другие мысли.
Что могло стать причиной такого сухого к нему обращения? Ответа на этот вопрос князь не находил., Он вправе был ожидать поощрения или награды. В Париже в осведомители ему удалось заполучить сотрудника военного министерства. Да ещё какого! Агент Мишель – тот, кто готовил сводки по численности и дислокации французских войск для самого Наполеона.
Провал? Но судя по тому, что удалось без проблем вернуться в Россию, вряд ли. Поводов заподозрить себя в двойной игре он не давал. К тому же – будь так, вышагивал бы сейчас не по Меншиковскому дворцу, а по каземату Петропавловки. А если раскрыл себя и оказался для Петербурга источником дезинформации? Такое нельзя было исключать.
В конце концов князь отмахнулся от этих дум и лишь старался не отстать от Воейкова, уж больно тот оказался скор на ногу. Редкий пример того, как человек одинаково быстро и двигается, и соображает. Как правило, он на чём-то экономит.
II
Внутренний замок массивной двери с медной табличкой «Инспектор классов полковник К.О. Оде-де-Сион» оказался с характером. Пока Воейков елозил ключом в замочной скважине, мысли князя переключились на брелок. Тот маячил на серебряной цепочке, вдёрнутой в ушко ключа. Врейского заинтересовали вытравленные на нефритовом овале угольник и циркуль – символы масонства. Маловероятно, чтобы полковник имел отношение к тайному обществу, тогда – хозяин кабинета, отведённого разведке на время совещания.
Обстановка резиденции инспектора классов свидетельствовала о его неприхотливости, если не аскетизме. Простая добротная мебель, на стене – лишь гравюра «Переход русскими войсками под командованием Суворова Чёртова моста» и деревянное католическое распятие. Если принять гравюру за икону, то – келья аббата небольшого монастыря, да и только.
Воейков счёл за должное пояснить.
– Карла Осиповича за глаза называют монах и солдат. Француз Шарль Оде поменял монашеский обет на воинскую присягу, и не одну: французскому, прусскому, польскому и российскому властителям.
У князя едва поднялись брови.
– Да-да… Но на русской службе он уже двадцать лет и проявил себя наилучшим образом. Хорошо зарекомендовал себя при усмирении Варшавского бунта, да и абы кому граф Александр Васильевич Суворов не доверил бы наставничество над своим отпрыском. Ну и в России Шарль Оде стал дворянином Карлом Оде-де-Сион, полковником… Для таких людей, как он, это значит куда больше, чем то, на каком языке лопотала их кормилица.
III
Полковник допускал образность речи, но лишь в разговоре со знакомыми. Прослыть за умника в армейской среде – не самый лучший вариант. Между тем Алексей Васильевич являлся не только книгочеем, но и литератором: его оды и переводы с немецкого и французского, в том числе Вольтера, охотно брали редакторы столичных журналов.
Воейков жестом предложил князю садиться. И тут же присел рядом на один из деревянных стульев. К тому же чёрствость в голосе сошла на нет. Ободрённый хорошими знаками Верейский поддержал стиль разговора.
– И на каком языке в твоих снах шумят на ветру деревья, не имеет значения?
– Имеет, Василий Михайлович, имеет, – как бы с сожалением ответил полковник и добавил: – Но не является определяющим в вопросе: можно доверять такому человеку или нет.
– А мне? – князь решил не оттягивать неминуемых объяснений.
Штиль на лбу Воейкова разрезали три штормовые морщины, так он оценил прозорливость собеседника.
– Что касается меня, то я всецело да. Но есть и другие мнения. Вы, князь, допустили большую ошибку, расставаясь с Парижем. И то, что вам удалось миновать ареста и вернуться в Россию, можно отнести промыслу Господню или счастливой звезде.
– Ах вот оно что! То-то у меня последнее время сердце не на месте…
– Ладно хоть бьётся, и голова на плечах, а не в корзине гильотины.
IV
– Алексей Васильевич, объясните уже наконец, что случилось?
– Князь, вопросы буду задавать я. Вспомните детально всё, что связано с последним донесением от Мишеля.
Верейскому скрывать было нечего. Накануне отъезда он в очередной раз получил от агента оперативную информацию о дислокации французской армии. Как обычно, зашифровал данные, вписал их невидимыми чернилами меж строк делового письма. Затем Толстой отнёс его в своём мольберте в посольство для отправки диппочтой. Всё как обычно.
– Оригинал донесения уничтожили?
– Ну конечно! Я же говорю – всё как обычно.
– Тогда объясните, каким образом в ваших апартаментах нашли часть сводки? По фактологии и почерку в ведомстве Савари определили, кто её автор.
Князь недоумённо развёл руками. Его начальник понимающе кивнул.
– В итоге самый ценный для нас информатор гильотинирован. К его товарищу, канцеляристу Фуке, трибунал оказался благосклоннее – позорный столб с железным ошейником и денежный штраф.
Верейский никак не реагировал на услышанное. Казалось, он весь ушёл в себя.
Воейков продолжал:
– Вы бы составили компанию Мишелю на эшафоте, если бы полиция обнаружила ту бумажку сразу. Но обыск апартаментов по горячим следам ничего не дал. Лишь неделю спустя хозяин переставлял мебель и за спинкой дивана наткнулся на обгоревший край бумажного листа. Памятуя об обыске, отнёс находку ажанам.