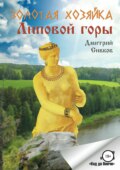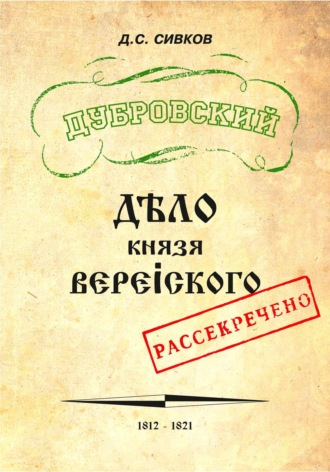
Дмитрий Сергеевич Сивков
Дубровский. Дело князя Верейского
VII
– Саженье великих князей Тверских, – представил реликвию гостям князь, когда те, влекомые любопытством, подошли к столу.
Пока хозяин рассказывал наполненную драматизмом историю украшения, Троекуровы внимательно изучали его, передавая друг другу.
– Да, занимательная повесть, что и говорить, – первым нашёл что сказать Кирила Петрович, когда князь умолк. – Значит, вы у нас потомок сразу двух царственных родов – Рюриковичей и Палеологов. Вот это для меня новость. Правда, слышал что-то такое, но думал, обычная провинциальная молва – слышат звон, да не знают, где он.
Марья Кириловна не нашла что сказать. Не понять было, что впечатлило её больше – рассказ о саженье или его вид. Она зачарованно водила указательным пальчиком по ажурным бусинам, едва касаясь их, как будто опасалась, что золотые кружева растают. Так, не дыша, рассматривают искристые снежинки на холодной перчатке.
Кирила Петрович, влекомый какой-то своей мыслью, взял из рук дочери саженье и приложил к её груди. Та растерялась, застигнутая всем этим врасплох, и не перечила. Троекуров остался доволен увиденным.
– А что, Маша, к лицу тебе это царское саженье. Как пить дать – к лицу! Как думаете, князь?
После этих слов девушка и зарделась отступила назад, отстраняясь от драгоценности.
– Вы, как всегда, правы, Кирила Петрович, – только и нашёлся что ответить Верейский.
Чуть погодя гости и хозяин распрощались, обещая друг другу вскоре снова увидеться. Кто из нас с лёгким сердцем не давал таких обетов, чтобы столь же искренне забыть их, шагнув за родной порог.
Он же Дефорж, он же…
I
Троекуровы ещё не отбыли, а слуга уже доложил о визите господина Иванова. Верейский, занятый мыслями о гостях, особенно – юной соседке, не стал вникать, о ком может идти речь. Подумалось: «Скорее всего, какой-нибудь местный помещик», – велел отвести его в беседку и подать чая. За проводами гостей это забылось, и лишь когда мажордом напомнил о визитёре, хозяин сам решил пройти к нему.
Беседка оказалась пуста. О Иванове напоминали лишь чашка с желтоватой лужицей на дне и тарелка в крошках от печенья. Князь пошёл на берег, и тут его окликнул знакомый голос:
– Простите, сударь, не знаете, князь Верейский освободился?
Василий Михайлович сделал вид, что не услышал, и заковылял шажками подагрика далее.
– Вот глухая тетеря! – выругался гость, и его шаги по песку дорожки за спиной.
– Простите, сударь… – раздалось громогласное уже над самым ухом.
Тут уже князь не сдержался и резко обернулся. Граф Толстой запнулся, как если бы у него поперёк горла встал кусок жирной баранины, а под рукой не оказалось бокала вязкого и терпкого Petit Verdo.
Через пару секунд он пришёл в себя и дал волю чувствам:
– Василий Михайлович, вы ли это?! Вот бы не узнал, повстречав на Фонтанке или в Люксембургском саду.
Казалось, он готов был обняться и даже поднял руки, но тут же опустил их. Не знал, уместно ли столь бурное проявление чувств с учётом разницы в возрасте и звании.
II
Но тут уже князь не сдержался – улыбаясь, протянул руку, а затем обнял своего помощника.
– Фёдор Иванович, рад вас видеть! Мне доложили, что Иванов какой-то прибыл. Я ведь, грешным делом, уже и думать забыл про художника Алексея Карповича, стипендиата Императорской Академии художеств…
– Подумал, что не следует пока себя афишировать. У Дубровского, поди, везде есть глаза и уши. А что это за, позвольте узнать, маскарад?! Вот бы не подумал, что вы такое на себя напялите…
– Всё по той же причине, граф. Играю комедию, чтобы, во-первых, не выделяться среди местной знати, во-вторых, чтобы усыпить бдительность разбойника. Соглядатаи, вы правы, у него имеются. Иначе давно бы уже сидел Дубровский в остроге или на виселице болтался. Ну да ладно, вы-то как? Восстановлены в офицерском звании?
– Разрешите представиться, князь: подпоручик Преображенского полка Толстой! – последовал ответ.
При этом граф так картинно и выразительно щёлкнул каблуками сапог, что князю почудился звон несуществующих шпор.
– Рад-рад, Фёдор Иванович, что и говорить. Вы способный и решительный молодой человек, такие нужны на службе государю. Жаль, если разменяете свой талант исключительно на бретёрство.
– Василий Михайлович, я ведь зарок дал: пока под вашим началом – тише воды, ниже травы.
– С одной стороны, похвально, с другой – мне ведь кандидаты в святые тоже не нужны.
– Тут уж можете быть покойны. Меня больше заботит, как бы попы анафему не наложили.
III
Продолжили разговор в кабинете. Верейский уже успел переодеться.
– Князь, вы, очевидно, ждали меня раньше, но пришлось задержаться. На то были основания.
– Вы прибыли как нельзя вовремя. События только начинают развиваться. Выкладывайте, что удалось собрать на Дубровского.
– Думаю, вы и сами многое узнали, но изложу свою картину. Итак, Владимир Андреевич Дубровский. В описании местного исправника указано: «От роду двадцать три года…». На самом деле он на три года моложе. В возрасте семи лет родитель определил его в Императорский сухопутный шляхетный кадетский корпус, ныне – Первый кадетский. Выпущен корнетом в гвардию. Место службы до убытия в отпуск – лейб-гвардии Егерский полк.
– Вот, значит, где он так умело научен действовать в лесу. Егерские отряды ведь формируются из ловких и метких стрелков. Эти молодцы способны действовать как поодиночке, так и мелкими группами, – прервал адъютанта Верейский.
– Совершенно верно, князь. В рядовые туда определяют сыновей лесничих и охотников, так что есть у кого набраться полевой науки. Впрочем, Дубровский не только о службе радел. Отец не жалел средств, и молодой человек получал из дому большие суммы, хотя мог рассчитывать на меньшее. Был расточителен: играл в карты и входил в долги. Его товарищи говорят, что Дубровский не заботился о будущем. В разговорах не скрывал, что надеется рано или поздно поправить дела за счёт богатой невесты.
IV
– Не в родителя пошёл, – отметил князь и объяснил: – Андрей Гаврилович считал, что бедному дворянину лучше жениться на бедной дворяночке да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабёнки. Выходит, столица наследника в свою веру обратила. Такое сплошь и рядом. А каков характером?
– Все отмечают его честолюбие и вместе с тем – душевную ранимость. Всё это стало поводом не для одной дуэли. Хотя и без последствий. Говорят, в отсутствие Американца ему прочили славу первого бретёра столицы, – при этих словах Толстой улыбнулся. – Что ж, тем интересней будет встреча с несостоявшимся преемником.
Князь решил пропустить мимо ушей последние слова:
– Да, всё говорит о его ранимой и вместе с тем решительной натуре. Один пожог родительского дома чего стоит. Представьте: он возвращается с кладбища и застаёт в усадьбе судебных чиновников. В день похорон отца они явились вводить Троекурова в права на Кистенёвку. При этом даже не удосужились объявить помещику отрешение от власти, мало того – советовали «иных прочих убираться подобру-поздорову».
Стоило Дубровскому лишь глазом моргнуть – и судейских бы подняли на вилы. Но он и мужиков успокоил, и разрешил «подьячим» ночевать у себя, так как те побоялись ехать затемно, опасаясь гнева верных крепостных «молодого барина». Вот и пойми теперь – то ли это искренний порыв был, то ли злой умысел. Ведь он не просто дом сжёг, да ещё с людьми, но и мосты, отрезав пути возвращения к обычной жизни.
V
Гость кивнул головой:
– Я склонен думать, что первый вариант. Дубровский не мыслил казнить распоясавшихся законников таким страшным образом. Что пошло не так и причастен ли сам корнет к убийству или нет, можно лишь предполагать. Исчерпывающих и достоверных свидетельств происшествию нет.
Далее Толстой изложил уже знакомые Верейскому из бумаг, переданных Воейковым, сведения. Василий Михайлович останавливать адъютанта не стал, так как надеялся – вдруг мимо уха не пролетит то, что скрылось от глаз.
На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку. Все толковали о нём с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяными на похоронах, зажгли дом по неосторожности, другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселье.
Некоторые же утверждали, что виновником ужасного бедствия является сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Троекуров сам приехал вести следствие. Оказалось, что исправник, заседатель земского суда, стряпчий и писарь, Владимир Дубровский, его камердинер Григорий, няня Егоровна, дворовый, кучер Антон и кузнец Архип пропали неизвестно куда.
Все дворовые показали, что приказные сгорели в то время, как повалилась кровля; обгорелые кости их были отрыты. На кузнеца Архипа все указывали как на главного, если не единственного, виновника пожара. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирила Петрович послал губернатору подробное описание всего происшествия.
VI
Вскоре другие новости дали новую пищу любопытству и толкам. В Смоленском уезде появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые против них правительством, оказались недостаточными. Грабительства следовали одно другого примечательнее. Не было безопасно ни на дорогах, ни в деревнях. Несколько троек с разбойниками разъезжали спокойно средь бела дня по всей губернии. Лиходеи останавливали путешественников и почту, приезжали в сёла, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Предводитель шайки славился умом, отважностью и каким-то необъяснимым великодушием.
Как-то он, явился под видом генерала к вдовой помещице Глобовой. За три недели до того она велела приказчику отправить две тысячи рублей своему сыну, офицеру гвардии. Человек отправился с утра на почту, а вернулся к закату оборванный и пеший. Поведал, что разбойники ограбили и чуть не убили – сам Дубровский хотел повесить его, да отпустил, зато обобрал и увёл лошадь с телегой.
А тут явился в гости такой важный чин – вот помещица и поделилась с ним бедой. Генерал велел явить ему приказчика. Тот как увидел его, так задрожал и повалился в ноги. Каялся, что виноват, мол, грех попутал: решил прикарманить ассигнации. Когда Дубровский узнал, что деньги предназначены гвардейскому офицеру, то вернул их, а приказчика отпустил с богом.
Шельмеца генерал увёз с собой. В ближайшем лесу приказчика раздели и привязали к дубу. Таким он и предстал через день собирающим хворост бабам.
VII
У Верейского оставались вопросы.
– А что насчёт документов француза Дефоржа? Выходит, всё же грабежом добыты?
– Именно поэтому я и задержался в Смоленске, выяснял обстоятельства этого дела. Отыскать Дефоржа не составило труда. Для ограбленного он жил довольно прилично. В ожидании пока восстановят документы, снял номер в гостинице, обедал в лучшем трактире. Если бы исправник хотел, он бы и сам выявил это. Но, видимо, дела ему до службы особого нет. Припёр я этого французишку к стенке – тот всё и выложил как на духу.
Далее Толстой поведал князю историю, рассказанную Дефоржем. Французик застрял на почтовой станции. Смотритель никак не хотел подмазывать его бричку и давать лошадей. Тут подъехала коляска, бравый малый соскочил с козел, отпер дверцы. Простучали каблуки, к смотрителю вошёл молодой человек в военной шинели и в белой фуражке. Вслед за ним слуга внёс шкатулку и поставил её на окошко.
– Лошадей, – сказал офицер повелительным голосом.
– Сейчас, – отвечал смотритель. – Пожалуйте подорожную.
– Нет у меня подорожной. Разве ты меня не узнаёшь?
Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперёд по комнате. Зашёл за перегородку и спросил тихо у смотрительницы насчёт проезжего.
– Бог его ведает, – отвечала та, – какой-то француз. Вот уж пять часов как дожидается лошадей да свищет. Надоел, проклятый.
Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.
– Куда изволите вы ехать? – спросил первым делом.
VIII
– Постойте, Фёдор Иванович, – прервал Толстого князь. – Ради бога, извините, но вы рассказываете, словно лично были свидетелем всему.
Американец рассмеялся:
– А ведь так почти и есть, Василий Михайлович! Француз так разволновался, что толком не мог говорить. Потому дал мне свои записи, где подробно изложил ту встречу. Пришлось обещать ему, что в полиции они не окажутся. История так живо написана, что я перечитывал не раз, и она невольно отложились в памяти. По-моему, из этого Дефоржа мог бы выйти толковый романист.
– Продолжайте, граф. Я крайне заинтригован.
– В ближний город, – отвечал француз, – оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня в учители. Я думал сегодня быть уже на месте, но смотритель, кажется, судит иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер.
– А к кому из здешних помещиков определились вы? – спросил офицер.
– К господину Троекурову…
– К Троекурову?! Что вы знаете о нём?
– Ма foi, mon officier… я слыхал о нём мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении со своими домашними. Никто не может с ним ужиться, все трепещут при его имени. Ещё – что с учителями он не церемонится и уже двух засёк до смерти.
– Помилуйте! И вы решились определиться к такому чудовищу?
– Что ж делать, господин офицер? Он предлагает хорошее жалованье – три тысячи рублей в год на всём готовом. Быть может, я буду счастливее других. У меня на родине осталась старушка-мать, половину жалованья буду отсылать ей, из остальных денег в пять лет могу скопить капитал, достаточный для будущей моей независимости. И тогда вернусь во Францию! Займусь коммерцией или открою гостиницу где-нибудь у моря.
IX
– Так-так… – одобрительно отозвался Верейский.
И граф продолжил:
– Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова? – спросил офицер.
– Никто, – отвечал учитель, – меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей. Тому же меня рекомендовал его повар, мой соотечественник. Надобно вам знать, что я готовился не в учителя, а в кондитеры, но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее.
– Послушайте, – прервал офицер, – а что, если вместо этой будущности вам предложили бы десять тысяч рублей на руки, чтоб вы сей же час отправились обратно в Париж?
Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и недоверчиво покачал головою.
– Лошади готовы, – сказал вошедший смотритель.
– Сейчас. Выйдите вон на минуту, – отвечал офицер и продолжил: – Я не шучу, десять тысяч могу выдать сейчас же, мне нужны только ваше отсутствие и ваши бумаги.
При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций. Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать.
– Моё отсутствие… мои бумаги, – повторял он с изумлением. – Но вы шутите, зачем вам мои бумаги?
– Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?
Француз, всё ещё не веря своим ушам, протянул свои бумаги офицеру. Тот быстро их пересмотрел.
– Ваш паспорт… Хорошо. Письмо рекомендательное… Посмотрим. Свидетельство о рождении… Прекрасно.
После этого передал ему деньги:
– Это ваше, отправляйтесь назад. Прощайте.
X
Несостоявшийся учитель не мог до конца осознать случившегося. Офицер неожиданно воротился.
– Я едва не забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что всё это останется между нами. Честное ваше слово.
– Честное мое слово, – отвечал француз. – Но мои бумаги, что мне делать без них?
– Заявите, что вас ограбил Дубровский. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Прощайте, желаю скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здравии.
Благодетель вышел из комнаты, сел в коляску и был таков. Француз стоял посреди комнаты, как вкопанный. Договор с офицером, деньги – всё казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций оттопыривали его карманы и живо твердили о реальности удивительного происшествия.
Дефорж нанял лошадей до города. Ямщик повёз его шагом, и ночью они дотащились до заставы. Француз, не доезжая до неё, велел остановиться, вылез из брички. Знаками объяснил ямщику, что повозку и чемодан дарит ему, и пошёл пешком. Ямщик был в таком же изумлении от такой щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Мужик, решив, что «немец» сошёл с ума, отблагодарил его усердным поклоном и тут же развернул оглобли. Мало ли – вдруг чудик передумает! А того грели мысли, что ямщик на вырученные от продажи брички и чемодана деньги накупит семье подарков.
Князь, слушая это, представил себе иную картину: ямщик направился в кабак и лишь утром на порожней тройке ехал восвояси налегке, но с опухшим лицом и красными глазами. Ничто так не питает иллюзии, как незнание натуры.
Сватовство его сиятельства
I
– Хорош рассказец, – откликнулся Верейский, когда Американец умолк. – Хоть сейчас в «Московский журнал» отправляй. Но обождём, наша повесть ещё только в самом начале. Давайте-ка подведём черту. Что за противника мы имеем?
– Молод, но, несмотря на это, опытен в военном деле, – взялся перечислять Толстой. – Дерзок, решителен, готов рисковать. Изобретателен в методах действий. Неравнодушен к деньгам и вместе с тем способен на великодушие. Вдобавок к этому не лишён актёрского дарования. Сумел и молодым учителем предстать в доме Троекуровых, и генералом – «лет тридцать пять, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде» – к Глобовой явился.
– Надо учитывать, что Дубровский хорошо информирован. Простолюдины с готовностью выказывают ему участие. В их глазах это благородный разбойник, защитник обездоленных и униженных.
– В целом положительный образ вырисовывается.
– В этом-то как раз, а не в этом, а не в разбоях, его главная опасность. Потому нас с вами, граф, и направили на это дело. Здесь угроза устоям общества, а не его отдельным индивидуумам. Крепкий орешек, и такой местным ищейкам не по зубам.
– И как будем его колоть? А для начала – где сорвём?
– Сам явится. Достаточно лишь приманить.
– Лакомой должна быть та приманка, иначе безоглядно не сунется в капкан.
– Уже имеется. И даже две – любовь и желание обогатиться. И всё это помноженное на уверенность в свой фарт. Для людей рисковых он заменяет веру, тем более что ни жертвенности, ни послушания она не требует. «Верь и дерзай!» – вот их «Отче наш».
II
– Вот это я понимаю, сразу виден класс помощника министра по особым поручениям! – Толстой и не думал скрывать своего восхищения.
– Был помощник, да весь вышел… В почётную отставку. Думаю, вы уже в курсе.
– В курсе-то в курсе, но сути дела это не меняет. Вы лучший в своём деле. Уверен, вас ещё попросят вернуться в строй.
Верейский с благодарностью принял слова Толстого, хотя и не подал виду. Сразу перешёл к делу показал саженье, рассказал его историю и то, что французы назначили за него большую цену.
Толстой внимательно слушал и рассматривал княжеское украшение, потом лишь откликнулся:
– Однажды выпало подержать шапку Мономаха, мой родственник имел должность при сокровищнице императора. Так вот сейчас испытываю похожие чувства. Да и, пожалуй, впервые держу в руках сразу треть миллиона. Не скупится Бонапарт. Значит, думаете, Дубровский клюнет на такую наживку?
– На его месте я бы особо и не думал. Он же знает, что рано или поздно его разбойная вольница кончится. Если сбережёт голову на плечах, надо будет обустраивать где-то новую жизнь. И лучше безбедную, к которой он привык. Саженье для него – подарок небес. Оставалось лишь известить Дубровского об этом. Троекуровым уже показал-рассказал. Кирила Петрович не утерпит, обмолвится соседям, те – другим. Вы в свою очередь, где будете, тоже хвастайтесь, какую редкую и ценную вещицу довелось тут увидеть.
Толстой кивнул.
– А что, если всё-таки Дубровский не позарится?
– Такое, конечно, нельзя исключать. Но вряд ли. Каким бы он ни был романтиком или не старался таковым предстать, деньги для него важны. Человек разом нутро не поменяет, это не исподнее, хотя напридумывать про себя может бог весть что. К тому же и саженье явится ему на блюдечке – только руку протяни.
III
– Я уже не завидую этому Дубровскому, – Толстой вернул ожерелье на стол и обратился в слух.
– Марья Кириловна Троекурова. Дубровский от неё без ума. Только влюблённый мог пойти на такой риск и заявиться под чужим именем в дом своего врага. И только любовь уберегает его от кровавой мести, хотя сам Кирила Петрович приписывает это исключительно своей всесильности.
Думаю, объяснение уже состоялось, и красавица приняла его благосклонно. Она, как и многие, очарована Дубровским, видит в нём героя романического. А уж особенно такая пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами романов Анны Радклиф. А тут ещё сам герой всех смоленских барышень является к ней с признанием. Это посильнее «Мария и граф М-в, или Несчастная россиянка» будет. Не читали?
Толстой едва ли не с возмущением покачал головой.
– И не советую. Сам заинтересовался, лишь увидев книгу подле Марьи Кириловны. Она, конечно, тоже влюблена, пусть и тайно, в Дубровского. Но у него нет шансов. Он изгой. У Людовика XVI больше надежды было на помилование Конвента, чем у этой пары – на родительское благословение. Дочь же не решится идти против воли отца. Тем более такого!
– Простите, князь, но нам какая от всего этого выгода?
– Я сказал «не решится», но не сказал «никогда».
– И что же заставит её это сделать?
– Угроза оказаться женой старого мужа. Я намерен сделать Марье Кириловне предложение.