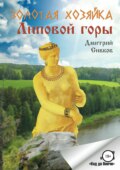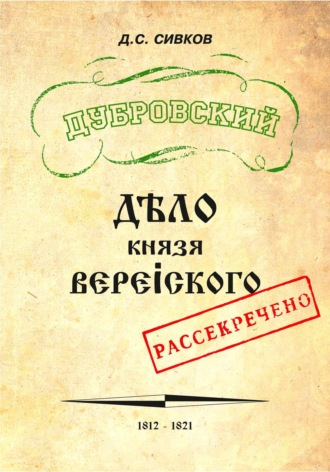
Дмитрий Сергеевич Сивков
Дубровский. Дело князя Верейского
V
Верейский до этого с растерянным и озабоченным видом слушал шефа. Но от этих слов разом просветлел лицом.
– Постойте, постойте, Алексей Васильевич, вы сказали «обгоревший»?
– Совершенно верно. Наш информатор в Министерстве внутренних дел Франции предметно изложил все обстоятельства дела.
– Ну конечно! Теперь мне всё понятно. Я тогда, как обычно, поджёг донесение от свечи и оставил догорать на подносе. В этот момент порыв ветра распахнул окно. Наделала оказия делов: штора опрокинула один подсвечник, бумаги со стола разлетелись по кабинету… Видимо, тогда недогоревший клочок и залетел за диван. Я кинулся закрывать окно, затем прибрался. Даже пепел, где увидел, стёр… Был уверен, что донесение сгорело дотла! Выходит, нет.
– Как говорит русский мужик: и на старуху бывает проруха. На самом деле я рад, что вы смогли дать объяснение тому, что случилось. Прошу вас изложить сказанное мне письменно. Не скрою, были те, кто настаивал на вашем немедленном аресте по прибытии и учинении дознания.
– Благодарю за доверие, Алексей Васильевич.
– К сожалению, моё мнение не было решающим. Сам император не дал добро. Его величество высоко ценил вашу деятельность в Париже. Как-то на полях одного из донесений он даже сделал пометку: «Зачем не имею я побольше министров, подобных этому человеку?».
VI
Князь позволил себе улыбнуться.
– Мне что, предложат пост министра или, для начала, его товарища?
Воейков не принял тона и снова «захрустел сухарём»:
– Не думаю, что есть повод для улыбок, Василий Михайлович. Из-за вашей оплошности командование русской армии накануне войны, когда французские корпуса вот-вот станут выдвигаться к границам, лишилось важнейшего источника информации об этих передвижениях.
– Я вполне осознаю цену своей ошибки, полковник. Случись так, что роль безутешной вдовы хоть чем-то поможет делу, то, поверьте, я исполню её так, что уже завтра буду иметь на руках ангажемент в Большом камерном театре.
Тут настал черёд улыбнуться Воейкову:
– В этом я не сомневаюсь, князь. Но лучше отправляйтесь к себе в имение. Отдохните, наберитесь сил…
– Отставка?
– Назовём это выходом в резерв. Почётный.
– Хрен редьки не слаще, опять же если обращаться к риторике мужика.
– Но вам, князь, сейчас действительно нельзя за границу. Да вы и сами это прекрасно понимаете.
– Но мой опыт мог бы пригодиться Особенной канцелярии…
– Василий Михайлович, дорогой, какая Особенная канцелярия?! Если гром не грянул, это не значит, что тучи над вашей головой рассеялись. Провали вы не личного информатора, а действующую до вас агентуру, разговор у нас вышел бы определённо иной. И в Петербурге вам оставаться не след, только гусей дразнить! Будете не на глазах – история с Мишелем скорее забудется. Да и после войны, бог даст, расклад станет иным.
VII
– Ну вот и договорились, – расценив молчание как знак согласия, Воейков накрыл ладонью руку князя.
Нервные и изящные как у пианиста, пальцы Верейского наигрывали что-то на колене.
– Я даже завидую вам, Василий Михайлович. Жизнь в деревне, в тиши и покое… Какой срок до войны отпущен – не знаю, но берите от мирной жизни всё. М-м-м-м! Всё то, что нам лишь снится. Цените. А может, и судьбу там свою встретите?
Князь поджал губы.
– А почему нет? Невест, поди, в Смоленской губернии пруд пруди. Род князей Верейских надо продолжать. Наследнику передать титул, да и так, думается, есть чего – капитал, имение… Как оно называется?
Князь ухмыльнулся:
– Полагаю, вы и без того знаете: Арбатово, три тысячи душ крестьян мужеского полу. Я там не был с детства. Матушка умерла вслед за моим рождением и умерла родами. Отец, видимо, очень любил её, раз так больше и не женился. А когда я вырос достаточно для зачисления в пажеский корпус, мы уехали в столицу. И больше туда не возвращались.
– Как дела без господского надзора-то обстоят?
– По отчётам, всё довольно неплохо. Да, скорее всего, так и есть. Управляющий имением – Харлов Степан Иванович. Кузен покойной матушки. Служил в гренадёрах, вышел в отставку майором, тогда и я предложил ему место. Из милости, если честно. Род обеднел давно… А он дельным оказался. Знаете, из таких офицеров, что слуга царю, отец солдатам. Хозяйство на европейский манер ведёт. Я ему и журналы по сельскому хозяйству из Европы высылал. Даже коров альпийских с быком отправил в Арбатово. Они чуть не вдвое против наших шилозадых коровёнок молока дают. Харлов и маслобойню наладил, товар в Смоленск купцам отправляет.
– Вот даже как! Похвально. Вот только на Европу-то у нас сейчас равняться не особо принято. У нас Аракчеев свои порядки в деревнях наводит. Слышали, поди.
– Наслышан. Только ведь у меня не по форме порядок, а по сути.
VIII
Полковник встал, обозначив, что разговор завершён. Затем прошёл за стол, на зелёном сукне которого лежала дюжина картонных папок, и раскрыл одну из них.
– Кстати, насчёт вашего опыта. Ему вполне можно найти применение и там. Вам известна деревня Кистенёвка? Ах, да, вы же не бывали в тех краях. Она в том же уезде, что и ваше Арбатово. Так вот кистинёвский помещик Дубровский заделался разбойником. Организовал из своих крестьян шайку, грабит на дорогах, зорит усадьбы.
– Да, Харлов писал, что лиходеи спалили что-то. В усадьбу-то не сунутся, там майор такую охрану организовал, что и какой другой гарнизон позавидует. И что, управы на этого Дубровского найти не могут?
– Выходит, так. Он ещё недавно – гвардейский корнет, молод, умён, дерзок… Местному уряднику такой не по зубам. Придали роту солдат, да без толку. Да и ещё пришлют – то же самое будет. Тут надо действовать не числом, а уменьем. Уж кто, как не вы, Василий Михайлович, поможет словить злодея? Приказать вам уже не могу, так что прошу. Направить туда кого-то из спецагентов не имею возможности, да вы сами это знаете.
– Непонятно, при чём здесь Особенная канцелярия?
– Министр дал указание помочь смежникам из контрразведки. У де Санглена лишь десять оперативников, они выявляют наполеоновскую агентуру в приграничных западных губерниях. Зашиваются. Только в розыске больше сотни лиц, подозреваемых в шпионаже. Дубровский, скорее всего, не шпион, но с его бандой в наших тылах надо покончить до начала войны.
– Думаете, и Смоленск придётся сдать французам?
В ответ лишь колыхнулась бахрома на полковничьих эполетах.
XI
Пальцы князя вновь заиграли на коленке. Он знал, что Высшая воинская полиция с функциями контрразведки создана в начале года по тайному указу Александра Первого. Её представители имелись в каждой из трёх западных армий и подчинялись начальникам их штабов. Руководил контрразведчиками потомок выходцев из Франции Яков Иванович де Санглен. Помочь им… Его подмывало хлопнуть дверью. Кто-то решил, что лишь единственная невольная осечка может перечеркнуть годы безупречной службы. В конце концов, это был не Воейков и не государь.
– Ну раз так, чем сможем – поможем, – Верейский хлопнул себя по коленке, оборвав «мазурку». – Вот только странным мне кажется сам факт того, что гвардейский офицер подался в разбойники.
– Да, там не всё просто. Насколько знаю, некто Троекуров, предводитель местного дворянства, генерал-аншеф в отставке отсудил Кистенёвку у отца Дубровского. Допускаю, что не без влияния на суд. Родитель после этого слёг да так и не оправился. После его смерти молодой человек спалил усадьбу вместе с судебными исполнителями и ушёл в лес с мужиками.
– Троекуров… Уж не Кирила ли Петрович?
Воейков заглянул в папку:
– Он самый. Знакомы?
– Были как-то представлены друг другу в Варшаве.
– Так вам и карты в руки. На правах знакомого сразу нанесёте визит, а там, глядишь, и ниточка явится, за которую можно потянуть.
– Пожалуй, так и сделаю. Только вот ещё что, Алексей Васильевич, я ведь привык один работать, так что мне и в этот раз начальников не надо.
XII
Воейков, обрадованный таким исходом дела, с готовностью поднял обе руки:
– Как скажете, князь. Получите мандат, удостоверяющий ваши полномочия, и для губернских властей, и людей де Санглена. Но без помощника трудно…
– А у меня Харлов есть. На крайний случай – пришлите Толстого. Он оказался толковым порученцем, да и оружием, говорят, отлично владеет. В Париже это, слава богу, не пригодилось, а в Арбатове, очевидно, без этого не обойтись.
– Хорошо. Шпагой да пистолетом ещё успеет на дуэлях поорудовать. Пусть уж лучше в деле. Читал ваш отзыв о его работе. Будем представлять к возвращению офицерского чина. Да и родня графа уж очень хлопочет за него.
– До отъезда ему следует пообщаться с однополчанами Дубровского. Необходимо выяснить пристрастия корнета, разные стороны характера. Важно для понимания, кто есть этот «Ринальдо Ринальдини, атаман разбойников». Если, конечно, такой информации ещё нет в вашей папочке.
– Да откуда, Василий Михайлович?! Сразу видно хватку опытного агента. А тут главным образом не особо толковые донесения местного урядника. Ознакомитесь, конечно, вдруг что-то важное для себя найдёте, – Воейков закрыл папку и передвинул её на край стола, потом добавил: – Верно подметили насчёт Ринальдини. О Дубровском такая слава уже и идёт – как о благородном разбойнике из названого вами романа. Надо лишить бывшего корнета этого ореола.
– Нельзя исключать, что для его героизации есть основания. На суде они могут подтвердиться. Так задерживать его или?..
– Вот за что вас и ценят, князь. Действительно, лучше до суда не доводить. Пусть уж Дубровский позор с гвардии кровью смоет.
Верейский лишь кивнул. Ему не раз доводилось видеть, с какой лёгкостью и даже облегчением люди возлагают ответственность за принятие решений на тех, кто явил проницательность.
XIII
Поняв, что разговор окончен, князь собрался встать. Воейков остановил его движением руки.
– Это ещё не всё, Василий Михайлович. На этот раз дело касается вас лично. Правильней сказать, вашей фамильной реликвии – саженья.
– А что с ним?!
– Ничего. Пока. Есть список ценностей, к коим французы проявляют большой интерес. Выкупают через антикваров и за ценой не стоят. Где деньги не срабатывают, там, бывает, воры да разбойники орудуют. Так вот, саженье есть в том перечне.
– И что в нём ещё?
– Главным образом регалии власти Владимирского, Тверского, Рязанского, Смоленского и других великих княжеств, Новгородской земли, Казанского, Астраханского, Крымского ханств…
– Возврат к феодальному устройству?
– Верно. Наполеон не сомневается в победе, а будущее Российской империи видит в конфедерации удельных княжеств и ханств. Символика их бывших властителей должна придать реформам исторический антураж. Поэтому французы и в методах никого не ограничивают, да и не скупятся. Например, саженье великой княжны Тверской оценено в триста тысяч франков.
– Ого! Да ему красная цена – тридцать. Ко мне никто не обращался с такими предложениями. А случись, то торгашам – вот Бог, а вот порог. Хотя сумма о-о-очень заманчивая. Но ведь франки да рубли – не мерило традициям, у нас саженье на венчание надевает невеста князя. Да и мои предки от Ивана III немало лиха хлебнули за это ожерелье, так что только крайняя нужда заставит с ним расстаться.
– Где храните?
– В Арбатове, есть в доме тайная комната. Опять же у меня там Харлов. Так что лихому человеку не подобраться.
– Ну что ж, Василий Михайлович, остаётся только пожелать, чтобы саженье использовали уже по назначению, – сказал с улыбкой Воейков, протягивая руку.
Злосчастное саженье
I
Тщательная задумка Софьи Палеолог относительно брака своей племянницы Марии с Василием Удалым не оправдала чаяний. Ничьих. Василий Михайлович Верейский нет-нет да и листал скорочтением французские романы. Обычно в дороге. Быть в курсе литературных новинок требовалось для поддержания светских разговоров в обществе. Главным образом – с дамами. Лабиринты их трепетных душ и отзывчивых сердец нередко вели к государственным тайнам, хранимым их церберами-мужьями. Широк арсенал методов работы тайного помощника по особым поручениям министра внутренних дел.
Князь верил, что история его предков не менее драматична и увлекательна, чем сюжеты литературных творений, обсуждаемых в будуарах и кулуарах модных салонов. Чаще высосанные из пальца «гонорара для», эти истории казались так же далеки от жизни, как рецепт толкового лекаря – от советов записного и неудачливого донжуана.
Однажды их познакомили с главой издания «Всемирная библиотека романов» Жаном-Француа де Бастидом. Верейский попытался увлечь его драматургией истории с саженьем тверских князей. Интерес к ней маститого автора заметно уступал тому, что он проявлял в тот вечер к шампанскому Dom Perignon и дебютантке Comedie-Francaise. Да и, судя по изданной вскоре книге, Бастида тогда всецело занимало подробнейшее описание убранства маленького домика аристократа-холостяка. Для европейских читателей это было куда ближе и занимательнее, чем судьбы на виражах истории жителей дикой и отсталой, по их представлению, страны.
II
Свадебное путешествие для молодожёнов Верейских обернулось бегством за границу земель русских. Полог брачного ложа Василия и Марии зацепили жернова борьбы за наследие великокняжеского трона и упразднения Иваном III местничества.
На момент женитьбы отца Ивану Ивановичу Молодому, наследнику престола – сыну от первого брака с тверской княжной Марией, исполнилось четырнадцать годков. Несмотря на юные лета, он уже числился соправителем родителя, в княжеских договорах и летописных текстах его именовали великим князем. Во время же длительного отсутствия отца в Москве замещал его в качестве верховного правителя. Позиция казалась незыблемой, как Воробьёвы горы, куда царевич часто забирался на охоту.
В таком разе молодой жене оставалось участь сплясывать, когда спрашивают: обеспечить династию запасными наследниками, если лихо какое, не дай Бог. Вот тогда всё могло встать с ног на голову. И одно только это стало костью в горле окружения Ивана Молодого, а в деспине зародило мечты о «не дай Бог». Такой случай расчистил бы путь к трону для её кровинушки.
Покуда в мир являлись дочери, страсти эти лишь шаяли – взмахами подола пожара не раздуешь. Заискрило с рождением в 1479 году княжича Василия, в 1480-м – Юрия, а в 1481-м – Дмитрия. Такой расклад обеспечивал будущность династии при любом стечении обстоятельств. Вместе с ролью Софьи в истории с отпором хану Ахмату, её позиции в царских палатах укреплялись. Так росли башни Кремля под надзором выписанных ею из Италии Аристотеля Фиораванти и Пьетро Соляри.
III
Тут уж партия Ивана Молодого решила: баста тому ходить в завидных женихах. В 1481-м начинаются переговоры с молдавским господарем Стефаном Великим о браке с его дочерью Еленой. В начале 1483 года свадьбу отыграли, а ровно через девять месяцев Волошанка, как её прозвали в Москве, родила. И сразу – сына Дмитрия. Качание судьбоносных весов затихло. На время. Тут же настал черёд прийти в движение другим качелям. Этот мир нетерпим к статике, она губительна для его природы катящегося обода.
Начало же лиху для молодых Верейских положили события тридцатилетней давности. 1452 год. Венчание наследника московского престола Ивана, соправителя Василия II, с Марией – дочерью великого князя Тверского Бориса. На новобрачной приданое – саженье, один из атрибутов великокняжеской власти Твери. С одной стороны – не жаль, а таковы условия договора, «которым обещался с детьми своими быть во приданое», с другой – таким образом признавалось верховенство Москвы.
По Марии Борисовне саженье перешло в казну. Вернее, в его женскую часть под началом великой княжны. Хотя владеть-то она ей владела, но распоряжаться по своему усмотрению не могла. Это вроде как новогодняя ёлка и её украшения. Софье Палеолог такие особенности национального властьимущества понятливо не донесли. «Не убудет от казны: одним украшеньем больше, одним меньше», – так рассудила жена государя и выделила саженье в приданое своей племяннице.
IV
На радостях, что стал дедом, Иван III решает одарить невестку саженьем первой жены. Но не душевным порывом единым, опять же. Искал лишь удобного момента присоединить Тверь, а Ивана Молодого назначить там князем. В этом разе его супруге надлежало в должном образе явиться тверчанам. Княжеский престол Ивану Молодому достался-таки в 1485 году, а вот саженье Елене Волошанке – нет.
Посланный за саженьем боярин Михаил Телетявский, как вернулся, лишь руками развёл. Другой раз великий князь сунулся с вопросом, так отговорками сладкими да хмельными, как черничная наливка ключницы, попотчевали. Надеялась Софья, что охладеет к затее муж, а его самого она умилит. Усвоила гречанка, что на Руси всё до трёх раз делается. А на третьем-то разе всё и срезалось. Речи – мол, запамятовала, куда упрятала саженье, Иван Васильевич пропустил мимо ушей, и ласки дали осечку, как аркебуза в грозовой ливень. Не зря титул «грозный» Иван IV, спустя время, перенял от деда.
Призналась Софья, куда ожерелье ушло. Чего уж, думала, запираться, да и повинную голову меч не сечёт, рассуждали все кругом. Касайся дело иного украшения, так бы и вышло. Правда, с её-то головы и волос не упал. А вот в Верею направили князя Бориса Туреней-Оболенского с людьми с предписанием вернуть саженье да самому Ивану Удалому явиться пред очи государя.
V
Братьев родных Иван Васильевич не жалел, а уж троюродного-то и подавно мог сгубить ни за что, ни про что. Былые заслуги, а уж тем паче чьих-то отцов перед родителем, – не в счёт. Свои-то герои не всегда в чести. Прознав про гонцов царя, Василий Михайлович счёл за лучшее с молодой женой и казной под охраной десятка дружинников выдвинуться к Смоленску, западному оплоту Великого княжества Литовского.
Туреней-Оболенский в Верее не застал никого в княжеских палатах. Чему на самом деле лишь обрадовался. А то как воспротивился бы удельный князь, и что тогда? Не зря ведь Удалой – мог и бока намять великокняжеским посланникам. В лучшем случае. А в Москву битым да с пустыми руками явиться – себе дороже. А тут такая удача! Оставалось лишь имитировать ретивую погоню в ту степь, куда дворовый люд рукой махнул, и разворачивать оглобли.
Верейский же благополучно добрался до Смоленска и пополнил колоду имеющих право на московский трон Рюриковичей. Разыграть же её извечные враги земель московских только и ждали удобного случая.
Те потуги ляхов, известное дело, остались из серии «видит око, да зуб неймёт». А Иван III использовал выпавший ему случай по полной.
VI
За побег в Литву в Москве Василия Удалого объявили изменником, а с такими и их родными не церемонятся. Вот государь и присвоил своей же грамотой удел Верейский. Хотя через год явил милость – вновь даровал её старику, но лишь в пожизненное держание. «Клятвенною грамотою обязал не иметь никакого сообщения с сыном-изменником и города Ярославец, Белоозеро, Верею по кончине своей уступить ему, Государю Московскому, в потомственное владение». Закалённый в походах славный воевода Михаил Андреевич не оправился от яда кремлёвских интриг и вскоре – в 1485-м году – скончался. А вместе с ним кануло в Лету и удельное княжество Верейское.
Для супруги же Ивана III всё обернулось сплошными потерями: и единственной родственницы возле себя лишилась, и репутацию, только было окрепшую, пошатнула. Именно с «дела о саженье» началось третирование великой княгини летописцами. Они создали ей образ расхитительницы государевой казны, что впоследствии историки приняли за чистую монету. Но главное – это «дело» стало началом войны на уничтожение между греческой и молдавской царевнами. В итоге, несмотря на изначально слабую позицию, Софья взяла верх. Елена Волошанка годы спустя умерла в заточении «нужной смертью»: её убили по указу взошедшего на престол сына деспины Василия III.
VII
История с саженьем была довольно известна, а вот описания самого ожерелья не встречалось ни в одной из летописей. И это понятно, мало кому из знати довелось видеть его, а уж борзописцам и тем более не светило. Могло даже показаться, что ожерелье это – вообще нечто мифическое, вроде золотой бабы – идола северных народов.
Помощника же по особым поручениям военного министра Российской империи с этой драгоценностью связывали одни из ранних воспоминаний детства. Вот он елозит на коленях у отца Михаила Андреевича – имена мужчинам в роду давали не по святцам, а в честь предков. Занят парнишка важным делом – теребит ожерелье из золотых ажурных бусин и картинок с разноцветными камушками. Он пытается трясти саженьем на манер погремушки, но безрезультатно. Вася недоумённо глядит на родителя, тот же в ответ лишь заразительно смеётся.
Когда Вася подрос, родитель уже обстоятельно рассказывал ему о том, чьи образы запечатлены на трёх декорированных филигранью, самоцветами и жемчугом медальонах. Финифтью неведомый мастер изобразил лики святых, весьма значимых не только для церкви, но и для истории России. Теперь, выходило, Наполеон отвёл в ней одну из важных ролей и самому саженью.