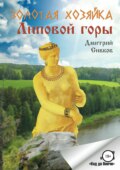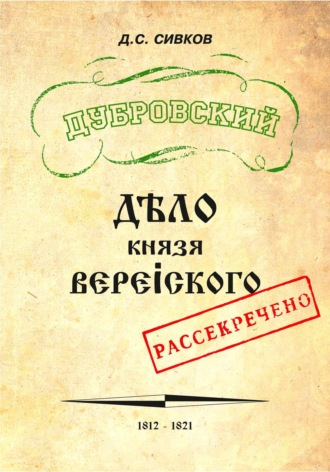
Дмитрий Сергеевич Сивков
Дубровский. Дело князя Верейского
Г
Не буду дальше тянуть – мы с князем оказались ровесниками. Мне, как и ему, «…было около пятидесяти лет…». Хотя далее и следовало дополнение: «…но он казался гораздо старее». Так что с того? Воспринимать его можно в качестве хоть ремарки, хоть возможности кому-то утешиться но уж точно не буквально. Такое следует отнести, скорее, к области риторики. Как и следующее: «Излишества всякого рода изнурили его здоровие и положили на нем свою неизгладимую печать».
Определение «излишества» сродни «казаться». Вот двадцатиоднолетний Александр Грибоедов писал своему другу Степану Бегичеву: «…но прекрасный пол меня не занимает, и по очень важной причине. Я ведаюсь с аптекой; какая замечательная часть фармакопия! Я на себе испытываю различные спасительные влияния мужжевеловых порошков, сасипареля, серных частиц и т.п.». Не будь автор «Горе от ума» растерзан персидскими ваххабитами тех времён, доживи до полтинника, причислил бы он свой «гусарский насморк» к излишествам? Вряд ли. А что до мнения других, так это «казаться», и на каждое из них не накрестишься.
Так или иначе, после того как выяснилось, что мы с Верейским в одних годах, его поведение и мотивации представились несколько в ином ракурсе. Это как если бы астрономию нашему 10 «Б» преподавал не учитель биологии, а летчик-космонавт СССР.
А дальше, с поиском на просторах Пушкинианы всего, что связано с книгой, пришло и переосмысление содержания «Дубровского».
Д
Между тем, ловушка, подстерегавшая меня в районной библиотеке, оказалась явлением обычным. В книге «Мой Пушкин» Марина Цветаева писала: «Есть книги настолько живые, что всё боишься, что, пока не читал, она уже изменилась, как река – сменилась, пока жил – тоже жила, как река – шла и ушла. Никто дважды не вступал в ту же реку. А вступал ли кто дважды в ту же книгу?». Если бы Марина Ивановна имела возможность услышать все ответы читателей на свой вопрос, то утвердительных среди них нашлась бы всего ничего: законы физики имеют гораздо большее влияние на нашу сущность, чем кажется самым отъявленным гуманитариям и верующим. В моём же случае книга оказалась не просто объектом с какими-то новыми параметрами, а просто другой. Так, если бы речь шла не о восприятии места на уровне ощущений, а его географическом положении.
Но и я окунулся в эту книгу совершенно другим. Этот процесс преобразования, иной раз до неузнаваемости меняющий ландшафт, идёт с двух берегов. Поэтому понятна и категоричность Чака Паланика, в предисловии сборника «Обожженные языки» заявившего: «Вот вам хорошая новость: все мы взрослеем. Даже я. Каждый год я открываю «Рабов Нью–Йорка», «День саранчи» или «Сына Иисуса» и радуюсь, будто взял в руки совершенно новую книгу. Но мы-то знаем: меняется вовсе не книга. Меняюсь я сам. Это меня еще нужно дописывать».
На самом же деле правы оба – и Цветаева, и Паланик, потому, как «дописанный» читатель в свою очередь на свой лад «дописывает» книгу.
Е
Так уж вышло, что размышления Цветаевой также касались книги Пушкина: «В моей «Капитанской дочке» не было капитанской дочки, до того не было, что и сейчас я произношу это название чисто механически, как бы в одно слово, без всякого капитана и без всякой дочери. Говорю «Капитанская дочка», а думаю: «Пугачёв». Вся «Капитанская дочка» для меня сводилась и сводится к очным встречам Гринёва с Пугачёвым…».
Для меня же сам Дубровский никуда не делся, просто где-то неподалёку с ним стал почти физически присутствовать князь Верейский. И теперь уже я, если говорил «Дубровский», открывал незримые скобки и добавлял: «Верейский». Линия в романе меж этими персонажами стала не менее важна, чем две других, выведенные на первый план: Троекуров – Дубровский (отец), Троекурова – Дубровский (сын). Прочерченные нарочито жирно, они отвлекали внимание от неочевидной подоплёки, заслоняли её собой, прятали.
Прятки – они в этой книге повсюду. Начиная с того, что сам Пушкин таил от читателя своё произведение: закончено в 1833 году, а увидело свет лишь спустя четыре года после гибели автора – в 1841-м.
Ё
В самом же романе, главным заводилой в этой игре является заглавный герой. Он то и дело прячется: то в прямом смысле – от властей, то за масками других людей: то француза-гувернёра Дефоржа в доме Троекурова, то генералом – «человек лет тридцати пяти, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде» – заедет к помещице Глобовой. И если по ходу повествования это некая игра – «Раз-два-три-четыре-пять… я иду тебя искать», то в финале, оставаясь верным себе, он эволюционирует до невидимки: исчезает и концы воду ― за границу.
А может, подагра, рассеянность и ветхость его соперника являются тоже своего рода маскарадом? Прятки имеют смысл, когда в них играют как минимум двое.
Относительно времени действия романа нет однозначности (игра в прятки продолжается, господа!). Например, Владимир Маранцман пишет в пособии для учителя «Роман А.С. Пушкина «Дубровский» в школьном изучении»: «Недаром исследователи долго спорили о том, к какому времени относится действие романа, является ли «Дубровский» современным для Пушкина или историческим произведением. Действие романа, как доказательно выяснили Д. Благой и Д. Якубович, происходит в 1820-е годы». Как знать, как знать… Когда решаешь задачку со многими неизвестными, велик искус подогнать ответ под заранее обозначенный результат.
Ж
Для начала следует определиться с возрастом заглавного героя. С этим, опять же, нет определённости (кто-то неведомый не перестаёт повторять считалочку: «Раз-два-три-четыре-пять…»). Например, у Троекурова своя арифметика: «…но знаю наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши и что, следовательно, ему не тридцать пять, а около двадцати трёх». Подтверждает это, словно стараясь угодить имевшему «большой вес в губерниях» барину, и исправник: зачитывая приметы Дубровского, указывает его возраст: «От роду 23 года…».
Но это на память и на вид. На самом же деле Владимиру Андреевичу, грозе помещиков всей округи от роду всего 19 годков. Две подсказки: он «…был привезён в Петербург на восьмом году своего возраста…», потом «Двенадцать лет он не видал своей родины». Считаем, даже не столбиком: на восьмом году – это семь лет, да плюс двенадцать, вот и получается. Опять же, если, как в математике требуется проверка решения задачи, то можно и так: «…на сем самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе…», с девушкой же всё довольно ясно и определённо: «…ей было семнадцать лет…». Всё ответы сходятся. И право же, больше оснований доверять повествователю. Во всяком случае, до момента, когда его правда вымысла остаётся сродни аксиоме ― не требует доказательств.
Надо сказать, что алгоритм определения реального возраста Владимира не является бог весть каким откровением. Он не раз описан и должен быть известен, по крайней мере, школьным учителем литературы, если они, конечно, время учёбы на филфаке не посвящали куда более приличествующему возрасту времяпрепровождению, чем штудирование критики по предмету «История отечественной литературы ХIХ века». Автора же этот пример укрепил во мнении о ребусности хрестоматийного с репутацией «дважды два…» текста и сподвиг уже к самостоятельным открытиям.
З
Теперь черёд времени действия. И двадцатые годы тут можно поставить под сомнение, не умаляя при этом мнения известных пушкинистов, на которых ссылается Маранцман. Мало того, сам сошлюсь на работу одного из них – Дмитрия Якубовского, «Незавершенный роман Пушкина».
Хотя, казалось бы, чего гадать, когда в романе есть определенное указание на то, что описываемые события действительно близки к двадцатым годам. Во II главе, там, где приводится описательная часть судебного дела: «Следовательно, самая доверенность… <…> по указу 1818 года маия… дня, совершенно уничтожается». Якубовский пишет, что «через знакомого Нащокина – Д. В. Короткого, знавшего судопроизводство» Пушкин достал схожее дело (по всему, отжать сельцо у слабого соседа по тем временам в России считалось не зазорно) и «решил в качестве исторического документа поместить «вполне» в тексте II главы».
Далее сообщается, что «писарская копия подлинного «дела» на синих листах так и осталась по сегодняшний день вложенной в соответствующую главу рукописи «Дубровского». На ней Пушкин начал карандашную правку собственных имен, но не окончил ее». Там автор исправил имена подлинных фигурантов дела: «гвардии поручика Ивана Яковлева, сына Муратова» и «гвардии подполковника Семена Петрова, сына Крюков» на: «Гв. поруч. Ан. Гавр. Дубр.» и «Генерал Аншефа Троекурова». Казалось бы, аргумент pro в пользу двадцатых, но вот фраза «…но не окончил ее», оборачивает его et contra: детали дела, придавшего реалистичности роману, просто не приведены в соответствие с его хронологией.
И
Снова обратимся к Якубовскому: «Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору». В этих, позже вычеркнутых Пушкиным словах, сквозит явный укол новому дворянству, возникшему из «ваксивших царские сапоги», из выдвинувшихся по родственным связям с участниками дворцового переворота». О дворянстве тоже в масть, но об этом позже.
От этого предложения А.С. отказался, скорее всего, включив внутреннего редактора и не желая дразнить главного гуся империи ― личного своего цензора Николая I? А между тем, оно много даёт для понимания времени действия в романе. Возраст отцов не указан, но если исходить из того, что в то время обычно женились и обзаводились потомством ближе к сорока годам, выходит, и Кириллу Петровичу и Андрею Гавриловичу около шестидесяти ― плюс/минус. Даже если на момент низложения Петра III они были в возрасте Пети Гринёва, то появились на свет как минимум в середине 1740-х. В свою очередь, Владимир Андреевич и Марья Кирилловна, должно быть, ― на рубеже последнего десятилетия ХVIII века. Плюсуем для ровного счёта два десятка и получаем конец нулевых ― начало десятых уже ХIХ века.
Й
К этому времени можно прийти и через решение одной литературно-историко-математической задачки. Разбирая бумаги покойного отца, Владимир Дубровский находит письма матери, которые та писала мужу «во время Турецкого похода», и «в одном из них изъявляла ему своё беспокойство на счёт здоровья маленького Владимира».
Если действо «происходит в 1820-е годы», то получается речь идёт о русско-турецкой войне 1806-1812 годах. С математической точки зрения всё сходится. Но и только. Почему же упоминание именно об этой военной кампании, а не о куда более значимой Отечественной войне, грянувшей буквально следом (о ней вообще нет упоминаний!)? И как быть с тем, что тело умершего старшего Дубровского «…одели в мундир, сшитый ещё в 1797 году…». То есть в одежду, коей четверть века, да прошедшей с хозяином буквально и Крым, и рым? Такой похоронный наряд подошёл бы скорее «прорехе на человечестве» Степану Плюшкину, а не, пусть и небогатому, но не забывавшему, что такое достоинство, гвардии офицеру Андрею Дубровскому.
Ответ напрашивается один – дело в романе было до нашествия Наполеона. И тогда в хронологию текста вписывается турецкая война 1787-1791 годов. И с похоронным одеянием тоже появляется правдоподобная версия: походит на год, когда Володю Дубровского определили в кадеты. По случаю представления своего отпрыска командованию кадетского корпуса отставной офицер вполне мог заказать себе военную форму.
Раз-два-три-четыре-пять…
К
Этот маскарадно-пряточный настой преследует роман и в наши дни. Например, взять фразу «Спокойно, Маша, я Дубровский». Мало кто её не слышал. А мужчины, так ещё и пользуют в случаях, когда хотят произвести на дам впечатление человека, который если и не откупорит запросто зубами бутылку пива, то способен в целом контролировать абстрактную ситуацию.
Большинству кажется, что это цитата из романа. Но там: «Мария Кирилловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию.
– Я не то, что вы предполагаете, – продолжал он, потупя голову, – я не француз Дефорж, я Дубровский».
В экранизациях романа расхожей фразы также не звучит. И тем не менее, она пришла-таки из советского кино. Из снятого в 1974 году детского фантастическо-приключенческого фильма «Большое космическое путешествие». Вот тогда-то и пошло гулять в народ призывающее не волноваться по пустякам обращение, и спустя десять лет в фильме «Время отдыха с субботы до понедельника» (1984 год) оно звучит из уст героя Владислава Стрежельчика уже неким афоризмом. Любопытно, что «Спокойно, Маша, я Дубровский» вышли из-под пера или карандаша самого Сергея Михалкова. Именно орденоносный автор гимна Советского Союза и «Дяди Стёпы» и был сценаристом мосфильмовской предтечи «Звёздных войн». Этот человек определённо имел особый дар выдавать нетленки.
Л
Уяснив для себя обманчивость романа, перестаёшь и безоговорочно верить и правде вымысла. Настолько там всего наплетено, что начинаешь допускать и вплетение в него вымышленной правды.
Верейский – джокер к карточной колоде персонажей романа, где туз – Троекуров, король – старший Дубровский (и больше Лир, чем бубен), дама – Маша, валет – младший Дубровский… Ещё один, казалось бы, валет – Верейский – неожиданно оборачивается самой непредсказуемой и загадочной картой. Но после того как он кроет козырного валета-Дубровского и к нему только-только начинает зарождаться читательский интерес, его тут же переворачивают рубашкой кверху и сбрасывают в отбой, не давая как следует разглядеть. Снова: «Раз-два-три-четыре-пять…».
В юности я купился на столь незамысловатый или, как такие ещё называют, детский, фокус, а уж на них-то заядлый картёжник Пушкин был определённо горазд. Сейчас же этот номер не прошёл. Я стал внимателен к манипуляциям. И любопытные детали не заставили себя ждать. Например, князь стал казаться человеком, который долгое время сам где-то от кого-то прятался или жил под чужой личиной. Его сиятельство миновали свой период «концы в воду», ещё предстоящий его благородию.
У Верейского даже нет имени. Он как не до конца проявлённая фотография, которую умышленно раньше времени достали из проявителя. Что для весьма важной фигуры романа в плане основных соотношений образов весьма странно. Та же Глобова, извольте, Анна Савишна, а тут упоминается лишь по фамилии, как заседатель-шельмец Шабашкин. С тем-то всё понятно – нарицателен от «Ш» до «н». А вот в случае с Верейским не верилось, что всё так просто, как и в то, что фамилия взята с потолка.
Уже общепризнано, что эта книга не была лишь «зеркалом литературных фантазий», как писал всё тот же Владимир Маранцман. Это касается и персонажей, и их фамилий ― часть из них не случайны и реальны. В первую очередь это касается заглавного героя. Вот, что на этот счёт написано в первой биографии автора «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П.И. Бартеневым в 1851—1860 годах»: «Роман «Дубровский», – внушен был Нащокиным. Он рассказывал Пушкину про одного белорусского небогатого дворянина по фамилии Островский (как и назывался сперва роман), который имел процесс с соседом за землю, был вытеснен из именья и, оставшись с одними крестьянами, стал грабить, сначала подьячих, потом и других. Нащокин видел этого Островского в остроге».
М
Теперь известно, что и кроме общей фабулы есть немало общего у литературного героя и его прототипа. И это наверняка тоже было известно автору «Дубровского». Советский филолог И. Степунин в Центральном государственном историческом архиве Белорусской ССР нашёл сведения об этом Павле Островском. Тот в двадцать два года (Дубровскому по общепризнанному мнению – 23) лишился своёго именьица в двадцать душ, правоустанавливающие документы на него сгорели во время нашествия наполеоновской армии в 1812 года (у Дубровского тоже в огне пропали бумаги на право владения Кистенёвкой, что облегчило Троекурову задачу отсудить ей).
А уже после того как Павла Островского приписали к «безземельным шляхтичам», он дал повод, чтобы его имя стали упоминать в полицейских отчётах с приставкой «мятежник», о «неусыпных наблюдениях» за ним шли рапорты на имя самого минского губернатора. К тому же арестовали Островского в имении одного минского помещика, где шляхтич подрабатывал учителем (прям, Дубровский-Дефорж в доме Троекурова).
Арестовывать-то Островского арестовывают, но через год в его деле появляется запись: «Неизвестно куда отлучился». Какие формулировки прежде умели стражи порядка придавать своему головотяпству! Арестант попросту сбежал. У Пушкина про Дубровского: «Никто не знал, куда он девался».
Что же до превращения Островского в Дубровского, то и тут, оказывается, не стоит всё приписывать привычке автора к рифмованию бытия. В советские годы литературоведы выяснили довольно широкую реальную основу произведения. Так, оказалось, что Пушкин был в курсе судебного дела помещика Нижегородской губернии Дубровского. У этого дворянина в 1802 году незаконно отняли имение, перешедшее к нему по наследству от родственника. По решению уездного суда поместье отошло жене прокурора губернии. Дубровский не смирился с утратой прав на имение и направил туда своих крепостных за лесом. Для их усмирения послали с десяток солдат во главе с сержантом, но крестьяне оказались не робкого десятка и дали отпор служивым. Дело едва не кончилось смертоубийством.
Н
Что до остальных «совпадений», то, оказывается, в Нижегородском уезде проживал однофамилец ещё одного из главных персонажей – владевший обширными вотчинами помещик Иван Федорович Троекуров. А что до Кистенёвки, вокруг утраты которой в романе и закручен сюжет, то так называлась деревня, соседствующая с Болдино, полученное Александром Сергеевичем в наследство от родителя в 1830 году. Конечно, всё это вошло в содержание, пусть и в преобразованном виде, что, само по себе, во-первых, не отрицает реальность основы, во-вторых, указывает на неслучайность выбора фамилий для ключевых персонажей.
Такие вот открытия ждали меня на стыке рефлексии, эмпирики и приобщения к Пушкиниане. Она поначалу вызывала ассоциации с непроходимыми лесными дебрями, приводящими новичков в душевный трепет, после же оказалась сродни Беловежской пущи – столь же обширной, сколь и обихоженной: этакий пример совмещенных зоосада с дендропарком. Казалось бы, при столь тщательном обиходе должно быть учтено всё, но сколь ни приглядывался – ни на одной табличке или аншлаге так и не увидел надписи «Верейский» с поясняющей информацией.
О
И это там, где каждая былинка тщательнейшим образом описана! Вот, пожалуйте, в таком-то углу такого-то участка некрополя Донского монастыря покоится Василий Огонь-Догановский, известный карточный игрок, «в его профессиональные «сети» попался в 1830 году Александр Сергеевич Пушкин, проиграв ему в Москве свыше 20 тысяч рублей» («Пушкинский некрополь», Михаил Артамонов, Семён Гейченко). Или вот, будьте любезны, выведанная путём тщательнейших архивных поисков вся подноготная Фёдора Бизянова. Об этом случайном знакомом автора «Истории Пугачёва» имелась лишь сделанная им во время путешествия по Оренбуржью карандашная пометка в дорожной записной книжке: «Бизянов ур. полк». (Р.В. Овчинников «Над «пугачёвскими» страницами Пушкина»).
А вот что касается того, откуда растут ноги у отнюдь не проходного героя хрестоматийного произведения классика русской литературы №1, тут вообще ни-че-го. Невольно подумаешь, что у создателей Пушкинианы странным образом возникли проблемы со зрением. Иначе как было не заметить торчащую из тщательно и идеально смотанного клубка нитку и не потянуть за неё?!
Я вот не удержался. Так экскурсант в пустом музейном зале сам для себя становится экскурсоводом. Единственное, чем он может компенсировать отсутствие эрудиции знатока, позволяющей судить о внутренней природе экспонатов, – это навык исследователя, способного определить им место в общей картине – удел пытливых дилетантов.
П
И тут свой указующий перст («указательный палец» после погружения в пушкинскую эпоху кажется малоуместным) вновь явил случай. Впрочем, это был всё тот же, подтолкнувший позариться на содержимое полки раздачи в районной библиотеке. Тогда вместе с книгой «А.С. Пушкин. Романы и повести» я прихватил и 27-й номер журнала «Новое литературное обозрение» за 1997 год. И именно в нём отыскалась подсказка на материализовавшийся, казалось бы, из ничего, как повод для драки из спёртого воздуха заштатной уралмашевской пивнушки, вопрос: «Кто он вообще такой, этот князь Верейский?».
Тут уж никакой библиомансии – вело содержание номера. Сразу обратила на себя внимание статья Вадима Вацуро «К истории эпиграмм Пушкина на Карамзина». У меня уже не было иного пути, как ступать по следам Александра Сергеевича.
Речь в статье шла о двух приписываемых ему эпиграммах:
В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.
………………..
На плаху истину влача,
Он доказал нам без пристрастья
Необходимость палача
И прелесть самовластья.
Таким образом, считается, молодой Пушкин отреагировал на прочтение шестого тома «Истории государства Российского» Николая Карамзина.