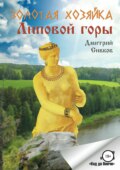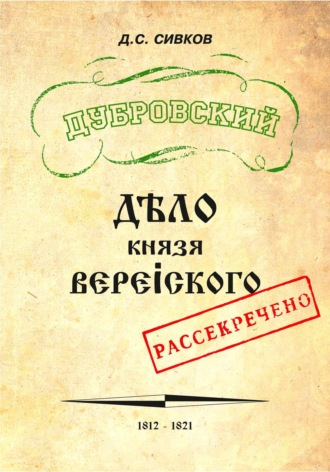
Дмитрий Сергеевич Сивков
Дубровский. Дело князя Верейского
Р
Датируют строки 1818 годом – периодом тесного общения недавнего лицеиста с теми, кто подверг критике, при этом не отрицая его достоинств, труд историка, посвященный царствованию Ивана III. Помимо изложения событий более чем трёхсотлетней давности в этом томе нашла отражение развернутая концепция самодержавного правления как оптимального для России, и как гаранта её независимости и величия. Карамзин утверждал: «Иоанн III принадлежит к числу весьма немногих государей, избираемых Провидением решить надолго судьбу народов: он есть герой не только Российской, но и всемирной истории». Этих слов Иван III удостаивается как создатель новой государственности, «которая возникала в целой Европе на развалинах системы феодальной или поместной».
Последнее обстоятельство и стало причиной двойственного восприятия «Истории» в среде «молодых якобинцев». Вацуро приводит несколько примеров этому: «С.И. Тургенев, отмечая “прекрасный рассказ”, сожалел, однако, что «великое дело”, совершенное Карамзиным, вряд ли “подвигнет <…> Россию вперед”; в свою дневниковую запись он включает размышление (потом зачеркнутое): “Но в борьбе самодержавия с свободою где люди, примеру коих мы должны следовать? Я могу верить, что Риму, в тогдашнем его положении, нужен был король Ю. Кесарь; однако могу восхищаться Брутом”».
С
Далее в статье: «Сходным образом читает историю Иоанна и Н.И. Тургенев. 15 апреля 1818 г. он записывает в дневнике, что “приятно, в особенности с начала, видеть успехи единовластия”, – но, встав, благодаря ему, “из своего уничижения”, Россия оказалась отмеченной “знаками рабства и деспотизма”. “Я вижу в царствовании Иоанна счастливую эпоху для независимости и внешнего величия России, благодетельную даже для России, по причине уничтожения уделов; с благоговением благодарю его как государя, но не люблю его как человека, не люблю как русского, так, как я люблю Мономаха. Россия достала свою независимость, но сыны ее утратили личную свободу надолго, надолго, может быть, навсегда. История ее с сего времени принимает вид строгих анналов самодержавного правительства <…>. История россиян для нас исчезает. Прежде мы ее имели, хотя и несчастную, теперь не имеем: вольность народа послужила основанием, на котором самодержавие воздвигло Колосс Российский!”».
У Пушкина были все основания разделить эти мнения не только в плане сожаления об утрате личной свободы россиян «надолго, может быть, навсегда», но и «по причине уничтожения уделов».
Большинство из нас пребывает в уверенности, что африканский континент до сей поры освещён и освящён отблеском восхода «солнца русской поэзии». Во многом такое понимание сложилось благодаря подаче его биографии во времена Советского Союза. Уж очень соблазнительная для советской пропаганды проглядывалась связь с угнетаемыми народами Африки, борющимися с колонизаторами за свою свободу, а позже и обретшими её. На самом же деле А.С. куда в большей степени гордился отнюдь не эфиопским происхождением прародителя по материнской линии Абрама Петровича Ганнибала, а своим протяжённостью в шесть веков российским дворянством ― по отцовской.
Т
Вот что отвечает Пушкин в статье «Опровержение на критики» (1830 г. ― за два года до «Дубровского»), появившейся как ответ на обвинения в литературном аристократизме: «В одной газете официально сказано было, что я мещанин во дворянстве. Справедливее было бы сказать дворянин во мещанстве. Род мой один из самых старинных дворянских. Мы происходим от прусского выходца Радши, или Рачи, человека знатного (мужа честна, говорит летописец), приехавшего в Россию во время княжества святого Александра Ярославича Невского (см. «Русский летописец» и «Историю Российского государства»). От него произошли Пушкины, Мусины-Пушкины, Бобрищевы-Пушкины, Бутурлины, Мятлевы, Поводовы и другие. Карамзин упоминает об одних Мусиных-Пушкиных (из учтивости к покойному графу Алексею Ивановичу). В малом числе знатных родов, уцелевших от кровавых опал царя Ивана Васильевича, историограф именует и Пушкиных. В царствование Бориса Годунова Пушкины были гонимы и явным образом обижаемы в спорах местничества».
И тут же: «Оно (дворянство) всегда казалось мне необходимым и естественным сословием великого образованного народа. Смотря около себя и читая старые наши летописи, я сожалел, видя, как древние дворянские роды уничтожились, как остальные упадают и исчезают…». Как всё это перекликается с откликами братьев Тургеневых на прочтение шестого тома «Истории…» Карамзина!
У
И ведь нигде здесь ни слова о предке-арапчонке. Хотя и секрета из этого факта Пушкин никогда не делал, так, в предисловии к первому изданию главы первой «Евгения Онегина» он писал: «Автор, со стороны матери, происхождения африканского. Его прадед Абрам Петрович Аннибал на 8 году своего возраста был похищен с берегов Африки и привезен в Константинополь…». Опять же, иноземный пленник тоже рода не простого да к тому же ещё и крестник самого Петра I: «Родословная моей матери еще любопытнее. Дед ее был негр, сын влиятельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из сераля, где содержался он аманатом, и отослал его Петру Первому вместе с двумя другими арапчатами. Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне в 1707 году, … и дал ему фамилию Ганнибал».
Вроде бы и тут есть чем гордиться. Человеку незнатному, может, и так. Но одно дело оказаться безродным счастливчиком, над головой которого как-то по-особому сошлись в счастливом узоре звёзды и притянули руку вседержавного властителя для крестного знамения, и другое – иметь предков, собственноручно заверивших законность избрания на царский престол первого Романова.
Ф
Вот здесь-то уже есть о чем с гордостью говорить и писать.
Стихотворным языком:
Смирив крамолу и коварство,
И ярость бранных непогод,
Когда Романовых на царство
Звал в грамоте своей народ,
Мы к оной руку приложили…
В черновиках: «Четверо Пушкиных подписались под грамотою о избрании на царство Романовых, а один из них, окольничий Матвей Степанович, под соборным деянием об уничтожении местничества (что мало делает чести его характеру)».
В письмах: «Видел ли ты Николая Михайловича? Идет ли вперед История? Где он остановится? Не на избрании ли Романовых? Неблагодарные! Шесть Пушкиных подписали избирательную грамоту! Да двое руку приложили за неумением писать! А я, грамотный потомок их, что я? Где я…» (Дельвигу из Михайловского, справляясь о работе Карамзина).
Потому и нет пиетета перед императорской семьёй. В этом плане характерен разговор с братом императора Михаилом Павловичем, запись о котором есть в «Дневнике» Пушкина от 22 декабря 1834 года: «Потом разговорились о дворянстве. Великий князь был противу постановления о почетном гражданстве. <…> Я заметил, что или дворянство не нужно в государстве, или должно быть ограждено и недоступно иначе, как по собственной воле государя. Если во дворянство можно будет поступать из других сословий, как из чина в чин, не по исключительной воле государя, а по порядку службы, то вскоре дворянство не будет существовать или (что всё равно) всё будет дворянством. <…> Говоря о старом дворянстве, я сказал: Ведь мы такие же старинные дворяне как император и вы…».
Х
На самом же деле, как теперь известно, пушкинский род имел более древнюю родословную, чем романовский. Боярин Андрей Иванович Кобыла, коего считают родоначальником дома Романовых, первый (и единственный) раз упоминается в летописях за 1347 года. Его послали доставить из Твери будущую жену великому московскому князю Симеону Гордому. Невестой же была княжна Мария, дочь прямого предка А.С. в шестнадцатом колене – великого князя Александра Михайловича Тверского, у которого, выходит, Кобыла был на посылках. Получается, говоря великому князю о равенстве, поэт отнюдь не прибегал к образности, как тому могло показаться. Это была констатация факта, а не фигура речи.
Так, среди предков Пушкина самый древний и славный род Рюриковичей Ржевских (Сарра Юрьевна Ржевская – бабушка поэта по отцовской линии), родоначальником которого стал Фёдор Фёдорович, удельный князь города Ржева (откуда и пошла фамилия). Так вот, как пишет в своей книге «Забытые связи А.С. Пушкина» Наталья Телепова, пращур Александра Сергеевича – Иван Иванович Ржевский, одно время бывший енисейским воеводой, доводился четвероюродным братом Марии Мстиславской, жене царя Алексея Михайловича. А, в свою очередь, его сын, прадед автора «Дубровского» – Алексей Иванович Ржевский приходился братом в пятом колене царевне Софье и царю Ивану, что позволило ему занять значимое место неподалёку от трона. Так что, если бы довелось, Пушкин мог аргументировать слова, адресованные великому князю, которые в свою очередь в полной мере относились и к его брату – Николаю I.
Ц
Такое отношение к царствующей фамилии… Что уж тут говорить об иных власть предержащих? А вот что. О новороссийском генерал-губернаторе и полномочном наместнике Бессарабской области графе Михаиле Воронцове: «Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою – а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин, – дьявольская разница». В этих словах, адресованных Александру Бестужеву в письме 1825 года, отражается видение Пушкиным своего истинного положения, а не того, что сложилось де-факто.
Конечно, из вышеизложенного лишь малую часть содержала статья в журнале «Новое литературное обозрение» №27 за 1997 год, но она стала нулевым километром (такие обычно символизируют бронзовые подобия канализационных люков) на пути к пониманию, во-первых, откуда Пушкин мог взять фамилию князя, во-вторых – возможного характера и мотивации действий данного персонажа.
Ч
Для начала следует вернуться к тому, от чего увела тема дворянских корней автора романа – к шестому тому «Истории государства Российского» Карамзина. В нём-то и кроется ответ на вопрос, откуда взялась фамилия заинтересовавшего меня персонажа. В главе III «Продолжение государствования Иоанова. Г. 1475-1481» читаем:
«Взяв Тверь мечём, Иоанн грамотою присвоил себе Удел Верейский. Единственный сын и наследник Князя Михаила Андреевича, Василий, женатый на Гречанке Марии, Софииной племяннице, должен был ещё при жизни родителя выехать из отечества, быв виною раздора в семействе Великокняжеском, как сказывает Летописец. Иоанн, в конце 1483 года обрадованный рождением внука, именем Димитрия, хотел подарить невестке, Елене, драгоценное узорочье первой Княгини своей; узнав же, что София отдала его Марии или мужу ее, Василию Михайловичу Верейскому, так разгневался, что велел отнять у него все женино приданое и грозил ему темницею. Василий в досаде и страхе бежал с супругою в Литву; а великий Князь, объявив его навеки лишённым отцовского наследия, клятвенною грамотою обязал Михаила Андреевича не иметь никакого сообщения с сыном-изменником и города Ярославец, Белоозеро, Верею по кончине своей уступить ему, Государю Московскому, в потомственное владение. Михаил Андреевич умер весною в 1485 году, сделав Великого Князя наследником и душеприкащиком, не смев в духовной ничего отказать сыну в знак благословения, ни иконы, ни креста, и моля единственно о том, чтобы Государь не пересуживал его судов».
Ш
Князья Верейские, как и позже – Ржевские, стали жертвой политики по искоренению местничества с целью укрепления верховной власти великих московских князей. И Пушкин, получается, делает правнука (колене так в десятом) опального Василия Михайловича одним из персонажей романа. Если бы заменил где слог или хотя бы букву в фамилии, так ведь нет: до точки – князь Верейский. И что, только для того, чтобы в какой-то степени поглумиться над древнейшим родом, познавшим прежде «прелесть самовластья»? Как-то не особо в это верится.
Зато на месте Верейского мог оказаться вошедший в года Евгений Онегин, увидевший в Дубровском возможность в очередной раз утолить свою природную потребность в конфликте и снова, как и в случае с Ленским, сумевший выйти из него номинальным победителем. А что? Оба персонажа – Онегин и Верейский – откровенно изнывали от вынужденного бездействия и неумения занять себя путным делом в деревне. Что касается непосредственно князя, то «Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал».
Что до мадмуазель Троекуровой, то она не могла вызвать в князе серьёзных чувств. Хотя вполне естественно, что «…старый волокита был поражен ее красотой». Всё это следует причислить лишь к увлечённости бывалого дамского угодника и не более: «…привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность, особенно с женщинами». И тут уж опытный мужчина являлся во всём блеске, ему и напрягаться-то особо не приходилось: «Разговор не прерывался. Марья Кириловна с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека».
Щ
Мог ли князь полюбить? Кого, смазливую девчонку, набитую, как её недавние куклы, ветошью, содержанием французских романов, из чтения коих исключительно и состояло всё её воспитание? Не-е-е-т… Это всё равно как если бы тонкий знаток всех нескончаемых перипетий 16 июня 1904 года, описанных Джойсом в «Улиссе», потерял голову от ярой поклонницы Дарьи Донцовой.
Ведь сам князь высокообразован. Об этом свидетельствует хотя бы эпизод, когда хозяин Арбатово показывает гостям свою картинную галерею, собранную за рубежом: «… объяснял их (картин) различное содержание, историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки. Он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Марья Кириловна слушала его с удовольствием». И снова, не с интересом, а именно «удовольствием», как кушала бы, например, спелые сливы: и вкусно, и стул нормализует. Ещё раз: «Не-е-е-т…».
По-настоящему девушка увлекла вельможного гостя лишь после того, как он узнал историю пребывания Дубровского в доме Троекурова под видом француза-учителя.
Ъ
Опытный в такого рода делах человек как дважды два сложил обстоятельства более чем странного гувернёрства и его последствия для хозяев, вернее, отсутствия таковых, что следовало бы из логики мщения.
И тут он повёл себя как бывалая гончая, нежданно-негаданно взявшая след добычи при выезде на пикник с хозяином: ей стали неинтересны ни его ласки, ни куриная косточка, тыкаемая под нос. Читаем: «Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным и переменил разговор. Возвратясь, он велел подавать свою карету и, несмотря на усильные просьбы Кирила Петровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю». Человека больного – одни «бархатные сапоги» и шутки «над своею подагрой» чего стоят – к тому же развращённого богатством и негой, должны были если не напугать рассказы о разбойнике, то хотя бы сделать осторожным. Вместо этого он на ночь глядя отправляется за тридцать верст в своё имение, рискуя наткнуться в пути на шайку бандитов. Гончая взяла след. Всё остальное не имело значения.
Дальнейшее повествование романа сводится к своеобразной подготовке к встрече, или вернее будет сказать – поединку, Верейского и Дубровского. При этом старый жених ведёт себя вполне достойно. Ну да, закладывает невесту отцу, когда той вздумалось спутать ему все карты, но делает это в силу необходимости и вполне корректно – не даёт отцу устроить сцену у фонтана. И после венчания не пытается разыгрывать комедию: «Наедине с молодою женою князь нимало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее приторными изъяснениями и смешными восторгами, слова его были просты и не требовали ответов». Молодая супруга в этот момент не особо занимает его мысли, он уже готовится к тому, чтобы столкнуться нос к носу с Дубровским. И не только внутренне.
Ы
Заметьте, как князь реагирует на появление соперника (перед этим уточнив, с кем имеет дело: «…кто ты такой?..», чтоб, не дай бог, не извести понапрасну заряд): «… не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. <…> Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет…».
Оказывается, старпёр-жених, отправляясь на свадьбу, подготовился под стать герою Шварцнеггера в фильме «Командо», когда тот разнёс к чертям собачьим целую мафиозную кодлу. Во всяком случае, князь выходит похлеще лже-Дефоржа, таскавшего повсюду с собой «маленький пистолет», коим и ухлопал цепного троекуровского медведя, встреча с которым стоила не одного измаранного исподнего гостям Покровского.
Да, миссия новоявленного мужа оказалась невыполнима, но только отчасти. Главарь разбойников пусть и не был ликвидирован, но на время нейтрализован, а вскоре он и вовсе распустил шайку и отбыл в неизвестном направлении. И выходит, то, что не удавалось сделать полиции и армейским подразделениям, оказалось под силу одному сугубо штатскому старику. Ох не прост этот старик, ох не прост. Как бы автор не хотел, а скрыть этого таки не удалось.
Ь
А ведь драматично-героической истории в свадебной карете могло и не быть вовсе. Это в том случае, если бы главе XVII действующие лица вели себя последовательно и руководствуясь здравым смыслом, чего от них ожидать всё-таки следовало. Речь об эпизоде, когда изловили мальчонку, доставшего из тайника кольцо Марьи Кироловны – призыв Дубровскому о помощи. С какой целью отпускают Митю? Ясно же, что не по доброте душевной Кирила Петровича. Та скорее бы в псарню за плетьми увела, чем на волю да в Кистенёвскую рощу. Выслеживали мальца? Будь так, то солдаты нагрянули бы в лагерь разбойников сразу же по его пятам. Нет же, это произошло много позже, когда Дубровский уже почти оправился от ранения настолько, что смог принять участие в рукопашном бою.
Выходит, в разговоре с Троекуровым исправник (а для его превосходительства, по нынешним меркам – генерала армии, пусть и в отставке, начальник уездной полиции – невелик чин) сумел представить веские, исходящие от какого-то довольно влиятельного лица, доводы в пользу того, чтобы отпустить связного. Тому надлежало исполнить-таки своё задание и доставить послание адресату. Дубровский должен был сунуться в капкан, расставленный для него. Кем? Ну, исходя из сюжета романа, тем, кто до него всё же добрался – Верейским.
Э
С понятием «старик», опять же, не всё так просто. Кого так можно назвать? «Старики и красавица сели втроем и поехали» – это о Маше, её отце и будущем супруге. «В комнату вошёл старик…» – так, говорят, сам Пушкин некогда отозвался о тридцатичетырёхлетнем Карамзине. С таким же основанием под классификацию могла подвести и самого А.С. его супруга. Впервые он посватался к Наталье Гончаровой, когда той было всего шестнадцать лет, а ему – без малого тридцать (тут неволей аукнется автор «Истории государства Российского»). Понимал ли это Пушкин? Конечно. Мало того, можно смело предположить, что он в какой-то мере ассоциировал себя с Верейским! Да, да… Каким бы это не звучало странным. По крайней мере.
То, что автор соотносит себя с тем или иным героем своего произведения, вряд ли для кого-то станет откровением. Хотя, например, Пруст, говорят, отрицательно относился к возможности толкования произведений фактами биографии. Ну так то Пруст, да и кто знает, от чего он сам хотел откреститься в своих произведениях. Пушкин же в первую очередь поэт, и отожествлять себя с героями ему скорее свойственно.
Так, в «Капитанской дочке» это Гринев, и тому в самой повести есть вполне определённое подтверждение. В первом французском её издании к словам старшего Гринева: «Не казнь страшна; пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею совести», имелась: «Un aоeul de Pouchkine fut condamnй а mort par Pierre Le Grand» – «Один из предков Пушкина был приговорён к смерти Петром Великим». Прямой отсыл к судьбе стольника Федора Пушкина, о котором уже выше шла речь.
Но если в «Капитанской дочке» Пушкин обозначает соотношение автора и героя, то в «Дубровском» этого нет. Просто потому, что не желает предстать в невыгодном свете. Это нормально. Ведь симпатии читателя априори на стороне Гринёва, чего не скажешь о Верейском. Мол, догадаетесь – хорошо, а нет – так и нет.
Ю
Гончарова за Пушкина вышла без любви, как и Троекурова за Верейского. И ни тот, ни другой, знавшие до первой брачной ночи много женщин и понимавшие в их сути если не всё, то многое, на этот счёт даже не заблуждались.
«Дубровский». Глава XVI: «Между тем обращение ее со старым женихом было холодно и принужденно. Князь о том не заботился. Он о любви не хлопотал, довольный ее безмолвным согласием. <…> Князь нашел сие весьма благоразумным, пошел к своей невесте, сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он надеется со временем заслужить ее привязанность, что мысль ее лишиться слишком для него тяжела и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор».
Из письма Пушкина – Н.И. Гончаровой (матери невесты): «…Только привычка и продолжительная близость могут мне доставить привязанность Вашей дочери; я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться; если она согласится отдать мне свою руку, то я буду видеть в этом только свидетельство спокойного равнодушия ее сердца. <…> Не явится ли у нее сожаление? Не будет ли она смотреть на меня, как на препятствие, как на человека, обманом ее захватившего? Не почувствует ли она отвращение ко мне? Бог свидетель – я готов умереть ради нее, но умереть ради того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, свободной хоть завтра же выбрать себе нового мужа, – эта мысль – адское мучение!»
Работать над романом Пушкин начал спустя год после женитьбы (в рукописи стоит дата начала работы над произведением: 21 октября 1832 года), когда мысли жениха ещё были довольно свежи в памяти. Удивительно ли, что они невольно нашли отражение в тексте? А раз так, раз линия Верейский – Пушкин имеет место, то симпатии автора непременно должны проявиться. Каким бы сукиным сыном не был или не хотел казаться автор, но отречься от любви к самому себе он не мог. Там, где всё явно и однозначно обозначено, как в случае с Гринёвым, – просьба любить и жаловать, ежели кто где выявит некую недосказанность – то её, соответственно, следует трактовать в пользу приятных характеристик личности сочинителя.