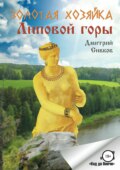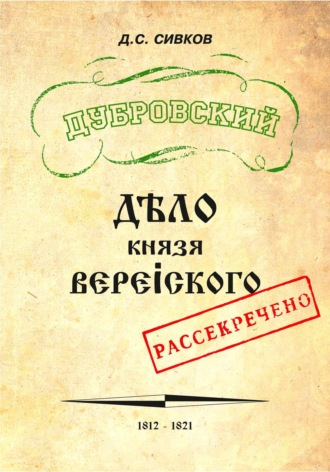
Дмитрий Сергеевич Сивков
Дубровский. Дело князя Верейского
Я
Таким вот увиделся князь Верейский пятидесятилетнему читателю, не бравшему в руки романа со школьных времён. То, что он не отмахнулся от поначалу неясных, как объявления остановок водителем маршрутки, догадок, во многом определил род его занятий – журналистика, где любая версия событий имеет право на осмысление. Соответственно, автор готов к тому, что зачастую невысокое мнение о современной журналистике будет протранслировано и на данную работу.
И без обвинений в профанации при этом вряд ли обойдётся. Пушкин ― канон, светоч ― в смысле объекта поклонения, со многими атрибутами обожествления. И любое посягательство на этот статус-кво может расцениваться как кощунство, надругательство и прочее, ведь именно так профанация трактуется большинством источников, исходя из его дословного перевода с латыни ― осквернение святыни.
Но у самого термина profanum есть ещё одно значение ― место около храма или вне храма. Тогда профанацию можно отнести к переносу священной темы в нерелигиозную сферу, а это уже из области исследования мифов в историческом и психологическом ракурсах. А князь Верейский именно в них и проявился. Оставалось лишь слово за него замолвить. А то, что главок при этом получилось ровно по числу букв русской азбуки, приносивших Пушкину, по его же словам, «доход постоянный», так после всего вышеизложенного и удивляться не приходится.
Шаля.
2019 г.