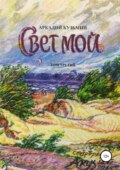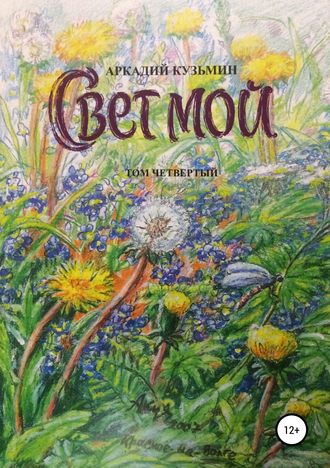
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 4
Например, как увидит он, с каким парнем я хожу, назавтра же о нем все выведает-разузнает у кого-нибудь, и если услышит что доброе, то и скажет мне, довольный: «Этот твой малец хороший, порядочный. Дружить с ним можно». А если обратное узнает – тотчас запрещает мне: «Не смей встречаться с ним больше, назначать ему свидания!» Я возмущусь его непрошенным вмешательством в мои личные дела: «Почему? Скажи на милость?» «Я говорю тебе, не смей, и баста!» – повышал он строже голос. И я невольно подчинялась ему. Он был авторитетом для меня.
Помню, он уехал куда-то надолго, а тут подоспел школьный бал. Мне страшно захотелось попасть на него в чем-нибудь нарядном, потанцевать; собственноручно я заказала себе бальное платье с белой розочкой на груди, все как полагается. Рада-радешенька. А наутро – я еще не проспалась после бала как следует – заявился домой мой неподкупный наставник. И сразу, суровый, взял меня в оборот: «Ты что же натворила, не спросясь у меня?!» «А что, Сашенька?» – испугалась я: даже голос у меня осекся. «На, смотри, голубушка! Любуйся! – показал он мне на свет мое новенькое платье. – Ты смотри сюда получше!» А оно-то, кружевное, тонкое, все точно прожженное; кружева иссечены. Выходит-то, надули меня, дуру доверчивую и еще неопытную. Сгреб он это мое платье, дернул меня за руку: «Ну, пошли со мной!» «Куда?» – Я, известно, ударилась в слезы. «Не хнычь!» – говорит. – «Пойдем, перезакажем». В ателье он вдребезги изругался с мастерами-портными, возвратил им испорченное платье. И новое – взамен возвращенному – вытребовал.
Вот таким справедливым он был моим заступником.
После моего замужества наши с Сашей дороженьки сами собой разошлись.
Был же ветреный мартовский вечер, разыгралась непогода, когда я разлетелась невиданно к Саше… На другой конец города. Тем немало поудивила своих родственников. Да просчиталась и дала оплошку: попросила у Саши денег взаймы за чаем, при его хваткой жене, Марии Ивановне, женщине сытой, завистливой, надменной. С круглыми, что у купчихи, глазками. И так она ровно на иголках сидела-елозила, стреляла в меня взглядом, силясь распознать, зачем я к ним припожаловала. А как только заикнулась я об одолжении мне какой-нибудь суммы для дальней поездки, так небеса прямо разверзлись; Мария Ивановна аж взлетела со стула и что-то невнятно прошипела. Завращала туда-сюда глазками, затараторила было: «Денег?! Денег, знаешь, мы сейчас не можем дать; мы еще должны…» И зыркнула на застылую напротив глыбу – своего сердечного муженька. Глубокая тишина прокатилась над столом. А за окном все сильнее бился и завывал ветер, швырялся чем-то, и молотили, полоскали, точно по моей больной расшумевшейся голове, ветки расходившихся деревьев – по крыше и стенкам братнина дома. Сухо прокашлялся Саша, что человек, берущий ответственное слово. И я вдруг увидела, сколь велики в нем испуг и смятение, внесенные в его спокойный мир моей позорно-низменной просьбой. Точно выпустила я чуму во вполне благополучном доме. И тогда, жалеючи его, я его опередила – зачем-то еще стала извиняться, объясняться. Мол, не сию минуту прошу; но чтобы поехать кружно в Крым, нужно заблаговременно готовиться и точно знать, можно ли на что рассчитывать. Выступила снова Мария Ивановна. Я ее не слушала уже. Однако Александр – для того, чтобы выказать, что ли, передо мною свою прежнюю мужскую власть, – повелительно пресек ее изливания: «Да, я не знаю, сколько, но тебе, сестра, дадим взаймы, раз ты просишь, непременно». И с тем встал из-за стола, почему-то обиженный на меня. За что? Какой урон я ему нанесла?
Было очень поздно – оттого я осталась у брата ночевать. Донельзя разволновалась от этих денежных переговоров и недопониманий. Словно милостыню я просила. В сущности, он глух уже к людским невзгодам и давно жирком оброс. Я была собой недовольна. Лежала на диване, все перебирала в мыслях и так и сяк; не заметила, когда хозяева улеглись, свет выключили и сколько времени прошло. Неожиданно вскочила на ноги, наощупь пошла в прихожую: хотела папироску взять – там оставила свою сумку. Во тьме шарю рукой по обоям – от расстройства душевного никак не могу нашарить розетку с выключателем. И вот чувствую тут: все шумит во мне, мне плохо, сердце зашлось. Голова куда-то проваливается. Задыхаюсь я.
В голове моей все смешалось. Наступило в памяти какое-то затмение. Абсолютнейший провал. Перестала понимать, где нахожусь и что со мной; испугалась, что нелепо потеряюсь от детей своих. Кто же в жизни им теперь поможет?
В темноте упала я. Кричу. Зову себе на помощь. Услыхала меня Мария Ивановна. Да, видно, струхнула пуще моего. Кинулась с кровати в ночной рубашке. Свет зажгла. И дико-дико-дико закричала, чтобы мужа разбудить: «Саша! Саша»! Тот на крик ее вскочил. За врачом ее услал. Все дальнейшее я помнила смутно. Сначала я на кровати очутилась каким-то образом, потом – на диване, потом опять вроде перекочевала на кровать. Какие-то люди суетно толпились надо мной. И выл и свистел ветер, и плескался бесконечный дождь. Я озябла. Глаза с усилием полуоткрыла на мгновение – уж человек в больничном халате склонился надо мной и внимательно щупал пульс на моей нечувствительной руке, и как-то успокоительно для всех приговаривал: «Ничего, все обойдется, обойдется все». Меня зачем-то уговаривал. И влил мне в рот какую-то горькую, с резким отвратительным запахом, жидкость (подобного добра я немало уже перепила). И мягко, неслышно ушел, словно незаметно растворился на моих же глазах – только что он был живой возле меня и нет уже его.
А потом – врач сам, вероятно, почувствовал, что со мной неладное творится. Он уже на «скорой» примчался за мной. Пришла опять в себя тогда, когда щелкнули дверцы машины, которая увозила меня в знакомый мне по Колиной болезни (да и по своим собственным) окружной госпиталь.
В госпитале я снова провалялась больше месяца. Александр со своей несговорчивой женой изредка навещал меня в палате. Однако ни о каких деньгах, какие бы они могли мне дать взаймы, они не упоминали: считали, должно быть, что я поделом наказана и что это теперь должно отчетливо доходить до моего непутевого бабьего сознания. Лишь в выражениях их просветленных лиц, в их чересчур кротких глазах я читала затаившийся испуг. Они все же боялись, что я, не доверяя их красноречивому умолчанию, сдуру возьму да и снова брякну о деньгах нежеланно. Ведь я была, по их понятиям, неисправимая просительница, к тому же сумасбродная больная: психанула так, что попала на больничную койку надолго. Куда уж дальше.
И после – в мае и в июне, когда я вышла из госпиталя, они молчали по-прежнему. Так и не дали мне денег в долг. Открутились. Детей у них нет. Дома тьма дорогих вещей, одна сберегательная книжка, другая, да еще в чулке кое-что лежит, я знаю, – деньги солить они, что ли, собираются? Ведь не в могилу же они все с собой загребут?
Это собственно не мы, необразованная серость, неумеющая жить. Как же, он, Александр, на белых хлебах живет. Я очень объективна. Не от обиды какой говорю-наговариваю. Спокойно старость свою обеспечил. Да зачерствел он неузнаваемо. О, люди! Да что поделаешь: правит в доме женщина, все в руки забрала, держит крепко в узде и повиновении; хоть и напускает еще он на себя вроде бы мужскую гордость, твердость, непреклонность – все это фуфло. Или уж консервативность заела и его: зачем же позря волноваться из-за бед чужих? Ну, шут с ним! И хорошие люди везде у нас есть. Меня выручили. Золовка, мужнина сестра, выручила нас. Вероятно, советовать другим, как советовал мне когда-то Александр, гораздо проще, чем поступать соответственно самому.
Да, в жизни все-таки, я повторю, все мы идем по разным тоннелям. И не видим друг друга. Нисколько.
Ну теперь-то все позади. И разрываюсь я на части: мысленно мчусь к Сане и частично стремлюсь обратно, домой. Там ведь Тихон остался совершенно один. Будет там два месяца питаться всухомятку. Он, как и все мужчины, даже сварить себе хороший обед не сможет. А у него еще руки в экземе – она не поддается медицинскому лечению, потому как возникла на нервной почве. Два месяца он лежал в лучшей больнице – еще хуже. Хотя его уверяли в том, что это инфекционно-простудного характера.
В точности я знаю: мой сынуля с невесткой будут ждать от меня одного – что же я им привезла? Им нужны, разумеется, подарки – корабли да барки. А что я привезу? Нет, я везу кое-что другое. Развести я их хочу. И от сильнейшего волнения Нина Федоровна даже привстала и оглядела нас внимательно, изучающе.
– О, да что же вы сидите впотьмах? – В светлом проеме двери выросла фигура Николая. Щелкнув выключателем, он зажег свет. И вошел.
– Ах, Колюшка… Который же час? – Нина Федоровна взглянула на свои наручные часы. – Ой, почти одиннадцать ночи?! Батеньки! И спать некогда. Ой, заговорилась!.. Извините меня… И ты сынок, Колюшка… Ложишь… Ложишь… – И стала расстилать себе постель.
– Обо мне не беспокойся, мама, – только сказал Николай и залез наверх.
– Я вот что не знаю, милые: как нужно поступить поделикатней? – почти зашептала нам Нина Федоровна, присев опять на краешек дивана. – Придти ли к Сане в дом или, скажем, вызвать его куда-нибудь письмом? Но в дом к нему я не хочу идти: хозяйка там одна – она, Миля, а не он. А письмо мое она же перехватит… Или вызвать его через какого-нибудь посыльного? Может, на почту позвать? Как вы считаете? – возбужденно спрашивала она у Антона и Любы, эта несомненно умудренная жизнью женщина.
Теперь, когда она пересказала содержание того, что ее угнетало, ей было страшно остаться наедине с таким неразрешимым, нераспутанным вопросом, который, оказалось, в свою очередь, был связан с множеством иных вопросов, не менее существенных, а может быть, и самых главных; главное же, она не хотела быть бесчеловечной ни к кому, а поэтому еще не знала, как, с чего начать, как подступиться ей к осуществлению ее плана. Да и был ли он составлен, взвешен ею? И имела ли она на это моральное право? Нет, она решительно ничего не знала. О том и говорила. Казалось, чем ближе она продвигалась к месту своего стремления, тем сильнее одолевали ее сомнения и страх перед невозможностью осуществления задуманной ею миссии, и это она уже не могла скрыть от попутчиков, сочувствующих искренне ей.
Она стала какой-то беззащитной и безвольной.
– Думаю, – сказал Антон, – вам незачем скрываться и скрывать свои чувства. Вы – мать, приехали к родному сыну и желаете посмотреть, как он живет. Вы должны с ним обо всем поговорить – и самым объективным образом. Надо смотреть на молодоженов с их же колокольни.
– Но как? Что я скажу, когда к ним приду? – с пристрастием допрашивала Антона Нина Федоровна. – Из-за чего ж я ехала к ним через всю страну?
– Обстоятельства Вам сами подскажут, Нина Федоровна.
– Ну, простите. Я еще подумаю обо всем. Спокойной ночи! – И она легла.
Поезд летел в ночном пространстве, монотонно перестукивали по рельсам раскатившееся колеса и под это перестукивание она, лежа под одеялом, не то вздыхала, не то всхлипывала в густой темноте.
Всходила и плыла, плыла над самой еще землей, догоняя поезд, красная и чуть ущербная луна.
XXXVI
Антон проснулся уже при свете слепительного утра – и вмиг почти физически ощутил на себе сухой, иступленный зной пригожего южного лета. За окном вагонным плавно проплывал неоглядный Сиваш: под солнцем раскаленно рябили бесчисленные водные рукава, простертые по желтому песку до самого горизонта, и однообразно вытянулись вдаль узкие грубые деревянные ящики, в каких здесь (исстари) выпаривалась соль. В купе мало-помалу проникал крутой запах соленого моря вперемежку с горьковатым полынным.
Нина Федоровна, как и Николай, еще спали. А Кашины готовились к выходу в Симферополе, чтобы отсюда – в троллейбусе или такси – поехать прямо к морю. Люба, приводя себя в порядок, прошептала:
– Все-таки ужасная у нее судьба. И теперь…
Антон предостерегающе приложил палец к своим губам и с опаской поглядел на спящую: вчера же она, Нина Федоровна, предупреждала, что по-настоящему никогда она не спит – вот так лежит в полузабытьи с закрытыми глазами и прекрасно слышит все, что говорят поблизости. Сейчас она во сне определенно шевелила губами, словно заклинала себя либо кого-то еще, либо молилась беззвучно. И Люба еще тише зашептала:
– … У ней вряд ли выйдет задуманное. Известно, что в споре матери с невесткой сын чаще держит сторону жены, хоть и несносной. Я сужу по брату своему…
– Собирайся: время! Я иду побриться.
– И я умоюсь. Погоди!
Однако в эти минуты проводница, осунутая, раздраженная, наспех мыла в коридоре линолеумный пол, шлепая и возя по нему мокрой тряпкой на палке, и взвилась, едва Кашины ступили сюда. Охрипшим от постоянного недосыпания и ругани голосом она даже покрикивала на выходивших из купе пассажиров, чтобы никто не топтался по сырому вымытому полу и не следил на нем, пока он не высохнет; а чтобы меньше истоптали его, она закрыла с этой целью в туалете воду, хотя до станции очередной оставалось еще предостаточно времени. Уж так заведено, сердито и обиженно ворчала она, что всего лишь через два часа они отправятся в обратный рейс – где ж успеть убраться.
Покамест ждали, когда она покончит с мытьем пола и откроет воду, поезд прибыл на станцию Джанкой. Здесь, за дорогой, на приусадебных участках, никли редкие желтые шапки подсолнечника, деревья были пыльные сплошь, а трава уже вся пожелтела, сгорела.
В вагоне стало шумнее. Заговорили, задвигали вещами; задребезжало радио. В соседнем купе заплакал ребенок, несмотря на то, что слышно уговаривала, воркуя и лаская, его мать и даже напевала ему что-то. Тем не менее Нина Федоровна все не просыпалась. Почудилось Антону, она, прикрыв глаза, лишь глубоко задумалась над чем-то, так как около восьми часов утра, как только поезд, замедляя ход заметно, стал подходить к Симферополю, она, как-то встрепенувшись вдруг, приподнялась и потянулась к верхней полке.
– А где же та девушка? – спросила она хрипло, крайне взволнованно.
– Какая девушка? – удивленно воскликнула Люба.
– Фу! Приснилось мне под занавес. – И уж улыбнулась она просветленно, видимо, очень довольная тем, что это ей приснилось, а не было наяву. – Спит еще? – удовлетворенно осведомилась она о сыне, а затем уже поздоровалась и договорила с удовлетворением: – Он проспать может хотя б тринадцать часов кряду. Ну и пусть отсыпается себе! Покамест за матерью… Думала сейчас: не выдержу и закричу. Красная девушка взяла его, Николая, за руку и ведет его куда-то. Уводит, значит, от меня… моего последнего-то сына…
Кашиным было очень жаль оставлять ее, растерянную, наедине с такими мрачными мыслями. Словно чувствуя перед ней, мятущейся, вину за то, что они были в хорошем, радостном настроении, они поинтересовались у ней, как она чувствует себя, как спала. И, прощаясь, желали ей всего наилучшего, а главное – спокойствия. Может, и устроится все само собой.
Она горестно покачала головой и произнесла извинительно:
– Да, я верно, очень надоела вам… Простите… Но скажите… – были у нее предательски увлажненные блеском тоскливые глаза: – можно ли мне сделать так, как я ввечеру рассказывала? Как вы считаете?
Люба на это ей с откровенностью сказала, что по ее мнению, если обрученные уже вместе года два и меж собою ладят, – грешно было бы вмешиваться в их семейную жизнь: они и сами разберутся, в конце концов, во всем. Без посредников.
– Для начала, – добавил Антон, – вы пойдите к ним. И посмотрите, что и как у них.
– К ним, сынок, я не могу пойти; я вызову Саню куда-нибудь – запиской либо как-нибудь еще. Его Мила безалаберна, да страсть хитра, пронырлива, если скоро забрала его в ежовы рукавицы, и я, свекровь, не могла никак подладиться под нее, откуда бы ни заходила. Словом, она – фурия.
– А я вам говорю, родная Нина Федоровна, что и бесполезно учить ее порядку и порядочности, если это у нее в крови.
– Только не волнуйтесь за сына напрасно, – подхватил Антон после слов жены. – Ведь мужчина он, действительно, и пусть сам доходит до всего, проявляет свою волю, доблесть.
Нина Федоровна поднесла к глазам платок:
– Понимаю все… Я, как все бабы, нереальная, конечно же, но… ведь это я хочу сделать ради счастья Сани. И иду что на голгофу. Да приедешь к ним – может, и еще пробой поцелуешь… Прокатишься зря… Я ведь не писала им об этом путешествии совсем, чтобы их не спугнуть. В поездах наездившись, истинно собственный язык жуешь. Вам завидую, что вы молодые, свободные. Ну, простите… И прощайте.
– До свидания!
Люба быстро нагнулась над ней, тихо плачущей и, целуя ее на прощанье, ткнулась в ее дергавшуюся щеку. И торопливо затем, точно за нею гнались, выскользнула из купе.
На очень людном и многоголосом перроне симферопольского вокзала они оглянулись на только что оставленный вагон севастопольского поезда. Но на расстоянии там, в вагоне, – за его запыленными и отсвечивающими стеклами – только и видны были одни тени сновавших пассажиров.
Наперерез Кашиным выскочил неухоженно-помятый лобастый малый в стоптанных башмаках, спросил с ходу, в упор:
– Вы не могли бы дать мне какую-нибудь мелочь. Я есть хочу. У меня мать умерла. Я не прошу десятку, а только мелочь.
– О, об этом мы давно уже наслышаны… – Антон протянул ему монетку, заглянул в его нагловатые глаза. – По-моему, на прожитье и подработать можно самому. Не развалишься, поди.
– Мне ведь только семнадцать лет, поймите…– вызывающе и с какой-то великой претензией и даже ненавистью к миру и ко всем сказал юный вымогатель. И тут же, сорвавшись с места, закричал вслед седовласому старцу: – Эй, молодой человек, постойте! – И остановил того. И тот полез в карман.
А рядом проходящая гражданка с баулами раздраженно проговорила:
– Я это знаю хорошо: попрошайкам помогают. А у меня все-все стараются отнять.
– Я устала от нее, великомученицы сыновей, – призналась Люба. – Для нее – не тот женский товар оказался у ее воспитанных мальчиков. Помню: и мамино помрачение (и всех нас), когда ее любимый сын Толя (я не была у нее любимицей) привел в дом свою местечковую жену Лену. Все шарахались от нее прочь.
– Да, беда, прокол в личной жизни ребят Нины Федоровны: – согласился Антон. – Их-то специально готовили к военной службе Родине, к ратным подвигам, как и их отца, в горячих точках – стычках с недругами, а не к выбору подходящих спутниц.
– Видишь ли, у них – династия военная. Потому, верно, и отец их, военный профессионал, не очень-то приспособлен к мирной гражданской жизни.
– Время сейчас такое. Как и для нас оно было и есть. Вон в сорок четвертом и муж Нины Федоровны, офицер, выходит, тоже, что и я, исхаживал дороги Белоруссии. Мы могли бы незаказанно встретится. Восхищает меня материнский подвиг Нины Федоровны. Она, как и наша мать, Анна Макаровна, да и твоя мама, Янина Максимовна, растила ребят прежде всего для того, чтобы они стали достойными людьми и достойно служили отечеству. Величайший труд отдают матери во благо миру, справедливости.
– Не всем это дано, не говори; не всем – по силам.
– Потому и общество дырявое бывает. Есть и отъявленная шпана.
– Да мы еще молодожены. И все – впереди.
– Какие же вы счастливые! – позавидовала им Нина Федоровна.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
По существовавшей классификации Кашин был художником печати. И он также вел все книжное и иное производство в издательстве, придерживаясь выделенных Комитетом по печати лимитных квот в десятке полиграфических предприятий страны, которые более-менее сносно по качеству выпускали книги, альбомы. И это у него получалось. При немалых усилиях.
Для служебной переписки Антон отводил специальные дни («дни писем», как он говорил); другие же бумажки, вроде всяких докладных на него самого (обидел кровно Веру – экономистку, подписав без нее кипу накопившихся соглашений с одной типографией, которые она уже полгода не подписывает; поздно вышел тираж такой-то открытки; поставил на книжки стандартную 100-граммовую бумагу, а хотелось бы поплотней и т.п.), он видел, не носили делового характера и он, не читая их, но зная их суть в зависимости от людей, писавших их, время от времени сбрасывал в корзину под стол, чтобы они не плодились. Потому как давать объяснение на каждую из них директору – потратишь все рабочее время. Да и никак нельзя писать объяснительные по поводу стиля своей работы. Это никому не объяснишь.
Стиль его работы заключался в том, что с утра, как он приходил, он прежде всего старался по-человечески увидеть, как выглядят, как чувствуют себя сотрудницы, не заболел ли кто из них и не случилось ли что у кого; не доверяя своему впечатлению, спрашивал всех, и если это нужно, отпускал в поликлинику, домой и т.п. Он знал, что никто из них никогда не отлынивал от работы и всегда свое дело делали отлично. И только после этого он опрашивал по очереди всех, что они успели сделать накануне и что думают сегодня сделать, какие у них планы. После этого он деликатно, но настойчиво предлагал: «А не лучше ли сделать так?» Он любил полную самостоятельность своих сотрудников, и они уже привыкли к этому. Сначала сделают, решат без него, что должны делать в типографии, а потом уж своими сомнениями делятся с ним. И это было хорошо. За них можно было не бояться никогда. Так и он сам поступал – никогда начальству не докладывался. Выяснялось это лишь тогда, когда дело было сделано. Не докладывался еще потому, что начальство любило разглагольствовать по любому пустяку – и дело тогда только страдало. Ко всему этому привыкли все в издательстве и в типографии. Директор не хотел ни с кем ругаться. Он поддерживал со всеми добрые отношения, вел себя крайне стеснительно, а ему, Антону, ругаться приходилось, и его боялись, потому как он говорил одинаково для всех и всем, если люди того заслуживали. И он нес на себе нагрузку разрешения большинства производственных вопросов.
И так он сидел, мучительно думая, как следом за Валентиной Павловной зашла мастер переплетного участка, полная рослая Евгения Ивановна, и спросила, улыбнувшись:
– Ну, что, Антон Васильевич, сидите, как Наполеон?
– Да, как будто решается: пустить или не пустить в дело старую гвардию? – сказал кто-то за него.
– Насколько мне помнится, он об этом не думал, – сказал быстро Кашин.
– Да, не пустил, – согласился, краснея, язвительный Ветров: это был он. И ушел весь во внимание, слушая, что ему говорит Веселкина:
– Сегодня в автобусе все такие вежливые, и день яркий, солнечный. Пальто помогли надеть, платок поправили.
– Это кто же Вам помог? Дина Николаевна?
– Ну, все.
– Ах все!?..
– А я к Вам, – сказала, подступая к нему, Евгения Ивановна. – Помогите нам, Антон Васильевич.
– Помогу Вам с удовольствием, – сказал Антон в тон ей готовностью, уверенный в том, что в его силах всем помочь во всем, кто бы к нему не обращался с просьбами, и жестом пригласил ее присесть. – Переплетный цех сейчас нас не подводит, кроме папок к альбому Шишкина… Ну, Евгения Ивановна, я слушаю…
– Положение серьезное. Примите меры. Опять к нам не завезли бумагу и картон, сколько ни просили. Я на завтра отпускаю домой всю бригаду. А ведь она у меня работает сдельно. Вы все сами понимаете прекрасно…
Кашин, уж ни слова более не говоря и хмурясь больше, тотчас же схватился за беленький телефон (черненький был городской):
– Антонина Яковлевна, Кашин.
– Да, – отвечает та очень сухо, сдержанно, с поджатыми губами: сильно злится на него, он не дает ей спокойно жить.
– Что, не получается у Вас завоз в переплетный? Я просил…
– Я помню. Но на складе неожиданная ревизия. Я не могу.
– Но вчера ведь обещали, зная и про это…
– Господи, я не могу… Антон Васильевич!
– Антонина Яковлевна, это ж периодика, Вы знаете.
– Да, знаю, и ничем помочь Вам не могу.
– Я и Юрченко напоминал об этом самом.
– Ну, и спрашивайте у него: он сам запретил.
– А что у Вас с размоткой? Есть что-нибудь в размотке?
– Ничего. Надо ж раньше говорить.
– Боже мой! Да начиная с лета я твержу… Антонина Яковлевна, а с выборкой бумажных фондов у нас как? Вы звонили на фабрики?
– Нет еще.
– Почему?
– Потому что не успела. Я же ведь не сплю, Антон Васильевич, как Вам кажется. Мне нужно доделать отчет комитету, проверить сведения статуправлению о наличии складских остатков; сижу теперь, с головой занятая этим делом. У меня же две руки, мне не разорваться. И чем больше мы с Вами сейчас разговариваем, тем больше это отнимает у меня время, – все сильнее и сильнее раскатывался в трубке резкий голос. – Я не могу. Смогу узнать дня через три.
– Но у нас же печатные машины стоят, поймите это.
– Я не специалист, что мне тут понимать!
– Повторяю: нам нужна сейчас только офсетная бумага, ни мелованная и ни литографическая пока не нужны – они на складе есть, Вы это можете проверить. А поставщики офсетной у нас только две бумажные фабрики. Между той работой, которой занимаетесь, попутно закажите только два телефонных разговора с фабриками – все! Ведь уже март. Мы не будем торопить с отгрузкой, – бумага поступит к нам в лучшем случае в начале того квартала. Значит, план квартальный летит к черту. А ведь надо книжку сначала отпечатать, несколько листов в несколько красок, каждая краска печатается последовательно, когда просохнет предыдущая; потом надо отпечатанные листы сфальцевать, потом сшить, потом книжку сшитую подрезать с трех сторон; потом в пачки упаковать, потом этикетки на пачки наклеить – вот только тогда можно вывозить готовую книжную продукцию. Представляете, сколько нужно потратить времени на все эти операции. А там кто-то еще заболел. Сейчас эпидемия гриппа… Все, план квартала нарушен; – заявил Антон уверенно, с досадой, что сидят такие бестолковые неделовые работники.
– Антон Васильевич, я не могу. Я занята, – отвечала равнодушно начальница снабжения.
И Евгения Ивановна, слыша ее ответы, качала головой с удивлением.
– Ну, вы поручите это сделать Тамаре Николаевне.
– Все! Ее больше нет!
– Как, уже ушла? – он слышал, что она собиралась на пенсию.
– Да, – трагически отвечала, хотя до этого она с ней скандалила не на жизнь, а на смерть, Антонина Яковлевна; этим тоном она как бы хотела сказать, что у нее в отделе стало меньше работников, и она поэтому теперь не управляется с делами.
– Ну, попросите Юрченко, своего начальника. Может и он поговорить. Не барин.
– Антон Васильевич, я сказала: сделаю, что смогу. И все.
А ведь еще в конце того года в докладной записке директору он писал как раз об этом, говорил ежедневно, и все бесполезно. Его часто обвиняли в том, что он не фиксировал всех фактов, – он не любил, привык к самостоятельной работе с людьми и подсказывал другим, что нужно бы сделать, видя как бы на много времени вперед, предвидя всякие осложнения, – и все бесполезно.
Хотя ему изрядно уже надоедало быть рассудительным со всеми, ровно педагогу.
II
Только что закончился этот неприятный разговор. Зазвонил над дверью звоночек, потом стукнули за стенкой, у которой он сидел. В этом новом помещении городской телефон был параллельный с бухгалтерией, и они попеременно перестукивались в стенку, когда кому брать телефонную трубку, или откуда звонили в звонок; тогда отсюда стучали в стенку – сигнал о том, что можно уже переключить: трубку взяли.
– Да, здравствуйте, Татьяна Викторовна, – узнал он голос главного технолога офсетной фабрики: он всех узнавал по голосу. И взглядом отпустил Евгению Ивановну, сказав ей в сторону: – Сейчас я разберусь.
– Я вот что хочу спросить у Вас, Антон Васильевич. На первый квартал спущен лимит для вашего издательства на восемь миллионов краскоаттисков. Вы сможете освоить их? Бумага у вас есть?
– Разумеется, – сказал Кашин, прикидываясь непонимающим (бумаги не было ни грамма). – На этот год отпущена хорошая офсетная бумага. Ждем. Советская и Каменногорская.
– А что, еще не получена?
– Нет.
– Вот видите! Значит не освоите. Так и будем писать Комитету. Может, хотя бы приехали к нам, чтобы план обсудить.
– А что толку ехать к вам. Ведь иного разговора от вас все равно не услышишь. Вы же сами себя подрезаете. Книжка «По Франции» у вас в производстве уже четыре года, все не можете дать приличные пробы. Братскую ГЭС быстрее построят… Что вы печатать будете – вот придет к нам сейчас много бумаги? Книжку «Про оленей»? Осталось допечатать сто тысяч, и все. Почему же задержали пробооригинальные работы «По Камчатке»? Бумага подойдет довольно скоро – можно было бы печатать и ее.
– Мы не успеваем делать пробы. Книжку «По камчатке» мы отсняли, но она лежит пока без движения. Не дашь же ее ученикам, которых мы набрали…
– Странный у нас с Вами разговор получается. Все время только и слышишь «не можем…», «не будем…», «не в наших силах». За прошлый год – посчитайте вы нам только по двум книжкам сделали новые две пробы, ну, еще факсимильная репродукция, только и всего.
– А это разве мало? Это, если посчитать, как раз и составит три процента он нашей мощности. Ну, я говорю же: мы не успеваем готовить новые пробы. Парк печатных машин увеличили, а граверов не хватает…
– Так что же тогда в Комитете думают?…
– Ну, это не нашего ума дело…
– Ну, если так рассуждать, все можно пустить на самотек.
– Повторите какие-нибудь старые книжки, на которые у нас есть пленки.
– Вот-вот. А новые будут лежать. Производственный портфель увеличиваться. И с Кашина за это прогрессировку срезать… И что же, любопытно, вы предлагаете переиздать?
Она стала называть.
– О, это такое старье! Столько раз переиздавали. Нет, не подойдет, я сразу могу сказать. Вот «Про оленей» – еще куда ни шло. Книжка интересная. Еще триста тысяч можно повторить. Так… Уйдет сорок пять тонн бумаги. Это… По двадцать две копейки… Даст шестьдесят шесть тысяч… Маловато. Но я скажу своему начальству. Повторим. Но и вы должны сделать все возможное, чтобы выдать нам немедленно пробы. Как, договорились?
– Как только завезете бумагу, так сделаем их.
– Понятно. Теперь у меня предложение. Может, фабрика согласится взять наши бумажные фонды и будет заказывать сама бумагу в конторе, чтобы нам не переваливать без конца: сначала – с железной дороги – к себе, скидывать роли с машин и закатывать их в склад, а помещения у нас складские не приспособлены для этого, грузчики мучаются, они ведь тоже люди, а потом грузить опять на машины – и к вам, т.е. делать из бумаги лапшу.
– Ну, это, наверное, нужно с Москвой говорить.
– Но Вы-то не против этого предложения?
– Нет.
– Ну, тогда прекрасно. Мы поговорим с Москвой.
После этого, снова написав директору докладную, хотя, как он знал, были бесполезны здесь как слова, так и докладные о том, что нужно завести туда-то и туда-то бумагу и пр., он без стука вошел в кабинет Овчаренко (у него сидели, как обычно, зам.директора Юрченко и Шмелев, парторг) и подал ему докладную со словами: