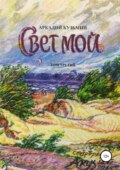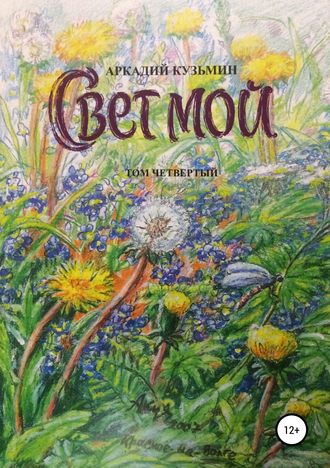
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 4
Общаясь с девушками на ходу, Антон обрел способность быть самим собой; нашелся, что сказать, как бы объяснился:
– Я потому с этим вожусь, – он показал пакет, – что мне это до сих пор интересно – преображение лица природы под кистью, что и получается.
– Да Ваши картины достойны быть в музеях, – говорила убежденно Маша.
– И мне очень понравились, – добавляла ее подруга, Настя. И маме моей.
Они спускались в зал по эскалатору.
– Ну, полноте! Вы преувеличиваете. Увольте!
– Поверьте! Это так. Головы у искусствоведов забиты новомодными инсталляциями. Все обменники ими забиты – не разбирают их художники после выставок своих.
– Уф! Язык можно сломать – коробит это слово – кличка антирусская; безрукие дизайнеры его придумали, верно. Ну, горе-художники и сто лет назад пытались вместо того, чтобы рисовать, подвешивать к полотну кирпичи и веревки, – ведь это вещественней, рельефней… И ненужно умение в рисовании…
– В общем мы ваши поклонницы и сторонницы, пишите на радость…
– Верю вам! Люблю вас! Я осознаю ответственность за то, что мой пейзаж за меня никто не напишет. И он будет узнаваем, мой! Неприглашенный.
– Да, когда смотришь на Ваши картины, будто чувствуешь себя внутри изображения – столь понятно и убедительно написано. По красочности и по композиции.
Антон приостановился в зале:
– Потому, сестрички, я и пейзажиствую, что кому-то и вам моя живопись люба. Кстати скажу: я всегда занимал свое место, а ничье чужое; ради этого никому не мешал, не расталкивал никого локтями кормушки ради. Я спросил на днях у одного молодого инженера, играющего в массовках в кино немецких солдат (он покупает по дешевке мои пейзажи – приезжает ко мне с матерью) – я спросил откровенно:
– Скажите, мои пейзажи вам не надоели?
– Что Вы! – Удивился он. – Утром глаза открываю, сразу вижу Вашу баньку у себя на стене, вокруг нее, вижу, льется свет. И сразу на душе хорошо становится. Нет, это не может надоесть…
Вот вам похвастался. Извините. Каюсь!
– Мы слушаем Вас.
– Я почему расхвастался? Вы теперь – лучшая замена для меня моих бывших друзей-фронтовиков. Новая поросль – я вижу – славная, открытая, идущая вперед. Мне сегодня снился мой друг Махалов, фронтовой разведчик, юрист и художник, мальчиком занимавшийся в изостудии Дворца пионеров.
Ему снилось, что он забрался неведомо каким образом на некую немыслимую высоту, отсюда пытался еще забраться повыше. К облакам была приставлена какая-то хлипкая лесенка, наподобие той, какую он прорисовывал некогда на форзаце к объемной книге с библейскими рассказами о святых. По лесенке этой он взбирался еще выше, чтобы увидеть, что за ней находится; он упрямо лез, соскальзывая и не видя того, что хотел увидеть. А голос Махалова как бы остерегал его: «Смотри не упади!» И падал в каком-то фигуральном смысле, потому как под ним, под его ногами круглые ступеньки крутились. «Смотри не упади!» – говорил ему голос. А кто-то прокомандовал: «Оставь эту высоту – фуфло! Не раздражай бабулек!»
И что означал этот очередной сон, что-то упреждающий, он не смог разгадать.
Они сели в вагон электрички и договорились встретиться на выставке.
VII
И другие голоса вскоре слышались: «Ты где? Я выхожу из метро». Шла молодежь, не глядя под ноги себе, с мобильниками в руке наперевес.
«Ну и пусть будет это жанр для любителей изнанки. Но причем тут мы, живопись?»
«Видишь, молодые неолибералы сильно раскрутили рулетку вседозволенности. И слаб человек. Он хочет жить наотмашь, вопреки всему, всем возможностям».
Интуитивно по размышлению Антон нашел, что иначе и быть не могло. Его электронный поезд ушел, помахал ручкой ему. Он, Антон, не приспособившись, отстал от него; он-таки не принимает жизнь такой сегодняшней, расхлистанной, а она не принимает его целиком с его понятиями и привычками, с его щепетильностью. Щелкает по носу уже с другой, несоветской стороны. Щелкают те мелкие неисправимо тщеславные недоброжелатели, которых уже наплодила борьба за права человека; они, самовыдвиженцы, вызвались быть судьями всего богоугодного – костлявые немощи…
И думал он и о себе не менее критично:
«Жизнь поток случайностей и закономерностей. Как себе велишь поступить, так и будет ответно. Речь не идет ни о каком смирении души. Смирение рознь насилию. Нравственному. В нас темное вещество Вселенной – что это такое? Ученым пока неизвестно. И космос куда-то сдувает солнечную пыль… А движение – процесс везде неровный, идущий рывками… На свои работы чаще смотришь строгими чужими глазами и ужасаешься им: ну, где же, голубчик твои шедевры? Столько ползал с красками везде – одна жалость… то, что намазал… Ведь не летал…
Может, все-таки моя писанина-проза даст ответ обнадеживающий? Успею ли? Узнаю ли?»
Так он шел к Петропавловке с рисунками. Среди других идущих.
На Заячьем острове, за Кронверкским проливом, в Петропавловской крепости, было бело, божественно тихо; снежная пороша осыпала деревья и крыши желтых приземистых зданий, тонувших в сугробных наносах.
Странное чувство возникло у Антона: он здесь не случайный турист, а гражданин отечества; он соучастник общей его истории, которая в немалой степени, если не целиком, коснулась его семьи и его самого. Вплотную, можно сказать. С избытком. Здесь жила своей жизнью эпоха царей, декабристов, революционеров, которую и трогать-то нельзя, безбожно, и потом продолжалось новое время, в которое и он жил вместе со всеми, как обычный соотечественник, по-своему достойно.
Если выйти за ворота – на причал – на Неву, то отсюда видны Эрмитаж и Исаакиевский собор; где-то за ними – и Мариинский театр, по сцене которого очень-очень давно разбежалась (на глазах Антона и Ефима Иливицкого) балерина… Старое сказочное время. История не полна без участников ее.
Нынче в «Печатне» Антон нанес литографским карандашом на тяжелые известняковые плиты зеркальные рисунки зимних Петровских ворот и зимнего Казанского собора. Осталось ждать, когда они напечатаются.
Знакомый приятный художник детских книжек Л., зашедший по делу в «Печатню», спросил у Антона, не могли ли у Кости Махалова сохраниться какие-то оттиски с гравюр из альбома очень известного советского офортиста, с собранных досок которого и печатался альбом. Предполагалось снова собрать хотя бы оттиски. Этого Антон не знал. Но обещал созвониться с сыном Константина.
«Печатня» издавна функционировала в Петропавловской крепости – в двухэтажных помещениях Невской куртины – как особый организм, не подверженный влиянию моды, настроениям, стихиям. Сложилось так, что у художников, всегда опекавших ее вроде бы по негласному призванию или завещанию судьбы – с заветом: ничего не портить и никому не мешать, а только помогать всем скреплениям человеческим в жизни, здесь, под старыми кирпичными сводами, покоились старенькие печатные станки и сотни литографских известняковых немецких камней, отшлифованных, завезенных сюда (закупленных) еще за десять лет до революции. И то, и другое еще работало по старинке. Мастера трудились над литографиями, печатали их; дети приходили заниматься – садились нетерпеливо за столы и старались сами напечатать свой рисунок, радуя родителей, и пачкались черной краской. Вход сюда был бесплатный для всех. Совершенно заповедный уголок, придававший Петропавловке наш исторический колорит, – и стены, на которых экспонировались графические работы всех лет, плакаты и открытки, и свод, и все содержимое. Это же история! И здесь проводились экскурсии, связанные с живописью, графикой, недоступные другим (и великим) музеям. И все-то можно было тут же приобрести многочисленным туристам – гостям города.
Антон также здесь выполнил и напечатал несколько литографий. Уже работал над следующей.
Только – увы! – он застал в этот раз служителей «Печатни» погрустневшими. Они сообщили ему, что их вольницу закрывают: был некий комиссар из Смольного, осмотрел все и заметил: «нерентабельно». И тут кто-то из чинов взобдрился: «Ну, и я так могу литографировать». Для народа, для гостей все теперь и здесь будет платным. А машины и камни уберут…
– Прекраснейший летний пейзаж! – воскликнул Антон однажды, сидя на стульчике и рисуя в курортной зоне Сестрорецка, – так встретил идущего снизу от светлокаменной котельной, должно, водопроводчика, в черной куртке, делового. – Сливочный разлив полей, с одуванчиками; черный развал по нему дороги, кружева серебряных ив.
– Конечно, прекрасный вид, знаем, – согласился тот гордо за вотчину свою. – Не иначе. И графика может быть отличная у того, кто умеет держать перо. Одни ивы чего стоят. – Поздоровался – и прошел дальше.
Сразу вспомнились Антону перьевые рисунки китайской тушью Пчелкина – необыкновеннейшие дубравы и лощины Дальнего Востока!
Сколь же самобытен и удивителен наш народ! А некоторые либералы силятся отнять у него право восхищаться прекрасным и подсунуть ему некую небыль, мертвечину, воспеть ее для него. Антон был всегда непреклонен: в нынешних пристрастиях к переоценке всего живописного творчества нет его углубления, а только попытка подстроиться под чьи-то вкусы. Для кого? Для элиты? А разве она появилась у нас? Есть? По-моему, доморощенная фикция. Танцуют искусители от новомодного, только и всего. Раньше мужчины брили бороды, теперь небритые – с щетиной – ходят героями. Гераклами.
На одной пейзажной презентации Антон, вспомнив что-то из былого, упомянул и фамилию Иливицкого, своего бывшего сослуживца, отчего обе молодые служительницы библиотеки тотчас странно оживились, что он вопросил озадаченно:
– Что: Вы знаете его, Полина? Да?
– Конечно же: он – читатель наш, – пояснила Полина готовно-весело. – Живет он по-соседству – рядом.
– Ну, фантастика: услышать весть о нем такую! Вот мы столько лет кружимся около друг друга; но, поди, уж четверть века я не видел его, не слыхал о нем. Прослужили вместе мы три года и еще сколько-то лет продолжали, как художники, прежнее знакомство, поддерживали друг друга; а затем общались лишь на лекциях, на работе, соприкасались постоянно, не дружа. Потом и с работой разъединились, что говорится, насовсем.
– Бывает, что ж. В жизни нашей. Дерганной.
– Мы, Полина, сами ее дергаем. Так что же, он, Ефим, и выставляется, верно, у Вас, как я понял, коли Вы смешинку проглотили, услыхав о нем?
– А то как же, Антон Васильевич, он показывал свои плакаты и рисунки дважды.
– Выходит, он опередил меня? Я оплошал здесь?.. Ну, ему-то есть что выставить. Рисовальщик он отменный, и он не бездельничал никогда. Мы вместе с ним и институт полиграфический закончили – на смежных факультетах… И он не рассказывал обо мне?
– Нет. У нас таких бесед с ним не было.
– Ну, у нас с ним, видать, взаимно…
Антон, вначале обрадованный неожиданным известием о Ефиме, бывшем одессите и товарище, возмечтал о возможной встрече с ним, поскольку его адрес имелся в библиотеке на читательском абонементе и стоил бы по-приятельски пригласить его на выставку, оживить воспоминания. Но он все-таки по размышлению такую мысль отбросил: между ними уже не поддерживались большие приятельские отношения, какие сложились у Антона и его близких друзей, которых уже нет.
Нашелся и главный аргумент в ненужности их встречи: жизнь Ефима внешне была неким повторением Антоном и снова заглядывать в нее, знакомую, ему не хотелось. Их амбициозная карета давным-давно уехала. С грузом нерешенных забот, интересов, проблем. И то ведь справедливо: Ефим нынче, наверняка зная об этой выставке Антона, живя поблизости от нее, мог бы и откликнуться. Но и он промолчал. Тоже уже не проявил интерес к его персоне. А работы друг друга они прекрасно знали, видели.
И он нем Антон потом услышал в радиопередаче, слышал его еще крепкий басовитый голос. Узнал, что он в последнее время сочинил спектакль. Это Люба, услыхав его, позвала Антона на кухню послушать радио.
Да, карета их уехала. Нужно уступить дорогу молодым! Впрочем Антон не раз уступал ее и молодым сотоварищам. Не заумудрялся в творчестве.
Так это легко – не досаждать ничем друг другу.
VIII
Апрельским утром глаза слепил иссиня-белый снег, выпавший ночью; сахарная россыпь легла вокруг кирпичного здания санатория в Стрельне, придав всему и словно распылив и в воздухе божественность: смотри и чувствуй это!
Антон, внутренне дрожа, вышел с синим пакетом (с красками) и складным стульчиком наружу – на уже оголенное синюшное шоссе и повернул к северу – к еще ледяному заливу; ему хотелось по-быстрому написать масляной пастелью открытое пространство – без зарослей и построек; он не был готов к тому, чтобы вырисовывать бесчисленные веточки, хотя сейчас фиолетовые кружева заснеженного боярышника и мраморные крылья сосен на фоне розоватого неба выглядели очень впечатлительно. Пахло свежими огурцами.
Он по-тихому собрался в номере, не тревожа напарника Сивкова.
Ни живой души нигде пока не виделось: никто еще не выполз из постели теплой. Лишь черный прикормленный кот вновь гулял себе – отряхивал лапки-подушечки от липкого, уже подтаивавшего снега. Этот кот было последовал за Антоном, верно, надеясь получить угощение, но, не получив от него ничего, отстал.
У залива же, там, где выпуклый деревянный мост навис над льдистой еще речкой Стрелкой, отороченной ивняком, вдруг сошли навстречу Антону супруги Незнамовы: полнолицая Элла и поджарый Вадим, его новые знакомые пенсионеры по столованию, сторонники, как оказалось, его живописания. Даже и более того: Элла Леонтьевна, узнав, что Антон художник, упросила его дать ей уроки рисования; она всегда мечтала о том, чтобы ей рисовать, да не было у нее на то свободного времени.
– Вы – молодцы: раньше моего уже прогуливаетесь, – похвалил он Незнамовых, поздоровавшись и узнав их.
– А то! Мы туда, за мост, прошли; там тростник торчит, камыш на припае, – пояснила Элла охотно.
– О, это значит мой объект. Потом там посмотрю. Я сначала на глазок, что говорится, прикидываю, выбираю. Бывает: облюбуешь чем-то примечательное место и толчешься-вьешься вокруг него с разных сторон нацеленно.
– А сейчас что хотели изобразить?
– Да хотел, Элла Леонтьевна, кусок залива написать, верней зарисовать в альбом. Вот эти вмерзшие суденышки, лодочки, какую-то черную трапецию с черной трубой и наползающую синеву туч. И этот прижатые к берегу кустик. Да бьет в глаза, ярчит от снега, белизна. Мешает мне. Все двоится в глазах. И пастелью нужно в помещении сладить, поскольку зрение у меня очень ослабло. Нечетко все вижу, признаюсь. Уже записан в очередь на хрусталик. В Федоровской больнице.
– И я тоже записан. – Сказал Вадим. – В Озерках. Очередь через полгода.
– У меня примерно такой же срок. Жду – не дождусь, не привык писать без натуры: она сама подсказывает краски, экспрессию…
– Я-то вожу автомашину. Для дачи она очень необходима. Так что нужно оперировать оба глаза.
– Я бездумно запустил этот процесс. Мне-то нужно было раньше обеспокоиться. А как? В свое оправдание скажу, что когда уже пользовался очками плюс три с половиной-четыре, обратился к окулистке в поликлинику. И она-то, наверное, толковая, знающая, находясь в зрелом возрасте, два года назад мне сказала наотрез: «Приходите через год. Будет хуже, направим на операцию». Через год и направили. А в больнице еще год и больше нужно стало ждать, когда прооперируют. И мне никто не сказал, что если бы я сам оплатил, то мне сделали бы операцию почти сразу. И сам я не был столь расторопным…
– Ну, мужчинам свойственно мало о себе думать, – вставила Элла Леонтьевна.
– Знаете, думы нас не спасают, если хирург в поликлинике мне сразу говорит: «Что же Вы хотите – это у Вас уже застарелое, неизлечимое». Когда я открытку рисую, ее пять инстанций утверждают – полный контроль за качеством. А кто контролирует качество лечения в стационаре? Ответа нет.
Действительно, зрение у Антона ослабло настолько, что он, например, уже не мог – и при помощи очков – разглядеть номер подъезжавшей маршрутки – не успевал – для того, чтобы вовремя попросить остановить нужную, как та проносилась мимо. И номеров домов уже не различал, если оказывался в нововыстроенном районе города.
Что это: было его оплошностью? Неоправданным незнанием? Но ведь он всю жизнь работал глазами: на бумаге бесконечно вырисовывал карандашом, пером и кистью мелко детализированные сюжеты. Прежде это делалось без помощи компьютеров.
Таков, видимо, удел его.
– Остережений за жизнь не напасешься.
– О, да! – Сказали в два голоса Незнамовы.
– Что же, други, теперь я повернусь – пройду в южную сторону; там что-нибудь ухвачу, что найду, – решил Антон.
Шоссе великолепной синюшной стрелой упиралось в отдалении, возвышаясь, в усадьбу, окружавшую Дворец Петра I.
«И это стоит написать, – подумал он. – Необычен сюжет. Сколько ж их! Всю жизнь не переписать!»
– И мы с Вами прогуляемся, к Дворцу Петра Первого. Возьмете? – спросила Элла.
– Да ради бога! Буду рад! Идемте. Я настырный, верно, в своем деле.
– Ну, скажу, настырность везде нужна, носи ее с собой всегда; а мужчина не всегда в ладах с ней, когда это касается его самого, – заметила Элла опять.
– Да и женщины тут схожи, – сказал Антон. – Бывает.
– Не спорю. О, если бы я знала, что мне нужно именно так сделать и поступать и кто мне подсказал, – я бы сделала это, а так – сама по себе – никак не могла и не могу решиться на что-то лучшее. У меня вся семья филологи (были) – отец и мать. Так что закончила университет филологом и стала им, можно сказать, по традиции семейной, особо не раздумывая, копаясь в бумагах, в книгах.
– Ну, если это душе угодно.
– Люблю копаться в бумагах. Сидит в крови. А как быть дальше, иначе – не знаю. И мой отец – был большой человек, мог бы устроить меня в штат получше, но из-за принципа честности не мог. Тем более для родной дочери. Считал, что это зазорно, предосудительно: а главное – не обязан родительски…
– Дескать, я карабкался в свое время, теперь карабкайтесь и вы, детки молодые? – Сказал Антон. – Обычный жест консервативных родителей.
– Нет, он так не считал, верно, а только вот такой особенный – не продвинутый, как нынче говорит молодежь. – И Элла добавила: – Мне нравится эта часовенка святого Николая Чудотворца. Вы ее уже зарисовали?
– Да, есть набросок у меня.
Они как раз проходили мимо белокаменной часовенки в одно окошко, стоявшей на западном берегу реки Стрелки, среди зарослей ив.
Элла по молоду, как призналась, занималась в кружке рисования, так что имела некоторые его навыки. И Антон для начала дал ей задание нарисовать хотя бы яблоко с натуры, вписав его в лист бумаги.
Они миновали по дороге и конусообразный памятник погибшим в 1943 году десантникам. Сюда проводились экскурсии.
– Наш сын в Афганистане служил, – сказала Элла. – Нам, родителям, это стоило многих болей и потрясений. Он был ранен. В Ташкенте его госпитализировали. Но только он подлечился – и еще не окреп, как военкомовцы опять направляют его в Афганистан, и он не может перед начальством постоять за себя. Его устрашали тыловые офицеры. Мол, если будешь рыпаться перед нами, то мы сделаем так, что ты и мать родную забудешь…
– Ну, знакомые тезисы самоуправцев, – сказал Антон.
– Так вот, с начальством местным, непуганым мне пришлось сражаться насмерть за сына. Безуспешно. Тогда дошла до самого главного военного – министра обороны Устинова. Пробилась к нему все же. Говорю, что раненому сыну в Афганистане еще долечиться нужно, а его опять посылают в мясорубку. Только после вмешательства самого Устинова и дали команду – вернули в тыл Сергея нашего. А его товарищ из Керчи – Генка – так пропал без вести.
– Мой тесть некогда – до сорок второго года – работал инженером на знаменитом оборонном Балтийском заводе города, которым руководил Устинов. Директорствовал тогда на нем.
– Интересно. Надо же! – воскликнула Элла.
– А в клубе, где я выставляю свои картины и где прежде делал и какие-то декорации к постановкам на афганскую тему, иногда собираются на юбилеи афганцы-солдаты, служившие там, в Афганистане. Может быть, и Ваш сын бывал в этом клубе? Здесь и теперь устраивают встречи и афганские семьи, перебравшиеся в Россию, спасавшиеся от талибов. – Антон остановился.
– Да, печальная страна, – посетовала Элла. – Стоило влезть туда и американцам с друзьями. С их рационализмом. Они не могут понять ничьей души (а собственную точно не имеют!) лупят по живому напропалую; они уверовали в силу ракет – ими долбят и долбят население.
– Дурацкое же дело – не хитрое, – сказал Вадим. – Ну, Вы, Антон тут встали, а мы пройдемся дальше – и вернемся.
– Ладно! Ладно!
И Антон, приноровившись, стоя, зарисовал поляну с раскидистым дубом спереди, засыпанную уже дырчатым снегом, коричневевший куст с кое-где висящими красноватыми листочками, весенние проплешины и парой прохаживающихся здесь ворон. Он, вернувшись к корпусу санатория, успел до завтрака еще зарисовать в блокнот и стремительную, покамест не растаявшую дорогу проходящей здесь улицы Портовая и черного бродячего кота на ней. Это были наброски. Для того, чтобы по ним неожиданно написать картины.
Но вот беспричинно, казалось бы, матерился шедший навстречу Антону старик, еще уверенный в своей физической силе – как будто сам с собой разговаривал – злился то ли оттого, что автомашина не пропустила его – не уступила ему дорогу.
– Что? – спросил Антон привычно у него.
– Зачем же такую волю дали женщине? Спрашиваю. Женщине раскатываться по дорогам… Мешать людям… – И губы старика – белые, крупные – гневно дергались. И он остановился и стоял. В недоумении.
IX
Кашину припомнилось смутно: раз он видел Илью Сивкова, своего мужиковатого напарника по комнате, у своих друзей Ивашевых. Там он с ним не общался, не толковал; тут же расспрашивал его о том, как он, шофер-техник, водил вездеход по калено-холодному панцирю пятого континента – Антарктиде. Восхищался мужеством его и его товарищей-исследователей, настоящих героев, которых печалил нынешний быт неустроенный.
Вот Илья Семенович вернулся с обеда в номер повеселевший и сообщил, что сейчас зайдет умелец, кто сможет исправить занемевший старый английский мобильник; ведь он сам-то уже два дня мучается из-за того, что неисправен аппарат и он из-за этого не смог поговорить с дочерью. Именно с нею он держал связь при здравствующих жены, сыновей и внуках. Явная неуравновешенность в семье.
Антон советовал ему купить самый простенький и дешевый мобильник, какой приобрел сам, и не мучиться с наладкой изжившего: это себе дороже, но Сивкову было жаль свой особенный (и по виду) мобильник, к которому он, старый человек, настолько привык. Между тем и приглашенный деловой мужчина из числа отдыхающих, покрутив в крепких руках сию штуковину, не смог запустить ее и тем самым успокоить его, рачительного хозяина.
Мысли Сивкова занимала дача, где он жил лето и хозяйствовал практически в одиночку, и не хотел ее бросать; она находилась где-то у черта на куличиках, в направлении Мги, в районе станции Старая Малуокса, есть там и Новая Малуокса, а дальше станция Погостье. Практически здесь безлюдье. Территория не имеет проезжих дорог. Ходят только редкие электрички.
– Минутку, Илья Семенович, как назвали станцию? – спросил Антон. – Погост?
– Погостье, – уточнил Сивков.
– Да, Погостье… – И Антон вспомнил с удивлением, что некогда это стойкое название помянула им – ему, Антону, и Любе – ехавшая в Севастополь Нина Федоровна из Благовещенска. Она приехала сюда на братскую могилу, где покоился ее родственник – защитник Ленинграда. И вот снова возникло оно – слово с каким-то утверждающим значением, что есть оно, еще существует в памяти. Знает о нем народ. «А мы – хороши, ротозейничаем, – попрекнул тут же себя Антон. – Под боком у себя ничего не видим. Сетуем на нехватку времени на все». – Да другому удивился:
– И что же Вам дети не помогают? У Вас же два сына и дочь? Так?
– Да, не получается у них, – тихо говорил он. – Кроме Тани. Она бывает.
– А зять? Вы говорите, что дочери иногда картошку отвозите на своих плечах. Вот и отсюда прямо повезете на дачу какую-то семенную. Что, и зять не может Вам помочь – отвезти? Заехать?
– Да, пускай… – отмахивался старик. – У меня там пруд с лягушками есть и даже озерцо. Уточки иногда плавают. Ну, внучок, бывает, наезжает… Я чуть не забыл: в Малуоксе памятничек советским солдатам стоит. Там братская могила. Захоронено десять тысяч погибших бойцов, и сюда не раз приезжало высокое военное начальство по юбилеям. Говоров в их числе. Туда ехать нужно с Московского вокзала.
А сюда я добирался очень рано – еще затемно, шел на станцию метро, путался и не знал, как добраться. Оступился и упал с вещами. Разбил лицо в кровь – вот еще отметина. Были руки в крови. Мне помогла подняться одна прохожая, не подумала, что я пьяный, как бывает…
Извините, я Вам не мешаю и Вашей работе?
«И чего я кипячусь? – тут же опомнился Антон. – А разве я не похож на него в чувстве свойства единоличия: не хочу обременять никого из близких своими делами-заморочками? Не требую ни от кого помощи? Ну-ну!»
– Скорее извиняться нужно мне, Илья Семенович, что докучаю отдыхающим своей возней с красками, – возразил Антон.
– Ну, помилуйте: Вы не навязчивы с такой работой, – сказал Илья Семенович. – Можно только желать соседствовать с Вами.
– Уж стараюсь быть потише. Не всем нравится нюхать краски.
– Да бывает так, что идиотом себя чувствуешь, а не виноват; случается, что и умный человек попадает в совсем дурацкое положение, какое нарочно не придумаешь. Вот случай был с моим знакомым – заядлым рыболовом. Он после того посмирнел. Он в Карелии дачничает. Значит – у самой Ладоги. А озера здесь сказочны, но опасны в непогоду – забирают утопающих. Надо быть на воде настороже, не выказывать свою удаль, дурь, панибратство… Раз он на моторной лодке вышел в озеро. Как-то неудачно привстал в ней, бегущей, потянулся, наслаждаясь; лодка накренилась, и он качнулся и выпал за борт. Не успел захватиться ни за что. На скорости. И лодка-то в таком накрененном виде стала носиться по воде, описывать большие круги вокруг него, несчастного. Он был один-одинешенек. Вокруг никого, берега не видно. Он попытался доплыть до места пересечения лодкой водного круга, чтобы, может, как-то зацепиться за нее; туда, куда нужно плыл, но не успевал. Обессилел. Думал: уже каюк! Его же спас капитан шедшего этим курсом теплохода. Тот заметил неладное. Значит, подняли пловца на борт теплохода, лодку-беглянку после заарканили. Вишь, как получилось. А так бы верная гибель, не случись помощи своевременной.
Антону пришлось немало гуртоваться с разными мужчинами и еще раньше – в гостиницах, когда бывал в командировках, и теперь – в санаториях. И в целом все было сносно – он мирился с какими-то возникавшими проблемами, уживался…
Но как-то Антон испытал настоящее невезение на этот счет, ночуя в двухместном номере московской гостиницы «Россия». Сюда он вошел уже в поздний час. Пальто напарника уже висело на вешалке, а напарника самого не было. Только Антон стал засыпать, в дверь постучали. Была уже половина первого ночи. Вошел плотный грузин с животом – средних лет. И как бы удивленный. Он, представившись, сказал, что приехал с Кавказа, работает там на текстильной фабрике. И вскоре он вышел опять, слышно поговорил с кем-то за дверью. И тут же вошли с ним еще три девицы, бывшие в какой-то униформе. Они сказали Антону:
– Извините, Вы уже спите, а мы вломились к Вам. – И стали тут же шушукаться между собой. Снова обратились к Антону:
– Извините нас. Там Алик закрыл номер с нашими пальто, а сам куда-то исчез, и мы не можем попасть туда. – Они угощали Антона шоколадом.
– Так вы домой опоздаете? – спросил Антон.
– Нет, не опоздаем, мы же москвички, – говорили они уверенно. Они были полупьяны.
Затем в номер протиснулись еще двое грузин и один русский. Включили полный свет, не обращая внимания на то, что здесь отдыхал Антон. Потом, когда девицы предупредили вошедших, что здесь отдыхает человек, они картинно прикладывая руки у груди, извиняясь, раскланивались, говорили, что они не знали этого. Однако меньше шума в номере не стало. Гости просили прощение за то, что они по стопочке коньячку здесь выпьют. Вытащив бутылку коньяка, пытались ее открыть; девицы все спрашивали про Алика: где он? Ругались.
Потом еще дважды приходили новые грузины, громко разговаривали с хозяином номера на пороге, входили сюда и раскланивались с лежавшим Антоном, извиняясь за то, что не знали, что тут человек спит.
Через полчаса командировочный грузин остался один; он, ложась в постель, предупредил, что храпит.
Да это происходил такой невыносимый храп с присвистом и взрывами, какого Антон еще никогда не слыхивал. Точно даже дрожали, казалось, подзвинькивали оконные стекла; а там, за окнами, за Москвой-рекой, у Кремля, на Васильевском спуске, ворочались дорожные камни. Оттого Антон уже не мог уснуть до самого утра, провертелся в постели; утром он с больной головой, измученный, поехал по учреждениям.
Ему мигом предоставили другой номер.
В прошлый раз здесь, в Стрельне, его соседом оказался бывший водолаз по профессии, значительно моложе его; тот регулярно по утрам занимался (к немалому стыду Антона) пробежкой, тренируя тело, но все же жаловался на свое телесное нездоровье, из-за чего лечащий санаторный врач даже не прописала ему никаких лечебных процедур, как бы страхуясь. Трофим нередко с интересом наблюдал как Антон работал пастельными мелками-грифелями, нанося краски на этюды.
Они обменялись номерами личных телефонов и потом перезванивались. Антон приглашал Трофима несколько раз на свои художественные выставки, и они встречались.
И Трофим сообщил Антону, что занялся всерьез рисованием, стал посещать занятия в изокружке.
Были теперь приглашены на выставку и Незнамовы.
Х
Антон кроме этюдописания в Стрельне занимался и прозой (так уж повелось у него), взяв с собой сюда исписанные отрывки, чтобы и тут почистить их, поправить, дополнить текст нужным образом, связать его; он рассчитывал так, может, преуспеть хоть еще немного, продвинуться в своих исканиях истины. Все, чем он был увлечен, для него представлялось единым целым и ничем не разнилось одно от другого; тут требовалось не только желание и страсть к продолжению творчества, но и несомненное усердие, большой труд.
Он с интересом взял в руку одну страничку с пометкой 31Х1955г.: «Ого! Почти 60 лет назад, мне было 26 лет! Ну, какая дурь одолевала меня тогда?» И углубился в чтение, удивляясь написанному.
Мне теперь противны эти записи, эти дневники – свои толкования – жалобы (кому?); но проклятая воля – все перебороть – делает из меня мудреца – философа, поэта и художника – любящего и ненавидящего людей. Я, пожалуй, проживу до 98 лет – за этот срок можно почти будет научиться выражать самого себя естественней. И поумнеть! Ныне ведь что ни человек, то статист общества; редкий житель остается самим собой – индивидуалистом. Я хочу всегда любовно смотреть в глаза людей. Кто-нибудь и в мои глаза так посмотрит. И тогда я буду счастлив, как младенец, не знающий никаких людских пороков.