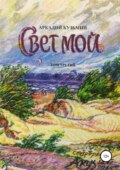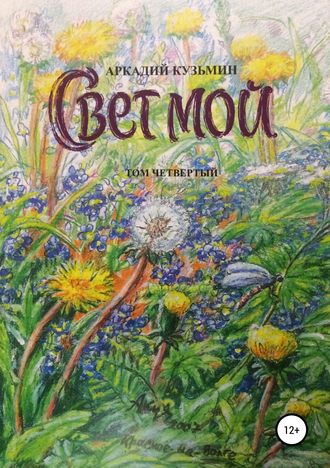
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 4
– Как же быть?
– Да, знаете, он ведь из этой школы… – И называет мне название школы. – А ведь там сплошь сионисты были.
– Вот как? – изумилась Люба.
– Да, видно, обстоятельства научили его осторожности…
– Скажи, а существует ли сейчас какой-нибудь примерный норматив для оценки знаний абитуриентов, чтобы не было в этом разночтений? – спросила Люба.
– К сожалению, нет. И никто сейчас не знает, как лучше. Только нужно так сделать, чтобы все в приеме студентов выглядело объективно, чтобы можно было объяснить провалившемуся или их родителям, почему он или она не прошли. Вот поступил к нам отличник круглый. Вижу: оценка комиссией дана низкая. Говорю: нужно парню пятерку поставить. Мне говорят: понимаешь, он плохо отвечал. Ну, приняли мы его. А с первого семестра отчислили – не потянул он материал учебный. Уж больше я не просил за такое. Не собеседовании сразу или многое видишь, кто чем из абитуриентов дышит. Спрашиваешь:
– Почему вы вот это слабо сдали?
– Да, было, не позанимался больше… – отвечает тот.
– А вот пишут в характеристике: не прилежный?
– Да, это было…
Потом видишь фотографию – лицо примелькается. И уже о человеке создается представление более или менее определенное, не расплывчатое. Обычно приезжие менее собранны, им труднее с жильем (общежития нет), с питанием, с финансами – и они потом не выдерживают интенсивной нагрузки. А почему идут к нам? Потому что есть у нас громкое название – ЛЭТИ.
Один грузин пришел ко мне на собеседование. Демобилизовался в прошлом году. Спросил:
– Работали?
– Да, дома. – Он не уточнил, где именно дома.
– Нужна справка о трехмесячной работе.
– Будет!
И приносит ее мне – написал какой-то бригадир.
– Нет, это не годится. Нужна с печатью, государственная.
– Такую я достать не могу. – Так и говорит мне.
– Ну да. Школьный аттестат-то он, верно, купил, а на справке осечка вышла.
– Скажу, не все наши усилия находчивы, дают плюс. Шлифуются практически… в процессе… При взаимопонимании… Мне и Пашка Глебов говорил: «Вот мы, мастера радиотехники, соберемся… Я что-то такое придумал, а другой в пух и прах разругает этот мой проект. Вот это сократи. Вот это убери». Покуришь – и уж сам на свой проект смотришь другими глазами. А потом оппоненты: знаешь, извини, может быть, мы слишком строго подошли. Но иначе-то, без всякой практики мысль не будет двигаться вперед.
Антон тут окликнулся:
– Все похоже при творчестве. Это как, скажем, при вычерчивании плана, графика на бумаге. Для того, чтобы линия повсюду ровно шла, надо: во-первых, держать раствор циркуля одинаковым для линий одинаковой толщины (с целью красоты и наилучшего воспроизведения в печати), во-вторых, как бы разбегаться в ней до линии разбега и останавливаться позади самой линии (а потом лишние линии убрать) –не то линия в начале и конце будет с затирками и неодинаковой толщины, а в третьих, следить, чтобы тушь не засыхала в рейсфедере и не было каких-либо волосков, клочков, а в четвертых, проследить за годностью туши и бумаги.
Да это было бы слишком простое повествование, даже упрощенное; мы не умеем предвидеть события через зеркало времени и быть готовыми хотя бы восприимчиво к ним, чтобы не паниковать зря. Вообще человечество пока занято (и вечно, думаю, так будет) непотребными игрушками, вроде золотых уборов, быстроходов, вертушек, – ему до насущных изысканий всего и дела никакого нет, вот насытиться, обкуриться, напиться, подраться, поквитаться – другое дело, лафа.
– Слушай, Кашин, остынь, а, – попросила Люба нервно.
– Но мы ведь и вертушки придумываем, – сказал Анатолий. – По физике… Вот только иногда соображения и силенок не хватает.
– Сынок Толинька, тебе следует больше отдыхать, не зарабатываться так, – умоляла его Янина Максимовна. – Прошу!… Ну, поехал бы ты вот вместе с Антоном туда, куда он собирается ехать летом. Все надежнее было бы, и мне спокойнее было бы… Вот только наш этот разводный вопрос разрешить как-то… получше…
– «Как-то» не получится, мама. – Люба заметно волновалась, была возбуждена и вздыхала. Ее злило материнское сюсюканье перед сыном и какое-то поверхностное рассуждение о разногласии с мужем-деспотом.
Этого и Антон не понимал. Ни за что.
Янина Максимовна сказала, что она очень хотела бы теперь жить с детьми, жить их радостями. В переводе с ее языка это точней означало: жить себе в удовольствие. Но разве жизнь и складывается только из одних радостей, одних удовольствий? Ими дорога в рай вымощена? Да, почему-то всегда лишь это выделялось, или верней, признавалось ею особо. Впрочем то была черта семейная: ведь Павел Игнатьевич с сыном также воспринимали весь мир как их должника им – пусть за счет других малоимущих, тех, которые могут и потерпеть. Тут становится понятен и голос их дочери, Любы, считающей иной раз, что ее жизнь заел кто-то другой, еще не дал ей столько удовольствий и радостей, на сколько она, наивная, рассчитывала при замужестве. Это примерно так, как в обычной очереди, как все желающие что-то получить подешевле, одновременно к ней бегут и хотят хоть на чуть-чуть опередить друг друга или отталкивают плечом один другого, чтобы втиснуться вперед других. Но такие разве отношении должны быть у близких людей? Вообще у людей?..
Какие отношения? Антон не понимал. Все – блеф! Его отталкивала от обычного сближения с людьми их непорядочность, проявляемая ими даже открыто, почти с фарсом, как некая разрешительная мужская доблесть. Прочь все сомнения, игра в невинность! Мир наступил другой. И стало можно позволять себе все такое запредельное. Чай, не преступление ведь…
Антон недавно на себе испытал нечто подобное, будучи на праздновании дня рождения тестя.
Он с Любой приехали к ее родителям почти одновременно с Толей и Леной – чуть пораньше их. И сначала Любе испортила настроение мать: она даже не поздоровалась с ней, вошедшей в квартиру первой, как затем и с невесткой, которую откровенно не любила и давала ей это понять, а прежде всего кинулась обниматься с сыном, вошедшим в квартиру последним, и только после этого уже обратилась к дочери и заметила невестку. Это было неприятно Любе, приехавшей в лучшем бело-розовом платье, с прической в лучших туфлях. И такой раж матери оказал неприятное влияние на всех присутствующих.
Анатолий по-всегдашнему торопился быть везде: завтра у него с восьми часов, начинался новый лекционный курс в институте, а тем вечером он собирался поехать в Москву на очередной симпозиум физиков. И, хотя он преуспел в чтении курсовых лекций, он оказался вместе с тем как бы с неважнецким провинциальным воспитанием: даже надлежащий тост за здравие отца он не мог произнести перед гостями; только что-то проговорил, сидя, тогда, когда отец поднял рюмку с водкой, и сказал:
– Ну, что же, выпьем за меня?
Но затем, когда все гости уже изрядно насытились честь-по-чести, сидя за круглым столом, произошло уж нечто несуразное, дичайшее. Все благожеланно рассуждали о заметных событиях, талантах, героях, космонавтах и Антон лишь заметил в связи с этим –поумствовал чуть:
– А, полноте, Николай Павлович у нас власть столько загубила народных талантов, что ни счесть их имен; свобода и рай, о чем открыто трубили, не дошла до потребителя. И не дойдут, пока продолжается классическая шпиономания. Одних певцов просто укрощали: не те песни пели, а других, как мою сестру, даже не допустили ни до песен, ни до учительства: как же она в семнадцать лет попала в оккупацию немецкую – позор ей!
И что тут началось! Николай Павлович пока еще служил начальником строительного треста города, был другом первого секретаря обкома партии. Он вскочил из-за стола с багровым лицом. Кинулся в прихожую, схватил пальто, шляпу. Звякнул дверью… Вскочил незамедлительно с руганью и Павел Степин. Вознес над головой Антона, сидящего напротив его, стул. Ай-ай! Ужасаясь, все гости мигом бросились из-за стола; их словно ветром сдуло, бедных. Антон даже не дернулся нисколько с места, зная и видя, что тесть трус, и глядя в его перекошенное гневом лицо, но все же удивляясь себе, в упор ему только проронил:
– Ну-ну, кони вороные…
Почему он так сказал, он не знал.
И уже подхватили сестры Яны отчаянно за руки своего буйного брата, уговаривая. И они-то и Янина Максимовна тоже стали слезно просить, умолять Антона, чтобы он поскорей уехал подобру-поздорову. Ведь получилось по их понятию, что Павел Артемьевич был им как бы опозорен, главное, именно перед самим Николаем Павловичем, фигурой, полномочной для них.
А ведь всего, о чем сказал Антон, уже никак не являлось расхожим домыслом, и о том известно было многим давно. Так, кажется, еще в 1937 г. учителя велели второклассникам перечеркнуть крест-накрест в учебнике портреты нескольких военачальников. Потом, в 1944 г., Антон, оказавшись в военной части, стал невольным свидетелем одного разговора…
VIII
– А что, не скажете, с капитаном Мурашевым? – обеспокоенно спросила раз повар Анна Андреевна, подав обед молодому пронырливо-бойкому солдату Сторошуку, который являлся его подчиненным в штабном отделе.
– А что именно? – зыркнув острым взглядом, переспросил тот из-за стола. – Он жив, здоров, как водится.
– Да нет… Вечно он какой-то скрытный, смурый ходит. Как больной. Отчего не знаете?
– Ума не приложу и сам, – ответил Сторошук, пожав плечами.
Действительно, все заметили, что с тех пор, как Мурашев появился в Управлении полевых госпиталей, он будто был в какой прострации, не иначе, – всегда такой обособленный от других, застегнутый на все пуговицы, в шинели, глухой и молчаливый, он редко улыбался, особенно не разговаривал и не сближался ни с кем. Как будто виновато прятал глаза от людей. И где-нибудь курил втихомолку. И все сторонились его, словно тихого чумного, болевшего неизвестной неизлечимой болезнью, хотя он и не говорил еще ничего никому – не был любителем рассказывать что-либо. Но кое-кто из младших штабистов, проявлявших интерес ко всему, сближался с ним постепенно, в ходе совместной работы. Во всяком случае однажды в декабре под Острув-Мазовецким приехали в часть парикмахеры и все сослуживцы – и он тоже – стали стричься, бриться. С шутками. С хорошим настроением. Приближался Новый год.
С легкого морозца все вошли в барачного типа дощатое строение, дополнительно освещенное электричеством и задрапированное простынями, что создавало праздничный вид, уют. И вдруг Мурашев, показалось Антону, снимая ушанку и приглаживая гладкие рыжеватые волосы белой рукой, и на мастера взглянул пристально, будто вздрогнул слегка, смутился, но не выдал большего волнения, увидав, что обознался все же в ком-то.
– А-а, не буду я, – повернулся он вмиг, сутулясь и вышел вон.
А очень скоро Антон открыл невероятное объяснение всему этому.
Случилось, он вступил совсем неслышно в полутемный коридор (при коротком зимнем дне), а в нем-то, ведя увлеченный разговор, перекуривали трое – капитан Мурашев (он стоял спиной к Антону), остроглазый Сторошук и чернявый Коржев. Они тоже точно не заметили Антона, хотя и видели все-таки, или были все во внимании. И ему бы уйти также незамеченном восвояси, да он только сильнее затих от того, что услыхал впервые из первых же, наверное, уст. Сержант и солдат спрашивали у Мурашева:
– И много было таких… политических в заключении?
– Полно, – отвечал он.
– Что, и расстреливали, сказывают, их?
– А то что ж. Не церемонились.
– А как же это было?
– Как? – Хмыкнул капитан. – Очень примитивно-просто.
– Расскажите.
– Ну, выводили из камеры. В специальном месте давали закурить. И пока тот прикуривал, – в затылок выстрел… И все.
– И приговор не объявляли?
– Какой тут приговор… Враг народа… Ясно все…
Антон после услышанного тихонечко попятился и заскользнул за угол помещения, невидимый для Мурашева, чтобы не смущать его тем, что он тоже слышал его откровения. Да, видно, Мурашев теперь глубоко сомневался в том, что делал прежде, – справедливо ли… Должно быть, его беспокоила одна его прошлая деятельность, и он, вероятно, считавший прежде ее безупречной и необходимой, нынче испытывал где-то угрызение своей совести – совсем не случайно он стал рассказывать жуткие подробности своим подчиненным. И никто ведь не допытывался, не заставлял его делать это, – не по принуждению он заговорил так. Он и не хвастался этим, а будто говорил: вот, посудите сами, как все просто на свете. Каждый может быть на месте моем. Не зарекайтесь только.
Итак, то, о чем Антон улавливал иногда, говорилось шепотом, проскальзывало от случая к случаю, оседало само собой в памяти его, сопоставлялось. Был, он слышал ненароком, в таком заключении и сын Анны Андреевны. Наконец-то и открылся ему капитан Мурашев со своею мрачной ношей за плечами, сильно сдавший, хотя ему не было еще и сорока. Понятны были его потухший взгляд, какие-то заторможенные движения, будто он весь был по другую сторону от всех, ждавших Дня Победы, – в одном раздумье. Однако никакой жалости он у Антона не вызывал. Странно, непонятно все-таки: что же на цыпочках теперь вокруг него ходить? Всякий раз хотелось обойти стороной его, хотя (что делать?) изо дня в день ходили одними тропами и сталкивались постоянно везде и здоровались.
Непонятно, как же человек попадает в такое положение, что делает противное его разуму? Разве невозможно сразу понять, что есть неразумное, противное и не следовать тому? Ведь же знал Мурашев, что не повальные бандиты были перед ним. Малодушие и заблуждение людей подводят?
Капитан Мурашев потом перевелся куда-то. Исчез с горизонта. Тихо, словно растворился. Никто о нем не вспоминал. Никогда.
Чуть позже Кашин познакомился и с художником-искусствоведом старым Т., который еще печатал свои статьи в дореволюционном журнале «Нива», в том числе и о работах художника Сурикова; его в 1948 г. выселили из столицы во Ржев, посчитав его космополитом. На космополитов в искусстве тогда обрушились гонения. Узнал он и художника-графика Н., бывшего капитана третьего ранга, отсидевшего в лагерях на Калыме десять лет и амнистированного в 1956 г. И что убийственно поразило Кашина и Махалова: он признался им, молодым друзьям, в том, что ныне нередко пересекаются у него пути с тем доносчиком, кто наклепал на него в КГБ сволочной наклонности ради. Н., мощный физически мужчина, умер из-за прорезавшегося в его теле после аварии такси – снарядного осколка, который сидел в нем более двадцати лет.
IX
А не далее, чем в прошлую пятницу, к Антону, в отдел изобразительной продукции, заглянул очередной нетипичный посетитель – ссутулившаяся, покорная своей старости, фигура старика с палочкой примостилась на стуле у его стола в терпеливом ожидании. И когда Антон вошел к себе и было взглянул на него с неудовольствием, но, увидав сразу его молодые светлые доверчивые глаза, тотчас почувствовал, как свет мой постучал ему в сердце. Что-то екнуло в нем.
– Здравствуйте! Слушаю Вас. – Он сел за стол.
– Меня главный редактор послал к Вам. Я принес альбом фотографий крупных деятелей партии, в основном расстрелянных… Меня зовут… – Старик представился, назвав себя.
– Да, мне передали альбом. – И Антон быстро достал домашнего типа альбом из книжного шкафа и положил перед посетителем. В альбоме лежало письмо с резолюцией вверху главного редактора и подписью властной: «ответить автору, старому коммунисту, по существу». И в альбоме были постранично расклеены фотографии разных лиц. – Вот и хорошо, что вы пришли. Объяснимся с пониманием.
– Да, да. Хорошо. Мне… – Старик, видимо, был смущен им же начатым предприятием и хотел объяснить мотив, которым он руководствовался при подборе имен в такой альбом, какой он, как думал, мог бы быть у каждой советской семьи. Потому он мыслил издать его массово, но как домашний. Далее он стал пояснять, почему у него возникла такая мысль. А такую мысль подал ему покойный внук брата, хороший художник. Внук рисовал всех знаменитых людей. – Вот. – Старик вытащил из сумки и показал альбом его рисунков.
Антон взглянул и тут же сказал:
– Ну как же не знать о нем. Я знаю. – И так впервые узнал о смерти этого художника.
– Внука вызвали на встречу, – пояснил старик. – И на встрече этой приключился у него удар. Схватился он за сердце – и все… Скорая уже не успела… Вот он перед этим и надоумил меня с альбомом этим…
А я ведь и Ленина неоднократно слушал. Его выступления. Когда был в Кремле. Я в первую мировую воевал с немцами. Мы наступали в Пруссии. Я кавалеристом был, а нас поддерживали казаки. И как только те кидались в атаку, немцы бежали: очень боялись казацких пик, на которые те их поднимали. А потом они пулеметы выставили, и меня ранила пуля «дум-дум». Вот сюда, в ногу колена. Хорошо, что не в кость, а в мякоть. А в Кремле я и Луначарского видел.
– Я вижу, у Вас судьба необычная, – сказал Антон. – Вот если воспоминания Ваши о каких-то событиях, встречах записать – это бы для нас, издателей, очень подошло. (Антон вспомнил слова Янины Максимовны: «сейчас я читаю преимущественно мемуары»). Тут, – он показал на макет альбома, – трудно определить круг лиц, о которых следует рассказать читателю.
Например, вот эта фотография. Я впервые вижу это лицо, и для многих, я уверен, оно будет незнакомо. Как и следующее фото…
– Но они все реабилитированы сейчас, – защищался проситель.
– Да, но все это нужно объяснить покупателю.
– Есть на это институт истории.
– Вот-вот. Это – огромная работа. Не только для Вас, составителя. Но помимо художественного совета института истории , есть еще и другие организации и Смольный, которые могут без объяснения причин остановить такое издание. В зародыше, что говориться.
– А я и подписи к фотографиям этим заготовил. Выписал из «Энциклопедии». Ничего от себя не придумал. Посмотрите…
– Нет, если такой альбом издавать, то текст должен быть другой – толковый; над ним надо работать, должен быть коллектив авторов, не абы как.
– Вот и главный ваш сказал мне: не можем опубликовать. Но ведь мне и денег за это не надо. Я по совести делаю. Мне уже семьдесят девять лет. Я не просто с улицы пришел. У меня с собой и грамоты, которыми был награжден. Фабрика бумаги наградила. Которая в Красном селе.
– Красносельская? Знаю такую фабрику. Было: названивал туда.
– Мы ее восстанавливали трудно. Там я мастером работал, а теперь музей открыли. Это первое, значит, предприятие в стране, где рабочие взяли власть в свои руки. К ним приехал Ленин. И сын самого фабриканта, владевшего фабрикой, поговорив с ним, Лениным, примкнул к революции, потом переехал в Москву и стал секретарем у Ленина. Как его фамилия? Я запамятовал…
– Не знаю, сударь, – сказал Антон. – Я ведь историю написанную знаю. Да и то поверхностным образом, потому как в таких – написанных – часто, если не всегда, опускают из вида не только такие моменты, кем до этого был такой-то человек (как, скажем, этот сын фабриканта), но и полностью фамилию. Не суть важно. Вот про то, как рыбу глушить, зверя бить – об этом с большим удовольствием и подробно пишут везде и печатают, и показывают на экранах.
– В Красном селе ведь была царская охота. Николашка приезжал. У него тут егеря были. Из трех егерей один до сих пор еще жив. Еще жив. Так вот, когда Николашка приезжал на охоту, то солдаты, охранявшие его, не смели на него смотреть – стояли к нему спиной.
– Это почему же? Сейчас бы наоборот считалось неуважением.
– Знаете, боялся так, что убьют. Это же ведь было накануне революции: был напуган. Прежде в Красном селе медведи водились.
– Нынче перебили всех зверей.
– Дальше к Старой Руссе еще водятся. И лоси есть.
– Ну, лоси после войны расплодились везде.
На том и закончился разговор у Кашина с его посетителем.
Янина Максимовна, Анатолий и Люба, однако, помнили недельной давности эпизод со вспышкой ярости мужа и отца, Павла Игнатовича, по поводу невинного высказывания Антона Кашина и пока не хотели подключать зятя к новому разговору с ним – не хотели злить его, обездоленного.
Антон же рассудил при них:
– Тесть бесится. Он оторвался от земли смолоду и к городу так не приник – город не приемлет фармазонов; он отсидел службу в различных конторах не шатко – не валко, услужал начальству – был им мил, хотя дело свое знал. Отсюда его банкротство моральное. Он теперь не знает, чем ему заняться; на балалаечке струнит иногда, Чехова почитывает – вот и все его занятия. Потому и бесится.
Хотя как-то на Любину жалобу на жизнь он бодрился:
– Ну у вас еще все впереди, вот мы в наши годы стариковские и то мечтаем о будущем, еще пожить хотим. Тут моя сестра Фрося поделились со мной жизненными планами своими, так я ахнул! А ты говоришь: такой стал народ! Прямо ужас один!
Ну, кому что важно на свете…
X
Анатолий пижонил явно: под молодого наигрывал. И пижонистрая синяя стеганая кепочка на голове, впервые виденная Антоном, на нем резко контрастировала со всей его спокойного цвета одеждой и только сильней, может быть, подчеркивала его этот пижонистый, противоестественный вид. Но ему такое нравилось.
– Ну, опиши ты его в романе, – говорила Люба мужу. – Почему, ты его не опишешь? Это же так интересно. Послушай, что он говорит. Тебе нужно с ним поговорить.
– Что, его заносит?
– Еще как!
И тут были незадачки.
И был сумбур с застарелым разводом. Полная неготовность.
Анатолий, особо не задерживаясь у Кашиных, уехал. У него были убийственно-нереальные планы съехаться с родителями.
Янина Максимовна осталась у дочери и зятя на ночь. Антон стал между делом перебирать скопившиеся на столе бумаги и многочисленные книжные эскизы, сортируя на нужные еще и уже ненужные, и наткнулся на черновик недавнего письма, им написанного, в вышестоящий Комитет по печати Совета Министров, где сигнализировал о том, что такая-то типография, несмотря на спущенные ей Комитетом лимиты, односторонне нарушила договор и исключила из плана выпуска ряд нижеперечисленных изданий. Их перечень состоял на двух страницах, внесенных убористым текстом, как Антон обычно писал, из двеннадцати пунктов! Антон поморщился даже. Неожиданно для самого себя. Не зная, от чего. Лишь подумал: «И так ведь всегда… С боем? С кровью? Нужно нос разбить, чтобы доказать кому-то что-то?»
На том остановился. От греха подальше…
Но еще до полного поздна от возился с бумагами при свете настольной лампы. Хотя и сюда помаленьку проступали волны начинавшихся белых ночей.
Естественно теща извертелась на постели, вздыхала, скрипела ночью. Во дворе-колодце орали. Гремели мотоциклы. Со всех сторон упражнялись в телевизионных потасовках напоказ артисты. И наяву – оголтелая публика.
Так что наутро Янина Максимовна была подавленно-неприкаянная и первым делом повинилась зятю, считая его, а не дочь, главным поверенным лицом:
– Знаете, Антон, не могу больше быть без дела, особенно в таком положении. Может, я поеду к себе? Как вы считаете?
– Конечно же! Я готов Вас сопроводить.
В эту минуту зазвонил в коридоре общий для жильцов телефон. Антон вышел из комнаты. Возле телефонного аппарата, висевшего на стене, стоял босой и полураздетый сосед со снятой трубкой в руках и в нее говорил, спотыкаясь на словах спьяна:
– Антон? Он кажется еще не пришел.
Антон перехватил у него трубку:
– Сегодня уже сегодня, а не вчера. Алло, Кашин. Слушаю.
– Привет, Антон, – был бархатистый голос Махалова. – Мы с сыном и Птушкиным едем загород. Не примкнешь – не поедешь на этюды?
– Извини, друг – сказал Антон. – Не могу сегодня. Вчера был, как предлагал тебе.
И после этого позвонил тестю:
– Павел Игнатьевич, я с Яниной Максимовной сейчас приеду.
– А зачем Вам-то, Антон, ехать – время тратить, – рассудил тот. – Ведь ничего же не случилось.
– Да, пожалуй, нет.
– Вы только посадите ее в трамвай. Тут встречу ее.
– Ладно.
Нет, определенно: человек был не лишен здравомыслия простого. Что, кстати, показывали и другие прежние его рассуждения.
Так и как-то Антон и Люба – во второй половине дня, – побывав на заливе у станции Морская и прогулявшись здесь, заехали по пути к Степиным, и зять с тестем сыграли 2 партии в шахматы. Антон играл легкомысленно, вернее, несобранно (было ему как-то безразлично), и поэтому продул. И, пока Люба с матерью шептались на кухне, Антон стал рассказывать тестю, сколь строго относился Ренуар к своим потребностям: одевался очень скромно: по 10 лет носил один костюм, питался тоже скромно: в его семье весь обед состоял из одного блюда. И Павел Игнатьевич тут заметил:
– Скажите как! А мы-то нынче стали также переборчивые в еде – все-то нас не устраивает! И еще твердим, что плохо живем и питаемся. Напридумывали себе изводящую диету, подсчитываем калории – кто сколько съел жиров, сколько белков, что полезнее. Куда век пошел! Скоростной. Человечески, я считаю, лет на двадцать-тридцать отстаем в своем сознательном развитии; электрики это термином обозначают: на две фазы, мол, а я-то знаю, что отстаем лет на двадцать-тридцать точно. Ну, скажите, пожалуйста, зачем нам, на севере, балконы? Они ведь на юге хороши, подсобны. И лоджии тоже. Если бы их здесь не было, то у меня была бы комната метра на три больше.
– Папа, и у меня вместо семнадцатиметровой была бы двадцатиметровая, – вклинилась вошедшая в комнату Люба, ожидавшая на следующий год получения ключей от кооперативной квартиры. Дом ее уже строился.
После ухода матери Люба мало-помалу успокаивалась, подбородок у нее не дергался.
Но она осталась недовольна пронырой-таки братом. Он проговорился. Он давно вынашивал исподволь идею, отнюдь, не развода родителей, а размена вместе с ними жилплощади в сложении со своей, выменяемой на трехкомнатную квартиру. Ее поразило то обстоятельство, что брат, уже нашедший подходящий вариант для размена с тем, чтобы его семье съехаться с родителями, – выделял родителям лишь двадцатиметровую комнату в коммунальной по сути квартире и что они были должны теперь жить вместе с ним и невесткой и двумя еще внучками-непоседами, а к ним еще будут приходить-заходить друзья, знакомые и пр. Значит, Янина Максимовна по своей материнской слабости должна будет кормить еще одного здорового мужика-сына, вечно голодного, плюс двоих девчушек. И особенно ее впечатлила его просьба: ты можешь – помоги, повлияй на мать, чтобы она согласилась на размен, а если она потом станет жаловаться, скажи, что это я упросил тебя. Мать колеблется в решении всего. А отец, видно, хочет спихнуть ее как раз на сына: она надоела ему своим нытьем.
Этим квартирным неустройством Люба поделилась с Ниной Яковлевной, старой институтской сослуживицей, расположенной к ней и та откровенно призналась ей, что если бы снова ей думать, иметь ли детей, она, наверное, не решилась бы. Хотел покойный муж. И теперь она осталась одна с 75-летней больной матерью на руках с 140 рублями зарплаты.
– Кой-какие вещички, оставшиеся от мужа, распродала, – сказала она, – надо же было свадьбы справлять сыну и дочери, поддержать их, и сели теперь на одну эту зарплату. Так было и так будет, – заключила она.
XI
Антон по возвращении с проводов тещи застал дома у камина уже какую-то прерадостную картину, которую хотелось чуть потрогать, погладить после всего. К Любе приехала красиво-чувственная темноволосая армянка Кэти, ее однолетка, верная давняя-предавняя подруга. Понятная, единствення. Та, с которой было усладой разговаривать свободно обо всем. Понимающе. Без утайки.
Поздоровались радостно. Подруги продолжали разговор, только что начатый за чаем. Антон не вмешивался покамест, схватился за столом за ручку, чтобы все интересное записать. Люба была возбужденной от этой встречи, говорила:
– Я говорю тебе: какая ты армянка – не знаешь апельсинового варенья! Меня армяне на работе научили варить.
– Да? – отпивала Кэти чай из чашки.
– Ну-у! Это не сложное варево, а вот сложно засыпать это все перед варкой.
– Я, знаешь, похудела на четыре килограмма. Я взвесилась вчера.
– Живешь, наверное, на пище Святого Антония. Я тебя знаю… Столько лет тебя знаю, что не могу понять: как ты попадаешь туда, в Бехтеревку?
– У меня, Любочка, начинаются галлюцинации. Шизофрения чистая. У меня к тому же поменялся участковый врач, и вот он – новый – стал засаживать меня. Когда меня забирали в последний раз в больницу, я стала реветь, и мне санитары ведро воды вылили на голову. Так один санитар дал мне по шее, что у меня искры из глаз посыпались.
– В палате много вас?
– Двадцать человек.
– Двадцать!?
– Да, и кровать к кровати. И утром надо мыть, ползать.
– Ужасно! Понимаю.
– Был у отца «Рыцарь» Миклашевского – ценность музейная, просили в музей продать…
– Да-да, видела. Вот такой.
– Так я дала ему по шее, он покатился по полу, но не разбился; теперь отец куда-то прячет этого рыцаря – от меня подальше. Я хотела отца спицей проткнуть – проткнула картину – тоже музейная ценность. Да спица была толстая, дыра в полотне образовалась пятимиллиметровая.
– Почему, Кэти, тебя сажают раз за разом?
– Ни по чему, Любочка. Говорю: шизофрения. Параноик. Все! Приезжают вдруг два санитала по два метра ростом. Хватают. Берут под две руки и увозят в кутузку, что говорится. Параноик – это мания преследования. Я паспорт свой сожгла – теперь новый мне не дают. В прежнем районе меня не трогали, не забирали в больницу, а в этом – Выборгском – после переезда сюда – плохо: не сочувствуют врачи мои мне.
– Ну, сочувствую, голубушка, тебе. Ты как-то говорила, что была у тебя пара теток талантливых?
– Одна сестра отца в трехлетнем возрасте болела минингитом, и вот результат: в свои шестьдесят лет она играла в куклы! Представляешь! А так все мои тетки были здоровые и прекрасно рисовали.
– А мать твоя?
– Мать за собой уже не следит – одевается кое-как.
– Да еще бабка есть? Жива?
– Да, бабке девяносто пять лет.
– О-ля-ля!
– На лице ее ничего не висит. В своем уме. Бабка испортила мне отношения с молодым человеком. Говорит мне: кто-то звонил – я не открыла ему дверь: еще ограбит! Любочка, я хочу напиться.
– А как ты домой доедешь? Проводить тебя?
– Как сюда приехала. Я доехала до Колокольной. Уснула в трамвае. Я спать стала плохо. И вот заснула таким приятным освежающим сном. Я себя там плохо стала чувствовать, а мне, оказывается, давали лекарство такое, как для слабоумных.
– Ну, Кэти, выпила – и поешь, поешь еще.
– Нет, голубушка, когда я начинаю много есть, я хуже себя чувствую. Когда дохожу до пятидесяти килограмм, тогда чувствую себя отлично. А в больнице – знаешь, что делают: если не можешь есть эту гадость,то связывают тебя и насильно вливают в рот эту гадость.
– Ой! – Люба поморщилась. – А ты уверена, что врачи правильно ставят диагноз?
– Ну, знаешь, при шизофрении наиболее верно ставят диагноз.
– А ты известную американскую книгу об этом читала?