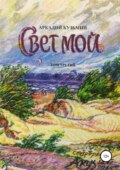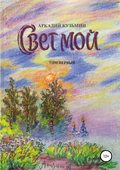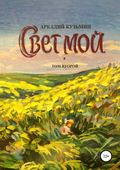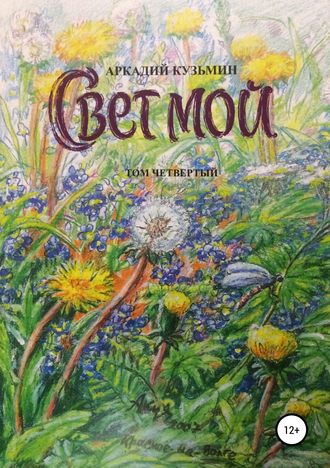
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 4
«Но пойми, – сказала она, – что мне-то от тебя ничего не надо: ни этих рыбок (это после того, как она их поела!), ни денег (в то время, как мы жили на эти самые деньги), ни ресторанов (в то время, как мы бывали в них), ни югов (в то время, как они ездили на юг). Я устала. Мне хочется теперь одной пожить. Больше ничего». «Тогда, значит, все в другой плоскости, – сказал я. – Давай тогда договоримся сразу: разъезд. И не будем больше унижать свое достоинство и оскорблять друг друга этими бесконечными попреками. Мне тошно от всего этого. Идет?» – «Давай. Идет». После этого я снова сел за стол. Передо мной лежала испещренная вдоль и поперек кричащая рукопись; перед глазами прыгали ее строчки, там герои разговаривали и клялись чему-то. Но писать я уже не мог сегодня. У соседей все веселились гости, хотя напольные часы там пробили час ночи.
О, тяжела ты, шапка Мономаха!
И так разошлись мы.
Вскоре я еще сделал попытку примирения с ней. Какое! Больно она хотела этого! Ну, конечно, я тоже ей ответил кое-что. Не упустил такого случая. И когда я передал ей приглашение моего приятеля на день рождения, она сказала мне буквально следующее: «Он, что же, не знает, что мы уже не вместе?» Я сказал, что я не считал, что мы разошлись. «Ну тогда иди к нему и считай, что мы вдвоем. А лучше всего пусть он, если меня помнит, изобразит для тебя мой бесплотный силуэт, – он художник! – будет еще больше иллюзии, что мы вместе». О, женщины! Даже самые интеллигентные из них опускаются до обычной мстительности. Чувствую, что это все. Предел. Я даже похудел за этот день.
Наверное, человеком правит предопределение, заложенное какими-то флюидами, токами в мозг помимо его желания. Хоть он и брыкается и изображает из себя независимого героя.
Вот Краснопевцев, атлет пятидесятилетний, сотрудник одного научного журнала, ветеран войны, которого только что посетил Антон дома…
Он вечно бегал, хлопотливый, заботливый и замотанный вконец муж и отец. Туда, сюда. Все делал на ходу. А как-то в июле почти на бегу выпил у пивного ларька кружку охлажденного пива. И тогда почувствовал точно, как его всего прохватило – в самую-то жару: он даже осип, он такой мощный мужик (косая сажень в плечах). Тогда же он и почувствовал сразу в себе какую-то неизлечимую болезнь. И потом хотя прилежно лечился у врачей, почти смирился со своей судьбой. Так, однажды, когда он ехал с Невского проспекта в бренчавшем трамвае, он, задумавшись несколько, как бы в один момент увидал все сразу перед собой совсем сторонними глазами: пьянящую зелень Михайловского сада, спешащих куда-то горожан и хлопотавших испуганных женщин над бледным молодым человеком, который привалился на парапете к садовой решетке, – он был с залитой кровью ногой, и уже мчавшуюся сюда «скорую помощь». И тотчас же, увидав все это, диковинно-облегченно подумал: «Да, и к чему, собственно, подобная суета? Все равно бремя жизни идет своим чередом. Будет все новее в мире. Что такое представляю именно я? И зачем, для чего я еще живу? Не все ли равно, сделается ЭТО или нет? Со мной ли или с кем-нибудь? Какая будет беда?» И два года спустя он, высохший до неузнаваемости – вдвое, втрое, борясь еще с раком, когда и говорить-то уже не мог, только шевелил губами и со свистом глотал воздух, говорил приехавшему к нему домой Антону то, что заболел именно с того самого дня, как глотнул кружку ледяного пива, прохватившего его.
Он не верил в какие-то там всемогущие наследственные гены. И, видимо, отчасти это справедливо: в каждом человеке, если вдуматься серьезно, живет предопределение смолоду, зависимое почти целиком и единственно от него самого. Пьет ли, курит ли он, водит ли автомашину, штампует ли патрон, колдует ли он у огромных печей с трубами и тем самым отравляет ли газами атмосферу и уничтожает озон, – все это делает человек сознательно, хоть и безотчетно, как и производит на самого себя всевозможное оружие уничтожения. Неужели в этом-то нельзя остановиться наконец вполне сознательно?
XIV
Следующим утром – в воскресенье, позавтракав, – Антон, не сторонник примерного сочинительства в живописи (что практикуется), попытался написать масляными красками такую же размазню – непогоду, ухватить, вернее выхватить, какой-нибудь внятный вид, ловя моменты-форточки между сыпавшимися с неба снежной крупы и капель и укрываясь под крышей в садовой беседке. Но и это было очень интересно и необычно с художественной стороны: могло получиться нечто настоящее в изображении – непридуманное, неприлизанное, одномоментное, живое.
И Антон так опять пейзажиствовал и отчасти удовлетворялся написанным, старался смириться с тем, как он справился.
Он вновь сел за столик кафе «Ривьеры» и, уставясь на входную белую дверь, видел за нею застывшее в своей неподвижности зеркало пруда, усыпанное снегом и рыже-рдяными опавшими листьями, и еще падавшими снежинками.
Люба, как условились, появилась перед Антоном в зеленой куртке с капюшоном. Засветилась улыбкой прежней, но не обещающей ничего по-прежнему. И он подавил в себе вздох облегчения.
Они вместе пообедали, гуляли здесь, в Зеленогорске. К ним присоединился потом и Меркулов, кого Люба приветила: он был симпатичен ей, как превосходно знающий подоплеку известных зарубежных фильмов.
И что еще его отличало: он был уникально откровенным собеседником: он никогда никому и ни в чем не льстил – говорил в глаза знакомых приземленней об их творческих работах то, что о них думал. Раз прошлой весной он раскритиковал написанный Кашиным этюд зеленогорский. Собственно, похоже, как и сам Кашин несносно придирался в душе к чужим пейзажам, которые не убеждали его по каким-то причинам. Какой-то своей несостоятельностью.
Этот утренний этюд с фиолетовым снегом на заливе и перевернутыми лодочками с красными днищами Меркулову не понравился, хотя и нравился по фактуре, т.е. по объектам, изображенным в нем: маяку, лодкам и лесу. Что было близко ему, как бывшему матросу траулера. Но он не мог бы подписаться под этим, если бы с него потребовали такую подпись, потому как живопись он не понимал – ему лишь казалось так на взгляд: его отталкивала в этюде какая-то конфетность, яркость, которую следовало притушить. Кашин не согласился с ним. Сказал, что нужно лучше знать природу его творчества; художник убеждал, что подчас в живописи этого недостаточно: тогда нужно вовсе забросить ее несчастную. И прежде, чем судить о ней, надо посмотреть внимательней на предмет ее изображения: природа порой своими красками ставит живописца совершенно в тупик.
– Уж насколько я художнически засматриваюсь на нее, да и то поражаюсь иногда какому-то яркому явлению, – сказал Кашин. – Живописность необыкновенная. Да, копировать ее нельзя. Наяву-то был еще фиолетовее снег на заливе, но я испугался его воспроизвести на картине. А потом, посуди: плоская линия горизонта, бело-желтый маяк из алюминия – мартовское беспросветное утро с моросящим дождем, только над горизонтом чуть отбитое небо желтизной – такие краски и создают впечатление конфетности, т.е. детали диктуют такой цвет, мазок кистью. Поставь вместо маяка серо-черный сарай серовский – и все сразу станет на свои места. Но почему ты, Максим, отказываешь мне в эксперименте? Я не должен тебе показывать этюдную вещь… Недоработку, считай…
– Нет, должен, считаю, – упорствовал Меркулов. – А как же ты будешь выслушивать критику? Ведь для зрителя истина дороже всего.
– Но это же этюд, проба; тут я экспериментирую для себя – это не готовая для просмотра вещь. Я не должен ее показывать публике. Это – как фуги Баха. Работа для себя. И я должен и так и сяк писать. Как ты тогда относишься к полотнам импрессионистов? Скажем, к Клодту Мане…
– Мне не показались его картины очень яркими. И Ван-Гог не столь ярок.
– А потом, знаешь, мы смотрим на этюд не оформленный – не в рамке и не на стене, соответственно покрашенной, – а это много значит.
– Антон, я сказал, что я в живописи не разбираюсь шибко, но истина, как говорил Сократ, мне дороже всего. Не ведаю, как полнее сформулировать свою мысль. Вот в литературе – другое дело. Однако и здесь возможен субъективный взгляд: каждый по-своему все понимает.
Они шли с разговором вдоль залива, и Кашин говорил:
– Вот, взгляни, сколь контрастны сосны – черно-черные, угольного цвета (от дождя) стволы и переход к ярко оранжевому верху и ветвям.
– Да, они словно опалены пожаром, – соглашался Меркулов.
– И потому ярче зеленеет крона на фоне этой черноты. А березы тоже какие-то коричнево-черные, обомшелые, напряженные. Напиши так – ведь не поверит никто. Освистят. И каждая сосна, каждое дерево имеет свой норов, характер. Каждое строение. Прямой линии нет ни в чем.
– Да, она глазами не воспринимается. Линия это предел чему-то. А предел нам совсем не нужен. Не по душе. Хочется выйти за нее.
– А куда, Максим?
– Куда тебя несет.
– Ну, это что-то несуразное, по-моему.
– Да, и меня несло. Каюсь.
– Что: она, горькая?
– Даже барматуха. Было: дошел до этого.
И он охотно поведал о том.
Первый признак алкоголизма наступает тогда, когда человек перестает следить за информацией. В небольших городках продают вино «Барматуха» – оно даже не в бутылках за печатями, а в каких-то трехлитровых банках и очень дешевое. Копейки четыре. И вот за этой «Барматухой» с утра у ларька выстраивается очередь. Все стоят серьезные молча, терпеливо-страждуще ждут. Вдруг по толпе ждущих словно ветерок полыхнул: идет продавщица. Вскоре очередь делиться надвое: те, кто уже выпил, отходят в сторонку (они не уходят, нет: снова потом встанут на новый заход, и так до бесконца), и те, кто еще не дошел до заветного окошка ларечка. В очереди все стоят серьезные – не тратят лишние силы на шутки-прибаутки, а в сторонке – уже все шумят, как в улье. Уже довольные. Они-то «вышли в люди». Это называется. Они снова живут. О, это же конец света. Никак не меньше. Они полечились у доктора Барматолога. Они так и говорят: «Пойдем, полечимся к доктору Барматологу», т.е. выпьем «Барматухи». А те, кто политуру пьет – они же складываются по 2 копейки.
– Но почему же водку не пьют? – удивился Кашин.
– Да водка семь рублей стоит! – возмутился Меркулов. – Не по карману алкоголикам. Они уже и забыли, когда держали в руках эти семь рублей. Ведь давно не работают, только ищут-рыщут, где бы им добыть копеечку!
Впрочем, и в этом Кашин тоже видел несообразность в поступках человеческих. Несоответствие желаниям и возможностям. Сродни восхвалению Наполеона в том, что он дошел до Москвы в своем военном походе и погубил многие тысячи людских жизней, и что Черчилль затевал третью мировую войну против СССР, а затем открыл холодную войну…
В разговоре же с Любой Меркулов лишь упомянул о том, что он отныне один – разведенный. Танцует сам с собой. Сказал:
– Вот с моей женой так. Она хотела лишь покрасоваться, поартистичничать. Мы разбалансировались на этом поприще, перестали надоедать друг другу, взялись за ум. Я хочу привести одно наблюдение. О фаэтоне с девочкой.
XV
И вот ныне после нового разговора с непотопляемым Овчаренко, кому, видно, не было никак стоящей замены, ни в чем ничего не изменилось нисколько, что ужасно.
«Вот хлыщ записной – Васькин! Как он мог! И стыдобушка не берет ведь: отворачивается!.. – Еще сокрушался сам с собой, выходя из кабинета, Антон. – Не видел их, увертышей, сколько – и не хочется мне снова видеть их! Но он же, чувак, долго вращался в том заповедном коллективе, дружился с попсой завирающей, пропитался их духом, манерами, привычками выпендриваться напоказ». Их похождения Антон наблюдал в профилактории, куда попадал часто, пользуясь сотрудничеством с издательством и исключительно ради этюдописания, любя природу. Рассказывал же ему Меркулов о нравах в профильных институтах (ВНИИПП): там технических начальников, знающих специалистов, сослуживцы обозвали «кладбищем слонов» потому, что те, получая по 250-350 рублей зарплаты, дружно не хотели уходить на пенсию, хотя и работали уже без искорки божьей. Зачерствели душой.
Но тут знакомый шелестящий голос знакомого в упор остановил Антона.
– Ну и где Вы, Антон Васильевич, стучите ныне? – презанятно спросил, столкнувшись с ним и поздоровавшись, прежний круглолицый художник Ветров, еще служивший издателем, никого не донимавший и не обижавший, но человек себе на уме. Спросил этак, и зная все о нем и подлаживаясь будто.
И Антон, тоже поняв это, тотчас же среагировал спокойно:
– Сударь, никогда нигде не стучал ни на кого и не буду.
Вместе с ним он заканчивал институт, но был с ним на «Вы» всегда.
– Простите, каюсь: блатное словцо само вылетело, – признал Ветров. – Не спросилось…
– Зато вдруг язык украсился, Слава Юрьевич, – сказал Антон. – И образно так.
– Вижу: Вам живется легче после нас? Некого подгонять?
– И после, и без вас. Живется несильно, нет. Хотя все посильно. Вижу только: толи сам уже старею, толи все мы стареем нечаянно. И не тот уж почерк у нас, извините… У всех… Огорчительно мне…
– Ну, не прибедняйтесь, Вы-то, Антон Васильевич, – подоспела в коридоре Валентина Павловна, тощая экономист. – Да! Да! Но Вы сейчас как бы со стороны на нас смотрите – сторонними глазами, а мы-то ведь каждый день себя сами видим и видим все свое безобразие… Смеюсь, конечно…
Подошли еще две дамы интересные:
– Услышали, что гость пришел. Хотим также взглянуть на Вас.
– Польщен вашим вниманием, мои желанные, не стою я того, – говорил Антон. – Нет во мне картинности и эстрадности.
– А что Вы смеетесь? – спрашивали дамы у него.
– Нет, отнюдь. Сказал, что почерк у нас уже не тот. Спотыкающийся. Когда видишь, что комбинат выпустил в свет явную дрянь: слепой мелкий шрифт по темному фону, иллюстрации плывут… Ведь раньше не фабрика-игрушка была… Говорят: то раньше… Забудьте… Там художница с божьей искрой работала… И потому-то видеть многое похужевшее не хочется… Да и вам тоже, наверное…
– Но не нас же все-таки? Видеть…
– Но не вас, желанные. Никоим образом. Люблю всех по-прежнему.
– Как Ваша дочь? – спросила Валентина Павловна.
– Что дочь? – сказал Антон. – Ей уже одиннадцать лет. Уже обструкция начальству, то есть родителям.
– Ну, это-то известно. Передавайте привет жене. Она – умница у Вас…
Ее эти слова словно послали ему лучик некой поддержки.
Антон не любил ни с кем откровенничать о своих семейных тайнах, никому не жаловался на свою жену, в отличие от друга острослова Махалова.
Между тем он был очень уязвим и в супружеском союзе с Любой, коли ее любил, – союзе, разлаженном из-за ее метаний; у него же как с самого нала не заладились откровенные отношения с ней (были на полутонах), так и продолжалось бессмысленное их противостояние, что не прибавляло тепла ни уму, ни сердцу. Люба уже сжилась с ролью обиженной замужней страдалицы, чем она всегда искусно выгораживалась для собственного удовлетворения и возвышения непримиримости – и по взрослению дочери; она, одержимая манией главенствовать в отчуждении или отторжении мужа, семейного «врага», каким в ее глазах он стал после ее же измены ему, заслуженной, она считала. В основе-то ее претензий к нему был распространенный шаблон: неуспешен в постели и в делах!
И Антона несомненно омрачало такое брачное рассогласование с Любой, несмотря на его активные усилия наладить с ней отношения. Однако она либо нарочно, либо по инерции противодействовала этому – тем дальше, тем явнее то происходило. Входило в ее привычку, наверное.
Люба в девичестве бывала биваема деспотом-отцом, поэтому теперь, повзрослев, отыгрывалась на сильном поле, находя в поступках мужчин слабые, негожие. Все закономерно. А из-за отторжения любви Антона чувствовала бесцельность своих прожитых лет. Потому металась бесцельно. Ее, эгопротестантку, можно было только пожалеть. И Антон вынужденно жалел ее. Не кинешь же ее, как прирученную дичь, на дороге…
Каждый раз он думал, что помаленьку их отношения наладились, нет причин для ссор; но стоило испортиться настроению у Любы, как вмиг у нее являлось желание видеть во всех семейных бедах его, Антона, его скверные гены, его скверную родословную, не столь чистую, так как он родом был из села, как и его братья и сестры. Она видела их: они не отличались своей безупречностью – по ее понятиям.
Вот такие же изгои делали революцию, и она – де поэтому страдает теперь. Она одержима была сверхэмоциями. В этом проявляла свое крайнее безумие, не считаясь ни с какой логикой. И ее было не оспорить ни в чем. Только отчего же порой от нее исходила такая ненависть не только к нему самому, но и ко всему тому, что он делал – такая неприязнь? Даже оторопь брала. И это была не игра, а какое-то необъяснимое наваждение.
Она ставила не раз под сомнение и его способность что-нибудь толковое написать понятно. Придиралась к его неразговорчивости.
Но что, действительно, ему давало его беспрерывное занятие творчеством? Наслаждение? Дань тщеславию? Деньги? Признание всеобщее? Отнюдь. Что касается денег, то их у него и в помине не было, они нужны были лишь на краски, на бумагу, на багет. А признание настоящее, право, и быть не могло нынче, когда давно перло наружу, напоказ, хвастаясь, все новомодное, непонятное, за чем не угнаться честным образом правде с вопросом: зачем? Просто все складывалось у него так, как складывалось; он, как художник, видел все явления и природу иначе, чем другие, как-то вовсе по-другому, казалось ему, понимал все иначе, чем другие, и показывал это в своих работах. И все подтверждали это с искренностью, с чувством благодарили. И ему доставляло удовольствие дарить другим это ощущение тем, кто покупал его работы за бесценок почти. Это не были музейные экспонаты, отнюдь; работы его были, по отзывам, теплы, светлы, позитивны, не агрессивны, красочны, не придуманные, не сделанные на показ. Это держало его на плаву. Приободряло.
XVI
Раз Антон оказался в Зеленогорске свидетелем будто разыгранной сцены, шокирующей здравомыслие.
Тусклый привокзальный ресторан уже пустовал – был поздний холодно-неуютный осенний вечер, когда сюда деловито вкатилась круглая, как грибок, черная старуха с цепкими птичьими глазами и тотчас подсела, ничуть не раздумывая, к миловидной плотной русой, простенько одетой девушке, приехавшей, верно, недавней электричкой из Ленинграда (похоже, там работала и училась) и сидевшей теперь здесь в ожидании яичницы совсем одиноко, ровно перст, за чтением какого-то учебника. Старуха поставила на соседний стул свою черную длинную кошелку, быстрым, заученным движением развязала темный платок, сняла его с посеребренной головы и кинула поверх кошелки. Отдышась чуть, прошамкала губами. И тут вдруг поднялся один посетитель, заметивший ее, тихо пивший с товарищем за столиком в углу, – высокий и нескладный немолодой плешивый мужчина, в сером старомодном пиджаке с поясом и с вставными плечами (болтался на нем, худом, что на палке), – и молча, но целеустремленно, хоть и покачиваясь слегка, приблизился к ней. На мгновение он над ней остановился и сначала заглянул ей в лицо с этой стороны, прикидывая что-то для себя, а потом зашел к ней с тыльной стороны; подставил себе стул поближе и, глядя на нее, медленно – чтобы, вероятно, не упасть или не сесть мимо – стал опускаться на сиденье. Однако проворная старуха – еще не успел он опуститься полностью – испуганно вскочила с места своего; подхватила опять кошелку с платком и краснея неимоверно, раздувая, точно меха, пухлые дряблые, дрожащие от негодования щеки, кинулась прочь от него – за спасительный стул и стулья, почти крича требовательно, как бы призывая в помощь свидетелей насилия над ней, ее личностью:
– Уйдите от меня! Что Вам надо?! Вы пьяны… Оставьте же меня!
Было видно, что это уже заучено у ней, заучено с самых давних пор – и это удивительное под старость озлобление к нему, и это подчеркнуто холодное обращение на «Вы»: так не однажды, должно быть, она уже кидала ему в лицо, ограждая себя от его назойливых приставаний. А он, чудной, видно было, все пытался еще поговорить о чем-то с нею, что-то выяснить у нее до конца. До самого победного.
Она была некрасива, с широкими бедрами, с беззубым уже ртом, с красными, дергающимися руками. Словом, никак не королева, нет. Но, несмотря на то, что она столь решительно просила оставить ее в покое, он ни за что не отстал от нее – встав, двинулся ей навстречу обратным путем, то есть вокруг стола. Тогда она снова шмыгнула на облюбованное место; загородилась стулом, положила свои вещи на него:
– Да оставьте ж, наконец, меня! Что вы пристаете всегда ко мне?!
Но поспел-таки и преследовать тоже. Перегнувшись теперь через стол, но что-то сказал ей в ответ – что-то, видать, негожее, отчего сидящая рядом девушка густо покраснела и еще сильней-сосредоточенней уткнулась в свою книжку, словно ничего не слышала и не видела. Тут же позванный сотрапезником, он не замедлил вернуться обратно и, послушно-картинно сев подле, негодуя и жестикулируя на негодную старуху, стал что-то рассказывать ему, а тот, большеголовый и вроде б умноглазый такой, склонившись к нему близко и изредка прощупывая ее взглядом, с величайшим интересом слушал его. Слушал, не мигая почти.
Как будто они оба со старухой этой только что разыграли знакомую для всех, старую-престарую оперетту или, совсем забываясь от лет своих, по инерции продолжали друг с другом какую-то прежнюю недостойную игру всякий раз, как неожиданно встречались где-нибудь здесь, в небольшом курортном городке, где старожили друг друга, особенно в мертвый сезон.
Увиденное опечалило Антона. Ему подумалось: «Да, негоже нам превращаться в истых ненавистников близких».
В здешнем же ночном профилактории мало-мальски начальствующие деятели искусства, расслабляясь и забавляясь, уже осознанно разыгрывали непристойные мини-спектакли, услаждая тем самих себя. Чем «доставали» и других.
Ввечеру в небольшом зале отдыха, работал телевизор, демонстрировался фильм о трудных детях. И тут-то опять вошел сюда, покачиваясь, блуждавший неприкаянно всклокоченный пятидесятилетний Ильичев, поэт и, главное, главный редактор краевого издательства, словом, хозяйчик. Он был в неизменном синем пластиковым спортивным костюме и в матерчатых тапочках, которые он при очередном буянстве, как и в прошлом году, напоказ выбрасывал из окна. Этот человек в окружении подчиненных женщин-редакторов, корректоров и техредов – вел себя как подгулявший купчик. Ничего интеллигентного в нем не просматривалось. Это, видно, ему очень нравилось; он постоянно как бы бредил, неся всякую чепуху. Но вот был ли это настоящий бред у него или своеобразная игра-забава, определить было трудно. Потому как он пронзительно-пристально словно приглядывался к тому, как окружающие реагировали на его выходки. Ведь он и на службе, бывало, куражился подобным образом, заговариваясь: «Ой, сердце болит!.. Дайте валидол…»
Он с ходу, плюхнувшись в кресло, комментировал фильм:
– Вот и у меня детки такие! – Чем вызвал смех у сидящих зрительниц. – Ох, как бы поудобней устроиться! – И положил ноги на впереди стоящий стул. И попросил медсестру Таню: – Доктор, дайте мне колбасы.
– Доктор, уложите меня спать, – продолжал он. – Ну, уложите же меня спать. Разденьте меня, пожалуйста.
Потом читал стихи о любви Лермонтова, Щипачева. Потом трижды вскакивал со стула и хватал за полы халата медсестру Таню, говоря:
– Вот если б я твоим мужем был!
Она же трижды вставала со своего места и строго, как избалованному ребенку, говорила ему:
– Оставьте меня в покое! Перестаньте! Сядьте!
Тогда он подсаживался к машинистке Марьиной, говорящей громко, и обнимал ее, говоря какие-то гадости. Потом толкнул спящего на стуле в сидящем положении Володина, с кем выпивал только что:
– Володин, пойдем!
Потом трижды уходил из зала и трижды снова появлялся в нем. На устах его были:
– Женщина, которая укусила его за палец.
Или:
– Откусила ему палец. Баба. Поганая девка.
За обедом Р. призналась, что ей страшно и что она не знает, что делать и как отвязаться от его приставаний. Что если и на работе эта игра будет продолжаться. Она думала, что он отстанет, когда предложил прогулку, или она удерет, когда его, пьяного, внимание переключится на что-то другое. А то ведь не дают проходу женщинам. Но он ей вдруг сказал, что он, что же, так и не получил ничего?
Она сказала:
– А эти белые березы? А это чистое вечернее небо? А эта луна крупная, круглая? – И вижу по его пронзительным глазам, что он все играет. А когда повернулась назад, сказал, что в эту сторону сейчас пойдем по малой нужде.
Я сочла это оскорблением для себя и ответила:
– Ну, если так, то лучше бы сказали, что пойдем по ветру.
– А в эту сторону – по большой нужде, – досказал он.
Оказывается, в эту сторону пойти – это выпить в шайбе – круглом распивочном магазинчике, а пойти в другую сторону – взять пол-литра.
– А он и не пьяный, когда был помоложе, проходу им не давал – каждую норовил остановить и облапать.
Медсестра Таня с состраданием спросила, когда его из столовой под руки вывели в туалет: «Что с ним? Больной?»
– Да, заболел, заболел, – отвечали ей.
– А что?
– Вот тут болит. – Показывал подвыпивший на сердце, а по хитросмеющимся глазам его и других товарищей она видела, что что-то не то, и глядела на них с подозрением.
– Но вы хоть зайдите, приглядите за ним, – попросила она, поскольку была дежурной.
– Посмотрим, посмотрим, – серьезно говорил красавец Володин, загоняя шар точно в лузу.
Спустя минут десять она снова подошла к играющим и умоляла посмотреть за больным.
Пошли и вдвоем повели его наверх в комнату. Почти ирреальный быт.
XVII
Все-таки столь причудливо сплетение чьих-то людских судеб. Круговорот!
– Нет, а мне ездить по утрам в автобусе – в удовольствие, – бодрился стоявший в его салоне здоровяк на вид; – так, глядишь, знакомых встретишь и наговоришься.
Когда же новый поток пассажиров втиснулся в салон, уплотняясь, и Антон Кашин, невольно чертыхнувшись в душе, оглянулся на того, кто сзади крепко напирал на него широкой грудью, то узнал в нем Осиновского, главного, считай, художника их издательства. Узнал, однако, с неудовольствием.
– Вы?! – больше удивлен был Осиновский их нежеланной встречей. Он уже даже не здоровался с Кашиным, тупо не отвечал на его приветствия, уязвленный, вероятно, его независимым поведением.
– Да, как видите. В целости… Здравствуйте! – Кашин привычно опять поздоровался с ним. – Я могу и еще продвинуться, если мешаю вам…
– Да уж стойте на месте, коли стоите! Не егозите… – С готовым раздражением проговорил Осиновский. С раздражением. И вкладывая в свои слова какой-то тайный смысл. И опять же не ответил на его приветствие, продолжая играть в непонятный каприз или в какую-то комедию.
Что было уже чересчур. Ненормально.
Да, странное чувство неприятия, а не то, что неопытного новичка при сем, испытывал Кашин при встречах с такими себялюбцами, трафаретно ведущими себя в обществе; ему было просто не о чем разговаривать с ними – не находилось общих тем для этого или он попросту не умел того – поддержать какое-то несущественное говорение. Эти люди мнили себя хоть куда зрелыми эстетами, знатоками авангарда во всем; они, как правило, любили острые (вроде бы) эстетствующие в своем кругу разговоры или желание передернуть по-смешному чьи-нибудь слова, или рассказать со смаком свежий анекдотец, или посмеяться над каким-нибудь общим знакомым, или даже посплетничать о ком-нибудь, – они были людьми особого сорта, и этим они жили, дорожили морально, щеголяя, напоказ.
Самовозвышение Романа Осиновского началось с того, что иные книги и альбомы, которые он художественно оформлял, печатались по договорам в иностранных типографиях, отлично оснащенных полиграфически и, значит, воспроизводящих все публикации в художественных изданиях полней, ракурсней, роскошней. За счет чего заметно улучшилось качество выпускаемых книг. И такой неслучайный успех вскружил голову не только Осиновскому, но и другим удачливым редакторам его отдела: они в собственных глазах казались себе незаменимыми мастерами. И уж оригинальничали в своей работе, как хотели, – то не возбранялось. Отнюдь!
Оригинал Осиновский конструировал книгу, как он возвышенно определил свое художественное ее редактирование и макетирование. Благая цель, конечно: собственными руками изготовить нечто видимое – нужное для людей – то, что можно с радостью увидеть, пощупать и полистать! Однако он, не обладая мастерством художника-практика, а будучи дилетантом-оформителем, не чувствовал шаткости своих позиций, как законодателя моды, и шел напролом, считая, что все ему позволено. Был же человеком с тяжелым, вспыльчивым характером. А потому со временем стал трудноуживчивым с теми работниками в коллективе издательства, кто не соглашался с ним в чем-то, игнорировал его мнение. Он считал себя главным художником (вне должности), хотя занимался той же средней квалификации оформительской работой с книгами, что его сотрудники в отделе. Он фактически ломился в открытую дверь, желая, чтобы все решительно признавали это особенным, воздавали ему хвалу. Хоть немного. Он, казалось, задался целью поразить всех своей необыкновенной способностью сказать новое слово в книжном оформлении, как и даже в том, если придет он к мнению, что Земля круглая, или установит нечаянно, что на улице льется косой дождь. Дилетантство же его и заключалось в том, чтобы заставить всех взглянуть на то или иное произведение искусства или иной объект его глазами, так как он считал, что только он способен тоньше других почувствовать дух вещи с точки зрения ее товарности; то теперь уже было модно, т.е. как и обыграть и подать безделушку, – фрагментарно или в ракурсе.
Все это, выходило, он понимал особенно тонко, и уж от него зависело, что тот, кто не склонялся к такому мнению и не стоял перед ним с раскрытым от восхищения ртом, тот попадал в его противники, которые в силу своей бездарности мешали ему, одаренному. С такими людьми Осиновский боролся своеобразно, шумно, бурля, взрываясь, сверкая красными с обводками глазами, как будто ему назло не давали стать вторым Рафаэлем.
Но мало того, что Осиновский так примитивно настраивал и дисциплинировал своих отдельческих художников-редакторов, так он еще объявлял и производственников никуда не годными неучами. И когда однажды получил отпор от Кашина, то, обозлившись на него, даже перестал с ним и здороваться, исключил его из орбиты своего внимания.
Антон Кашин по натуре своей не был злоблив, мстителен, шумлив или скрытен; он, напротив, приветливый, в меру стеснительный, но твердый в решениях своих, воспринимал и рабочие отношения тоже как товарищеские, дружеские, простые и ясные, как самые человечные отношения – какими они и должны быть на практике.