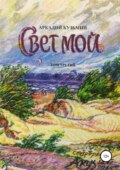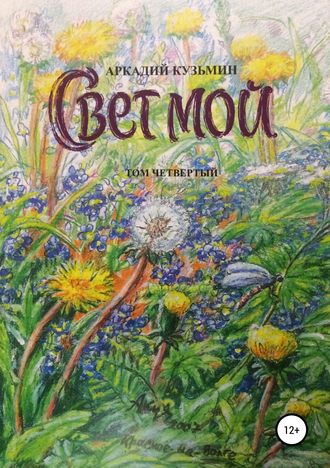
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 4
– Ужас!
– А чему ты ужасаешься?
– Ну ты даешь! Полмесяца почти ты один – и они не дали знать тебе ничего о себе? Не позвонили тебе ни разу?
– А что тут сногсшибательного для тебя?
– Ну, в век электроники это непростительно.
– А кто сказал, что мы тоскуем друг по другу?
– По кому? По Любе-то?
– Ну причем тут имена? Родство… Любимые… Для тебя-то физика. Это еще может что-то значить. Для меня же – абсолютный нуль, вернее, я в ней – абсолютный нуль, извини. Кстати, ты разве по-другому милуешь свою новую подружку?
– Ой, я и Любе говорил, она меня гнобит самым смертным образом – я ее уже видеть не могу, спасаюсь в аудиториях ЛЭТИ.
– Эта-та – случайная – вторая? Разница в постели ощущается?
– Да не очень-то. Хотя эта не костлявая…
– Я не понимаю суть измены – в чем она? Все дело в том, как ты обнимаешь, только и всего?
– Но, видишь ли, даже бобры выбирают невест любимых.
– Трансформация непонятна, неприемлема. Это что: помимо твоего сознания идет? Неуправляемо? Значит, если политик меняет свою позицию – это тоже неосознанная виртуальность? Нужно подчиниться? И тогда физиологически у тебя в постели с дамой нечто подобное может быть?
– Наверное.
– Ну, тебе-то, Толя, это хорошо известно. Ты ведь ощутил какое-то благо, лежа рядом с киевлянкой – чужой женой, как любовник? Скажи мне по секрету.
– Когда как. Не существенно. Я звонил ей теперь из-за этого удара фашистского…
– Но ведь ради чего-то и изменяют друг другу.
– Это как разные сорта чая – и от заварки тоже зависят и выдержки в чайнике. На кондачка не получается.
– Только и всего? Из-за чего же люди стреляются? С крыш кидаются?
– Ну кому что взбредет в голову. Иногда и дырки от бублика хватает для азарта.
– Отчего же все сильные мира сего бесятся? Оттого что не хватает какого-то нужного элемента в организме, а признаться публично не хотят? Это от слабости человеческой – все-таки попробовать запретное для самого себя и в чем-то убедиться лишний раз – наяву?
– Например, я помню, что во время войны, что в Ленинграде, что в Сталинграде меня, семилетнего, удивляло то, что есть сила сильнее моих родителей. – Но Анатолий мучился все еще оттого, что он что-то нынче серьезно напутал и все еще не мог отыскать концов своих разорванных мыслей.
И Антон ничем не мог ему помочь в разрешении его умственной промашки, когда ослабевший мозг уже не выполнял в должной мере свои функции, давал сбои.
XVI
– Диву я даюсь: Украина всех захомутала, ставши заложницей натовской, – постаревший Анатолий покраснел по– юношески. Сел на стул. Снял шапочку серую.
– И на западенцах Европа вконец заморочилась, сдурела; и чухается она с ними, оттого у ней голова болит, – добавил Антон. – А развернуться вспять – уже не позволяет гонор европейский. Да и пусть! Мало, что ли, в их компании прибалтов оглашенных, ястребов. Маленькие собачки пуще лают и кусают.
– Уж известно. Я летом бывал в Латвии гостеприимной…
– Мы-то с Любой поменьше… А их покровители судят нас за эту вакханалию: мол мы, русские, виноваты в том, что не даем укронацистам и олигархам растерзать насовсем славян – мирных жителей восставшей Новороссии, что помогаем им продуктами и лекарствами, даем им приют и всяко поддерживаем их.
– Естественно: спасение по-американски. Территория Донбасса нужна новоявленным киевским властям без жителей. Отсюда беспредел нацгвардии. Сопротивляется Восток Украины. Мой внук, Сократ, в ополчение туда хочет поехать. С приятелем вместе. На защиту…
– Это – старший?
– Нет, младший. Собранный.
– Я вечор видел (по телеку), как дергался, горя глазами, американец, доказывая, что только американская политика везде светоносна, а российская вредна, нелегитимна. Насколько же запрограммированы зомби этой нации. До маразма.
– Наверное, потому, что воспитание недостаточно: у американцев культура заемная, сборная. Они еще не набрались опыта, а рубят с плеча. Не терпят соперничества.
– И до чего ж они, янки, въедливы – настырны: суют под нос свою правоту в твоих делах; лезут с пеной у рта учить даже обычные писаки – не политики. Никто другой – ни француз, ни итальянец, ни испанец – не всунется туда, куда ему не следует. А тут такой облом…
– Да, назло соседу. Спихнуть его.
– Как же: они, янки, могут спасти мир от русских наилучшим американским образом. Спасти и потом говорить всюду, как они хорошо спасли, как было и с каким-то рядовым у них в каком-то разрекламированном фильме.
– Англо-саксы всегда почему-то считали, что набить русским морду для острастки проще пареной репы. И считают еще. Ну, и они ведь поспособствовали развалу Советского Союза. И что: проще им стало жить после этого? Напротив. Теперь нужно следить за десятками независимых государств. И подкидывать доллары на лапу… соглашателям…
И ведь каждая малая шавка старается посильнее тявкнуть, подать свой голос, чтобы ее заметили в стае объединенной – НАТО.
Ведь псевдогордая Европа по сию пору не хочет признать своих истинных спасителей потому, что они не европейцы вовсе; она придерживается своего междусобойчика, поскольку живут – здравствуют вроде бы на другой планете – культурной, чистенькой. Ну, ничего, что их, бравые ребята, нашкодили где-то и кто-то из них, попивая баварское пиво из кружек, еще вдохновенно вспоминает о том, как славно они, немцы, сидя в теплых ДЗОТАх, косили из пулеметов тысячи русских солдат, неумевших якобы воевать. В общем совесть политустроителей не мучает за это. Виновных в агрессии словно нет никого. Все довольны жизнью. А правдолюбцев стало пруд пруди.
А что касается многих тысяч погибших красноармейцев при освобождении европейских стран, то об этом никто вроде бы и не просил, как-то вырвалось у кого-то из европейцев признание.
– Ладно, хватит нам впустую воздух сотрясать словами… Лясы точить… Антон, для признания чего-то –нужно набраться мужества. А есть оно у немногих. Хвала им!
Это – люди без зависти к добродетелям к другим.
– Ты партийный до сих пор? И лекции… Практикуешься?
– Читаю. И руковожу ребятами-энтузиастами. Я не отступился.
– А молодой замены нет?
– И не пахнет ей. Мало кто идет в науку.
Они зашли на кухню. Толя сел к столу, а Антон захлопотал около холодильника и плиты, спросил:
– Ты помнишь Агой, где ты заплывы накручивал?
– Ага. У Черного моря, на Кавказе, где ты акварельки писал? Семьдесят второй год. Чудное время.
– Там и чудная дивчина-альпинистка Алла была. Знаменитая.
– Да, она так взрывно играла со студентами ГНИ – прямо бестия; она обыгрывала всех парней, а они, играя, только и покрикивали в панике: «Держите! Держите Аллу!» Это стоило только видеть! Никакой спектакль не сравнится с такой бузой.
– Зато она неузнаваемо несчастна была после – по приезду в Ленинград – при встрече с нами: ее убила измена ее любимого, на которую она явно рассчитывала, полагалась…
– Знаешь, Антон, она ведь тебя тогда жаловала, почти любила; ты, выходит, она признавалась мне, был чем-то похож на ее изменщика.
– Да, а к тебе относилась прохладнее, не спорю, хоть ты и выглядел бойцовски-тренированней и выигрышней. И ухаживать старался за ней.
Накануне ее отъезда – возвращения в Грозный она гостила у нас. Уже пришедшая в себя отчасти, разумная. Мы с ней сидели рядом на диване и обнимались, даже целовались, я ее успокаивал, и ее длинные рассыпавшиеся волосы пластались по моему лицу. Я вполне был готов безоглядно жениться на ней, чтобы только искупить перед ней вину того паразита, если бы не был женат на Любе. Правда, не совсем уверен был в том, чтобы она согласилась быть моей женой, и в том, что мог бы ее устроить, как мужчина.
Ну, не будем, приятель, больше лясы точить. Приступим к еде.
В это время раздался звонок мобильника.
– Антон Васильевич, я проезжаю мимо Вас, и Вы много раз меня приглашали, – раздался голос Николая Ивановича.
– Так заходите! Буду рад! – позвал Антон.
XVII
У Антона с шурином были ровные отношения. Вообще у него никогда не было претензий ни к кому. Он попросту отсторонялся от нежелательных друзей, от недругов; не водил никаких компаний ни с кем, был независим в поступках. Он знал (и Люба тоже) маленькие слабости Толи: урвать что-нибудь по мелочам. Например, при первом разрыве отношений Антона с Любой, когда та ушла от него, Толя впопыхах примчался к Антону с вопросом: не мог ли он теперь поделиться с ним жилплощадью в коммуналке? Решение, явно подсказанное его матушкой, тещей Антона. У того же подрастали две дочери. Тогда как Антон был один.
Антон и Люба опекали его, вводили его в круг Антоновых друзей, поскольку он был большой ребенок, державший, к его чести, полный нейтралитет в любовных соблазнах Любиных (впрочем, как и она в братиных).
С приходом непьющего нынче (он за рулем) Николая разговор за столом Кашиных возобновился.
– Родимые пятна у нас – перетолки, – сказал Анатолий, поглощая салат.
– Что поделаешь, – сказал Антон. – Все – обыденность. Роботы безликие: повылезли – его исполнители; видишь стадо небритых сонных одутловатых мужчин в дорогущих аксессуарах – с души мутит… Новоизбранная чумная серость правит миром, капитал диктует волю: ухватить куш побольше, замотать все в кубышку. Какое ж тут демократическое развитие общества? Для кого? Да полный произвол! Вперед победительно выперло мурло торгашей: мое! мое! Они скоро и космос ведь распродадут – на каждую звезду ценник приляпают.
Чем гордиться нам? Литературой? Архитектурой? Скабрезной эстрадой? Театральным раздеванием? Инсталляцией помоек?
Вот почему я неспокоен. От извращения человеческого поведения. Ярких политиков нет. Укусить, что-то отхватить; кого-то отстегнуть, кого-то пристегнуть к кормушке. Вот что значат союзы, слепленные по единому образцу, наподобие НАТО. Оттого не легче народам, напротив. Никто уроки не учит.
– Ну, такое и с песней бывает: не поет душа, – сказал Николай Иванович. – По себе сужу. А что касается сегодняшней атмосферы мировой, то, мне кажется, людей развращает, нет разобщают различные их верования и в бога и в предрассудки. Взять хотя бы католиков. Это – на Западе – скорее партийная принадлежность, а не вера. В отличии от нашей – православной. Там – как бы показ принятой лояльности в привычках к обществу; у нас – служение своей душе, она так хочет.
Антон не согласился:
– Я возражу Вам, Николай Иванович (он всегда называл его по имени-отчеству), поскольку был в Польше – проехал ее всю в военные годы и видел в то время как веровали католики. Там на дорогах, перед селами, стояло изображение распятого Иисуса. И все костелы работали, вели службу. И прихожане регулярно – по часам – ходили на службу. Вот так поляки закатоличились. Не случайно их Павел в наше время папствовал в Ватикане.
Поляки, молясь, веровали в лучшую жизнь, не в войну; мы, русские, дружили тогда с ними, помогали друг другу. Помню, я с одним пожилым солдатом был командирован в Торунь, только что занятый нашими бойцами, но было еще тут как бы междуфронтье, и вместо трех суток мы здесь, в Торуне, пробыли десять суток. Наш провиант закончился, и мы вместе с одной польской семье питались тем, что на развалившейся немецкой ферме вылавливали захудалых кроликов и варили их на обед. У нас разногласий не было. А в Белостоке я помогал одинокой пожилой женщине несколько дней обмолачивать рожь.
– Антон Васильевич, вот об этом – Вы и напишите! – воскликнул Николай Иванович.
– Да уже почти управился, – уверил Антон.
Есть белые пропуски в человеческой памяти. Сбой. Как ни крути ее – не прокручивай. Ее толчки – спорадические, импульсивные. Для самого себя. Не для площадей. Память нерассказанная нераскрываемо правдива, не терпит преувеличений. Но нет пропусков в нашей истории. Если все восстановить согласно происшедшему, то можно запросто рехнуться, тронуться умом: найдутся ярые защитники и мясников, убежденных праведников; от подвигов таких бесноватых и поныне даже пустыни стонут, кровью умываются. На земле уйма стран, и в каждой стране много правд.
Только Библия, сочиненная людьми, бесспорна в суждениях, подправивших часть истории для складности ее и приемлемости миром. Вот пришел к нам спаситель, и что с ним сделали люди. Теперь каются.
– Ну, католичество заменило религию, протянувшуюся от Европы до Америк; господствующие кланы, молясь, находят злодеев среди инакомыслящих, – рассудил Николай Иванович. – Европа учит юлить и клянчить, а не выбирать; выбирают за тебя – твою судьбу. То и с Украиной случилось: раздули перед нею пузыри нарядные.
– Я только что прослушал лекцию хорошего – не пузатого – политолога, – говорил Анатолий. – Тот откровенничал: в ковбойской политике США нет послабления и не будет. И жалости. Ее стратеги не зря истребили собственный народ, загнали его в резервацию и нисколько не скорбят по этому поводу, не сокрушаются о том, как мы сокрушаемся по репрессиям в нашей стране; они намерены согнуть в бараний рог всех, кто им сопротивляется и встанет на пути проникновения доллара. Бескультурье национальное, но они прут себе нахрапом; а Россия уже пришла в себя после потрясений – и крепнет-то опасно. И сердитый дядя Сэм заметил это. Они, янки, разогрели на майдане всю шушеру западенскую, оплатили этих дурней, подкинули пороха и бросили клич перед толпой – смены власти. И понеслось… вот отсюда они и станут нас терзать…
– Толя, все понятно нам, – сказал Николай. – Сей модифицированный продукт. Генный. Гегемония янки. Но ведь и европейская политика осела, только она воссоединилась под диктант заокеанский. А там все покрыто мраком. До сих пор неизвестно, кто убил Кеннеди. Высадились астронавты на Луну? По-моему, точно нет. Была лишь имитация. Ведь не представлены корабли-челноки. Где они? И как они могли взлететь с осыпного лунного грунта, как показано, когда упора под соплами нет и нет у американцев таких двигателей? Почему-то на это никто не обратил внимание.
– Теперь западные спецслужбы заморочили мир в том, кто сбил над Украиной Таиландский Боинг семьдесят семь – не хотят обнародовать данные в ущерб украинской стороне. И потерпевшим голландцам тут заткнули глотку, чтобы не вякали. Селяви! – сказал Толя.
XVIII
– Толя, а ты помнишь: у нас были гости – Махалов, Ивашов и Меркулов, все веселые ребята? И ты, физик-доцент, пожаловался им, что у тебя в ЛЭТИ Столбцов, не физик, объявил тебе, что хоть ты и вовремя открутился от профсоюзной нагрузки, но нагрузочкой-то он тебя все равно обеспечит по партийной линии, учти.
– Столбцов?! Мишка?! – в один голос воскликнули ребята.
– Да, он. Ты захлопал глазами оторопело.
– Мы с ним на юрфаке вместе занимались в Университете. – Они засмеялись.
– Так Вы знаете, кем он стал в нашем Электрофизическом институте? – спросил ты с неким страхом, и они тусовались:
– Не имеем ни малейшего представления. И знать не хотим.
– Он стал секретарем парткома!
– Ну, за ним всегда водились такие способности, – сказал Махалов. – Ты передай ему – скажи, что Махалов, Ивашов, Толя Жарницкий и Кирсанов пока живы; словом, передай пока от нас привет, и этого будет достаточно для того, чтобы он навсегда отстал от тебя со всякими ненужными обязанностями. Ты запомнил наши фамилии?
– Толя, лучше запиши, – посоветовал я тебе тогда. И дал тебе бумагу, ручку. И снова продиктовал фамилии.
– Да, это я отлично помню еще. Мне это помогло.
– Насколько тесен мир! – сказал Николай Иванович. – Бывает, что встречаешь человека почти с того света. Какой-то перевернутый мир – и не веришь тому.
– Вы послушайте, – как-то встрепенулся весь Антон. – Я хочу вам рассказать о сегодняшней истории, приключившейся со мной. Это не могу расценить как-то однозначно, определенно.
Ездил я сегодня на «Пушкинскую» (станция метро) за набранными текстами, встречался с милой девушкой.
– Еще много Вам писать-дописывать? – справился Николай Иванович. – Жена сказала, что уже печатала Вам чистый третий том.
– Все: кончаю, хватит плутать и путать всех. И вот продолжу: там, на переходе, ведущему к поезду моему, что идет в моем направлении, стоит через силу точно беременная девушка, она просит подаяние. Бросил взгляд на нее на ходу – вернулся на пару шагов, достал сотню из кармана, отдал ей. До сих пор не ношу кошельков. Ну, доехал затем до «Гражданского проспекта» (станция метро). Сразу перешел на проспект Просвещения, зашел в шатер-магазин.
– Здравствуйте! – говорю с ходу уже знакомой молодой продавщице. – Мне вот этого или этого, – показываю, – творога, какой из них лучше, – грамм четыреста.
И вдруг справа от меня возникла молоденькая девица и почти одновременно со мной сует продавщице сотенную и быстро говорит ей:
– Вот я добавляю это – взвесьте дедушке побольше.
Хотел я заартачиться, ответить ей: да какой я дедушка! Еще чуть ли не летаю… Оглянулся – а ее уже и след простыл. Мигом она растворилась. Как видение какое.
– Ну, надо же – какие девушки-молодцы! – Только и сказала продавщица. – А Вас давно не было.
– Да-да.
Для меня и мой роман, недописанный еще, как-то сразу потускнел.
– Да это чистая фантасмагория! – определил Анатолий Павлович. – Вроде б вещий сон. Пробуждение.
– Позволь, шурин, я и не спал никогда. Мне не от чего пробуждаться.
– Ну, тогда это дополнение к твоему роману, целая страничка.
– Мне снятся периодически какие-то заросли, я шастаю по ним, примеряюсь и выбираю, что лучше; там-то, впрочем, встречаюсь и разговариваю с друзьями, давно почившими, – самым нормальным образом. А однажды покойная мать с дивой ко мне спешила – по длинной межэтажной лестнице – в каком-то запущенном строении. Здесь были люди, как в спектакле на сцене. И я, не обращая на них никакого внимания, прокричал ей:
– Нет, нет, мама, не подходи; уходи, пожалуйста! – помнил, что встреча с покойной – скверный знак для живущего.
Мать с дивой послушались, развернулись и ушли. После этого она перестала мне сниться совсем. Видно, обиделась.
– О, занятно очень, – сказал Анатолий, – игра мозга.
– А на днях, – продолжал Антон, – свои пейзажи публике представлял. Так одна активная старушка в упор спросила у меня: «Антон Васильевич, Вы узнаете меня?» Я стыдливо признался ей: «Нет, никак, извините». «Я – Оля, – назвалась она, – работала в Вашем отделе техредом. И потом всем говорила, какой хороший у меня был мой первый начальник». И было немудрено-таки не узнать ее: ведь прошло с тех пор – после шестьдесят первого – пятьдесят четыре года!
– Как раз мой возраст! – вставил Николай Иванович. – Кажущаяся целая вечность.
– Также предвижу и новые какие-то встречи. Ведь мы столько рядом друг с другом ходим.
– Вот и я говорю: насколько же тесен мир! Мы качаемся на волнах. И есть несовместимости многих умов.
Антон считал, однако, идеальной совместимость человеческого организма и природы, словно кто-то загодя приготовил для жизни планету Земля, вращающейся в системной разумности Вселенной; она, верно, несет живые нервные клетки, и человеческий мозг тоже способен улавливать посланный ему сигнал – подсказку; так что человек, одаренный слухом и настроем, может услышать и понять его посыл. Значит, способен найти эту тонкую духовную связь с иномиром, быть его союзником – истолкователем по существу. Иного и не может быть по разумению.
Только как истолковать предостережения о том, что может быть? Очевидно, что природные катаклизмы уже как-то точно продублированы в системной известности вперед на сотни лет, как в атомном котле, тогда как человечество все тусуется бездумно и бездарно, погрязши в войнах и разборках? И в капризах вождей и рвачей?
Мозг податлив в воплощении.
Дар – держать эту тонкую духовную связь Вселенскую, научиться чувствовать и распознавать ее тайные сигналы-токи, ее подсказки; они могут быть в ладу с позитивным настроем души, вести ее осмысленно, духовно; а отступление в своих обязательствах душевных вселяет в нас жизненный дискомфорт, неуверенность в свои способности, творит моральные потери, кризис. Счастья нет и не дождешься.
Приложи ухо к пульсу Вселенной. Когда веришь судьбе – его услышишь непременно. Ей служит невидимая соразмерность пространства и времени. Соразмерность в природе всюду рассыпана.
XIX
Тонко прозвинькнули нетерпеливые звонки домофона.
– О-о, вот и мои! – И Антон шагнул к входной двери. – Открою.
Вскоре светлонарядная в предосенье Люба вихрем вошла в раскрытую квартиру, таща за собой синий груженый чемодан на бренчащих колесиках, а за нею павой явилась и яркая Даша, дочь, обе загорелые шоколадно, довольные, но страждущие действовать немедленно; они только что приехали на такси из аэропорта Пулково, прилетев с Мальдив, где отдыхали две недели. И только они чмокнулись с Антоном, здороваясь, как заспешили к нему с вопросом:
– Что, санкции Запад ввел? Да?
– Да, набрюсселили нам санкций бисер, – так скаламбурил Антон.
– Ладно, не занимай нас такой ерундой. Есть что поважней. – Люба взглянула на свои наручные часы. – Есть еще минутка. Лена не звонила? Нет? – И сразу потянулась к телефону городскому, стоявшему на старой родительской этажерке, что приткнулась в конце коридора, у дверей. – Звоню, пока ее застану на работе… Наша турфирма сегодня развалилась, горят деньги у нас. По мобильнику увидели… – И, дозвонившись сразу, стала горячечно разговаривать с еще работающей знакомой, заблаговременно купившей ей и себе путевки на осень в Грецию. Потом, переговорив с Леной и успокоив ту, добавила: – Ну, может быть, семьдесят процентов стоимости выцарапаю. Рано утром поеду на Невский… У тебя обед есть? Поешь без меня… – командовала она Антону, и он говорил:
– Сегодня показали тамошнюю очередь пострадавших – по нашему каналу. Жуть! Некоторые и с вещами уже стояли. Объяснили: дескать, продажа путевок резко сократилась – оттого прогар… Естественно: это же стиль пресловутой обираловки «МММ»: поступления денег – плата за новые турпутевки подпирают прежние суммы… А контроля за деньгами нет… Частники как хотят, так и вертят…
– Это кто-то по-крупному подставил турфирму. Не просто случайность. Контингент отдыхающих непостоянен, не то, что на Западе; система не отработана – молодая, не устоявшаяся. Все – поэтому. – И Люба испуганно всполошилась вдруг: – Что, у нас еще кто-то есть? О-о, здравствуйте, мальчики!… А я расчирикалась… Я сейчас, сейчас… А ты, Антон, хорош! И молчит! И брат мой зачем-то пожаловал к нам…
– Знаешь, я в пролете полном: вспомнить не могу, зачем я здесь? – немедля признался Анатолий, заспешил. – Вроде бы мы собирались поехать на кладбище к родителям и жене моей…
– Так ты был там? – спросила Люба.
– Нет. – Ответил Анатолий.
– Здравствуй! Вспомнил спустя две недели. Ну, только я одна туда и езжу, убираю там… После меня никому не нужно будет… Особенно молодым, раскрепощенным родственничкам…
– Как же: детки в Донбасс наяриваются, чтобы помочь там жителям спастись от ублюдков-нацистов, – разъяснил Антон.
– Кто?
– Сократ его, внук, – сообщил Антон готовно.
– Что, всерьез? Ну, безбашенный парень. Конечно же: ему, мужику, проще и приятнее, видно, играть в войну, чем заниматься скучной черной работой. – И протиснувшись на кухню и осмотревшись критически, решила: – А чего-й-то мы тут толчемся? Айда в Антонову комнату – за большой стол. У тебя там прибрано?
– Не очень. Но – приберем! Идем!
– Меня только смущает то, что не все восточники-славяне на Украине запротестовали дружно: наблюдается разброд, – делилась сомнением Люба, пока все уже устраивались в комнате за столом с закусками. – И все спускается на тормоза.
– Очевидные преступления бандеровцев сходят с рук, – поддержал Анатолий. – Раз не весь Восток украинский поднялся. Смирился со своей судьбой, не поддержал восставших. Ни Харьков, ни Днепропетровск.
– Родители Сергея, мужа Нади Таниной, моей москвички, там живут, – сообщил Антон. – С ним и детьми она нередко летом наезжала туда, они лакомились фруктами – продуктами. Они-то там начальствовали даже. Я вел с ними диспуты о том, что хорошо, что плохо.
– С тобой станется! – отпасовала Люба. – Позвони, узнай, что с ними…
– Все выживают и держатся особятинкой. Хотя маются, и нуждается в поддержке, – резюмировал и Николай Иванович. – Но – выжидают. Не идут в открытый бой. Вон Одесса – такой геноцид был: сожжение людей! На глазах всего мира. А оттуда не раздалось ни слова осуждения, протеста – ничего! Не хватает смелости на это.
– Да, восхищений нет перед их эстрадой, – уточнил Антон. – Ничто! Нужно мир спасать! Ну, вот хоть в этом вопросе мы сблизились – едины в понятии добра. И как близки все же наши межгалактические семейные отношения!
– Ты не обольщайся, Кашин, однако! – заявила Люба, играя в оппозицию к нему, хотя он ни в чем не докучал ей.
Это она кипятилась иногда не в меру, боевая на словах, геройская такая, победительница – уф!
Зазвонивший телефон сорвал Любу с места:
– Должно, Ленка опять терзается… Скажу, что попозже перезвоню ей. А это тебя, Кашин. Твоя Таня, москвичка… Какая-то возбужденная…
– Антон, мы узнали… Это молодцы Илья и Сергей… в интернете выловили фамилию нашего отца погибшего… – услыхал он в телефонной трубке срывающийся голос сестры, хотя она не могла отца помнить: ей было три года, когда его отправили на фронт. – В учетных списках значится, что он погиб под Ленинградом. Конкретно: у станции Погостье. Двенадцатого октября сорок первого года. Имеются большие списки с перечислением имен погибших бойцов, как пропавших без вести, и не сказано о их захоронении. Наверное, надо ехать туда и там хлопотать, чтобы его фамилию тоже занести в списки погибших на кладбище. Ты можешь это разузнать и сделать? Мои ребята – сфоткали с компьютера списки нужные, и я по почте вышлю тебе. Ты уж займись этим.
– Конечно, конечно, – заверил Антон. И подивился такому совпадению: надо же! Это как проведение – он впервые услышал весной в Стрельне от напарника по санаторию о станции Погостье и о том, что там рядом, в Новой Малуксе, есть военное захоронение. И вот будет там финал, который нужно довести до конца: внести фамилию отца в списки захороненных. И если удастся, взять землицы, чтобы отвезти ее на могилы матери и сестры, находящиеся в Подмосковье, и еще во Ржев, где – на разных кладбищах похоронены старший и младший братья. Вот и дождались!
– Что? – спросила Люба.
– Мои племянники по интернету нашли место и время гибели нашего отца. Под Ленинградом, – сказал Антон.
– Ну, наконец-то! Проблеск! Рада за вас!
XX
Антон только что побывал у них, дюжины своих родственников с московской закваской – дачников заядлых, хлопочущих о хозяйстве одержимо (каждый норовист), но славно сдружившихся друг с другом – на радость и славу всем. «Подобно и маминым сестрам. – Подумалось ему. – Это я отчуждился малость… зачумленный живописец-летописец… Каюсь… И ведь тесть мой потерпел фиаско, пытаясь убежать от жизни, от забот… Видишь ли, его никто в городе (он писал) так не любил, как в Грибулях – селе, где он родился. Зато Любина порядочность (она, Люба, в чем-то не нашла себя) и мне помогла быть лучше и еще любить… даже от противного исходя… Я еще не встретил лучшую женщину, чем она»…
Дочь Даша оформила отцу электронный авиабилет из Петербурга в Москву бесплатно: за мили (баллы), налетанные ею в Аэрофлоте. Он, впервые попав в новое Шереметьево, поразился его распростертости и нескочаемым переходам; с дорожной синей сумкой в руке он шагал и шагал куда-то влево по помещениям, чтобы затем сесть в экспресс и доехать до памятного ему Белорусского вокзала, а отсюда уже в метро по кольцевой ветке попасть на восточный край столицы. Он привычно на ходу, сунув руку в карман безрукавки, достал две десятирублевые монетки и, поздоровавшись с киоскершей, купил газету «Известия» – из-за странички «Мнения».
– Скажите: я верно иду к электричке? – Уточнил он, стараясь скрыть усталость от добрых глаз девушки. – И далеко ль она?
– Да, Вам осталось еще поменьше пройти. – Улыбнулась та его возрасту.
Что отчасти развеселило его: «Ну, юмор какой! Есть что-то устойчивое в нашенской цивилизации»…
В метро на кольцевой ему пришлось поменять маршрут: из-за ремонта закрылся вход на прямую линию; однако он поехал по другой, благо еще по старинке ориентировался в чудопереплетениях этих линий. Вскорости добрался до автовокзала и, огибая справа его, вышел на остановки. На одной из них вместе с женщиной дождался рейсового автобуса. И так приехал сюда, в сладкое Мизиново, на дачу сестры Тани Утехиной. Вышло: он полдня добирался до волшебных мест в Подмосковье!
И первым его встретил пес Мухтар: узнал его после трех-то лет! Зарадовался, запрыгал вокруг!
Разноликий чудный лес с торфяным озером, бегущие взгорки, поляны и поля колхозные, живописно петлявшая речка Воря прелестно окружали дома села Мизиново. Здесь Антон недавно почти ежелетно гостил у Тани, пополняя, не переставая, свои натурные эскизы, набирался красочных впечатлений; частенько они с товарищески дружелюбным Костей на «Волге» и с Мухтаром объезжали окрестности – Антон делал интересные зарисовки. И, конечно же, между дел частенько хаживали в лес, что существовал рядом, по грибы. Антон каждый раз угадывал появиться у Утехиных под осенние опята – тогда, когда дача опустевала от малышни. Особой собирательницей грибов была, разумеется, Таня; она очень навострилась в сборе их, словно у нее было особое чутье на них. Все часто проходили мимо боровиков, а она, идя сзади, видела и находила их. Собирала десятками.
В сезон опята словно светились, увешивая стволы старых берез и других деревьев, упавших, и пни. Так что, бывало, их собирали много, очищали, перебирали и отмывали родниковой водой прямо у ручья; Таня их отваривала, сливала воду, потом продолжала варить, засаливала – все по правилам – по весу. И Антон уже законсервированные ею грибы отвозил домой, в Ленинград. Ему вместе со своими зарисовками было что вспомнить. И тепло и уют любящих Утехиных – всех. Гостили здесь и Люба с Дашей, лечившей вороненка с пораненным крылом. Они купались в озерах и речке.
И Утехины наезжали в Ленинград к Кашиным. Надя зимой, дрожа от холода, зарисовывала виды в Петропавловке, у Монетного Двора, в Невской лавре, львов у Дворцового моста.
Мухтар, умный рыже-коричневый пес еще спящих хозяев подмосковной дачи, вне себя от радости, от того, что Антон открыл дверь террасы и вышел: он, бросив теплую постель на крыльце, уже ждет его, юлит, прыгает вокруг и ставит лапы ему на грудь – значит, просит выпустить по нужде за калитку усадьбы, отцепить от проволоки.
Туманно. Август на исходе.
Солнце желтоватым кругом, как бледная луна, с ореолом, висит в туманной пелене над мокрыми черными крышами, яблонями, потонувшей в кустах изгородью их колышек, бело-белесым парником. Все, унизанное капельками, блестит, словно алмазное: козырьки крыш, вяз, кусты малины, смороды, крыжовника, хмеля, гороха, скамейка, кустики земляники, трава; чистые капельки, стекая с кончиков листьев, падают вниз, отчего и вздрагивают другие листья и трава.