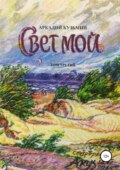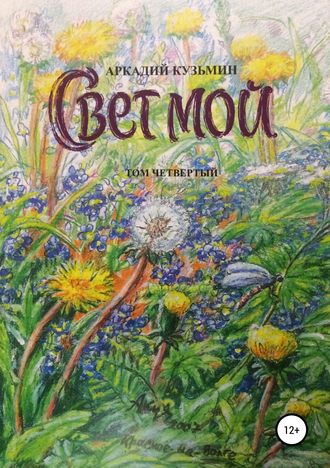
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 4
Что: причина всего – ее возможная строптивость? Неподатливость?
Она волновалась не напрасно.
Потому как директор Овчаренко тут никаких мер не принимал, держался, что всегда, как сторонний наблюдатель, только не руководитель коллектива, могущий навести порядок. Удручало то, что собралась какая-то решительная комиссия из кого-то; они якобы сочинили пасквиль в райком партии, а часть – и наибольшая – сотрудников написала письмо в защиту Нины от нападок.
И все-таки Антон видел решение вопроса в ее обращении в Смольный.
– Ты, Нина Вадимовна, ничего не теряешь. Защищаешь свою репутацию. Если в Обкоме меня захотят выслушать, – я готов. И Вам полезно появиться там, увидеть новый горизонт. И Вас должны увидеть.
Вольнодумный искусствовед Глеб Перепусков, моложавый мужчина с русой бородой и длинными патлами, декламировал на ходу (будто сам с собой вел диалог на сцене):
– О, мучительная сладость познания и постижения мира, необъятность его границ, которые открываются все дальше и дальше не только с твоим проникновением в него, но и благословенным прикосновением к нему.
Он был с неординарным мышлением, но поступал явно обыденно, стандартно в стандартных же ситуациях.
Антон встал с дивана и с рукопожатием встретил его:
– Вы, Глеб, в какую-то актерскую роль вживаетесь?
– Помилуйте! – сказал Глеб. – Пока не сумасшествую. А Вы с какой ролью к нам пожаловали, если не секрет?
– Упростить влияние ее. Попробовать…
– Мои сочувствия Вам! У нас Сталин играл на упрощение во всем.
– Ну, скорее – на укрощение строптивых…
– Потому и был, считаю, культ его. Лишь в трудные дни военные он обратился к нации с проникновенными словами: «Братья и сестры!» А сейчас новый культ внедряется в сознание народа: идет повсеместно упрощение театра, прозы, лирики. Место живописи занимает авангард. Запеть от скуки можно. Что не возбраняется.
Глеб Перепусков держался и вел себя со всеми независимо, как признанный мэтр и – что входило в моду – либеральный знаток современной живописи (ведь новому малому ребенку отдается больше любви и внимания), и Глеб, надо полагать, с этой точки зрения, и дружил соответствующе с теми, кто его подпитывал в этом познании и кто хотел с ним соглашаться так же понимать и дружить. Все естественно. Но Антон был и для себя самого непонятного закваса, он дружил с людьми по их человеческим качествам и интересам; он был лоялен Глебу, которого, например, Махалов очень уважал и ценил, как знатока искусства, но не сдружался близко из-за его недостаточной теплоты и терпимости к людям. Глеб даже не сказал ничего одобрительного о Нечаевой в ее поддержку, зная наверняка о причине прихода сюда Антона. Чем показывал себя здесь как бы сторонним наблюдателем.
Однажды тут произошла трагедия, косвенно связанная с неосознанным восприятием новых веяний в искусстве. На художественном совете москвичка Скульская Кира Альбертовна (она отсидела несколько лет в советских лагерях) стала корить Перепускова за то, что тот очень вольно на секретариате Союза Художников выступил против общего важного мнения. И кто-то еще ее поддержал. И вот кадровик Семен Павлович Костыльков, полковник в отставке, выбранный и секретарем парторганизации, ортодоксальный партиец, не знающий издательской специфики, но любивший приказывать всем и всех учить, вдруг взвился и стал ругать творческих работников. Прямо-таки отчитывать. Это позор, что нет дисциплины в издательстве и что редакторы ведут себя так политически незрело.
Печально то, что сразу после выступления Павлу Семеновичу стало худо. Он побелел, потом стал багроветь. С ним случился инфаркт. Он умер, не успев даже попрощаться. На шестидесятом году.
Нет, не безопасны неосмысленные профессии.
Странно: и тогда Кашин относился к Перепускову, к его интересам, как к чему-то потусторонне-узкоколейному, единичному, избранному им; скорее тут сам Кашин представлял, видно, для Перепускова как бы цеховый интерес, как пишущий собрат, уже заглазно повенчанный с сообществом мыслящих людей.
IV
Не случайно Глеб сейчас же поинтересовался у Антона, удалось ли ему преуспеть в жанре прозы. На что Антон откровенно сказал:
– И да, и нет. Как у всех. Я ведь бесфамильный нераскрученный тип, притом не дисседенствую. Выгоды никому не приношу. А живописный товар раз отнес (ради любопытства) на комиссию сезонной выставки (что на улице Герцена) – несколько масляных пейзажей без рамок, валявшихся у меня, представил на суд мастерам, сидящим за серым сукном стола. И не успел я отсторониться от своих работ, как перезаслуженный гривастый художник с крупным породистым лицом (я его не знал, не знаю и знать не хочу) буквально взрычал по-хрущевски. В исступлении от моего негодства. И члены комиссии, мастеровые художники молчали перед этим срамом, опустив долу очи, поджав хвосты.
– Может, возьмем хоть вот этот пейзаж сестрорецкий? – подал голос тишайший маринист Т. (Мне пришлось его буклет макетировать).
– Нет! Уберите все это! – грозно прорычал Лев из-за стола, махая лапами.
А мы-то, Глеб, все ссылаемся на то, что один Сталин во всем виноват, что случилось в нашем веке; мол, он один нам мешал двигаться вперед, губил многие таланты. И ведь мы сразу же ударились в другую крайность. Околомузейные кликуши вознесли до небес забытый примитивный «Черный квадрат», подняли на всю страну писк и визг. И что? Совершенство, равное шедеврам Рублева, Тициана? Как бы не так. Смутьянство небывалое! Какое-то тут двоемыслие.
– Ну, видишь ли, провозгласить для себя, что это то, что надо, и думать то, что и весь мир так думает, – заблуждение глубокое, – сказал Глеб.
– И опасное, считаю, – подтвердил Антон. – Но говорят: что если это вас не трогает, – пройдите стороной… Не мучайтесь душой…
– Ага, не мешать развитию фантазии, – вклинился тут редактор Блинер, человек в годах, опытный и знающий, любящий сказать в компании что-нибудь интересное, новое. Так было и теперь. Он сказал тут же: – На то, что лучше, имею почти анекдотический сюжет. На Мойке, в правлении Художников, по винтовой лестнице цокает наверх чопорная плоская молодица в черной кисее. За ней – грузин пыхтит, восхищенно говорит ей в спину: «Ай, хорош!» А следом подымается и обгоняет его другая дама, толстуха пышная. И слышу: «Ой, тоже хорош!» – грузин произносит.
Мимо проходящий в это время директор Овчаренко, поздоровавшись и пожав руку Кашину, позвал его:
– Ты зайди, зайди ко мне.
– Зайду к тебе непременно после, как переговорю с людьми, – ответил Антон сухо. – Затем и приехал.
– Какие-то были слова у меня, какие-то мысли заковыристые, – говорила на ходу для себя, ни к кому не обращаясь, искусствовед-писательница и редактор Нелли Званная, входя в открытую комнату, как матрос, вразвалочку, жеманясь в тоже время и протягивая руку к коробку со спичками, лежащему на столе и нашаривая пачку сигарет. Она писала очень талантливые эссе о художниках, частенько тренькала от скуки на гитаре и напевала расхожие куплеты. – Все подрастеряла, пока шла. Вчера я, – обращалась она к Перепускову, – легко от Вас отделалась, нет, вернее, это Вы отделались от меня, быстренько ускользнули. Так и от общения отвыкнешь. А-а, пустые слова! Ну, ладно. Визит вежливости или дружбы я нанесла – и пошла к себе. Я удалилась. А Вы, Антон Васильевич, пожалуйте… – Антон полагал, что она так артистичничала именно перед ним.
И Перепусков уже не обращал на нее никакого внимания.
Полнолицый седеющий Васькин в бежевой бобочке с довольным видом встретил вошедшего в комнату Кашина. Приветливо встал из-за стола, подал руку. Как нормальный и нормально воспринимающий все мужик, делающий свое нужное дело. Он был с пасхальным выражением на лице. Сказал:
– Привет. Как служится?
– Свободным образом. Не ропщу, не каюсь.
– Ну, главное, чтобы бабки шли.
– От себя самого зависишь. Как потопаешь, так и полопаешь.
– Так что, выходит, ты в выигрышном положении по сравнению со мной? – боднулся Васькин.
– А я, Николай, всегда был и буду в выигрыше при сравнении с кем-либо, как трудоголик, особист в жизни. Я не гнался за властью, за положением в обществе, нес ответственность за людей. Меня, как замдиректора, здесь норовили щипать несравненно больше, чем щипают теперь тебя; но я никогда (как беспартийный) не поступался честностью, принципами и не боялся потерять лицо, место и прочие достоинства. И сейчас веду себя также ответственно, не опрометчиво. Не себя ведь защищаю, а чье-то достоинство.
– А я? Я разве без принципов живу, работаю? – Пасхальное выражение с его лица исчезло.
– Ты? Не знаю, Николай. Однако вижу и скажу откровенно, что нахватал себе многовато власти – прямо фараон: замдиректора, секретарь парторганизации, председатель аттестационной комиссии и что-то еще – кого хочешь можешь согнуть в бараний рог…
– Ну, я пользуюсь властью аккуратно…
– Ею вообще не следует пользоваться, особенно во вред подчиненным.
– Что ж, по-твоему, и приструнить никого нельзя? Если нерадив…
– Разве во власти дело? Ты конфликт не можешь разрешить, усугубляешь его. И с кем? Со своей помощницей.
– Я не признаю ее помощницей, извини.
– Ты никчемушные усилия свои тратишь не на пользу дела…
– Да я … – Николай употребил мат. – Говорил ей, дубовой: что если она не поймет, то мы не аттестуем ее в апреле, а я есть и буду против нее, то она вылетит вон. Она бы о своих дочках подумала.
– Вот-вот! У тебя заранее все решено… На мстительном заквасе, коли невзлюбил. А если наоборот: не ты, а она не может с тобой сработаться?
– Да кто она? Диспетчером служила. И Георгиевна о ней не очень лестно отзывается.
– Ну, тащи все в кучу. А если девчонки не выполняют ее распоряжений? Хамят?
– Она сама виновата. Я не могу их одернуть. Надо было найти с ними общий язык. Не фордыбачничать. Ты же умей и защищаться. А то пык-мык… б… – опять Николай выругался. – И все… Туши свет! А мне – что ж – их преследовать?
– Да можно словом очень быстро навести порядок. И мосты.
– Нет уж. Они ее встретили обструкцией. Знаешь, как японцы. Выполняют что-то от сих до сих, и все.
– То японцы. А ведь у них и зарплата не маленькая, чтобы сидеть и книги почитывать спокойно.
– Ну, когда у них время остается полчаса, чтобы собраться домой. А она грубо им замечание делает. Тогда и они… не считаются…
– Но это же неуд вашей партийной работе, всей администрации, что половина сотрудников написали петицию в ее пользу. А она всего полтора года работает здесь. Я скажу: за меня бы столько не написали. И за тебя тоже, уверен.
– Ну, если собрать собрание, то все испугаются и будут голосовать против нее.
– А ты не суди раньше времени, возьми и собери всех открыто, гласно. Ведь нынче не то время, чтобы надевать узду на каждого, заниматься расследованием, кто зачинщик письма. Уверен, не она сама.
– Да она тут игрушка. Хотят ее, свести с ней счеты. А ее потом бросят… и не понимает она этого своим недалеким бабьим умом. А жаль…
– Вы же предъявляете претензии к ней не за ее плохую работу. Она же не отлынивает.
– Да что ты печешься о ней, словно о любовнице своей?
– Вот-вот, у вас, неуемных сердцеедов, одно на уме: что-то гаденькое. Да не сплю я с ней, как вы спите с чужими женами, успокойтесь!
Всего Васькина тут передернуло.
Итак, Антон переговорил с теми, с кем хотел, составил свое мнение; он провел, как расследование, только в иной форме, и не ошибся в своем первоначальном предположении.
V
– Ну, какое впечатление? – спросил Овчаренко, только он зашел в кабинет к нему и опустился на стул, стоявший перед столом. – Что, ужасное?
– Не то слово, – сказал Антон прямо. – Запустили вы все. Эту опухоль. Пропустили момент для операции. Народ заявление написал – это неуд администрации. ЧП. После этого кому-то нужно уходить в отставку. Кому?
– Видимо, Нине Вадимовне? – спросил директор.
– Почему же ей, а не Николаю Петровичу, возмутителю спокойствия? – отрезал Антон, не смущаясь.
– Ну, ты скажешь еще!… – вспыхнул, возмутившись, Овчаренко.
В эту минуту в кабинет зашел без стука Васькин. Сел в кресло без приглашения.
– Да он, Николай Петрович, уже столько лет здесь работает, – продолжал Овчаренко. – И в отделе кто десять, кто семь лет отработал – и что ж: им уходить потому, что не сработались с Нечаевой?
– Но ведь в ее защиту люди пишут заявления. Непросто все, – сказал Антон. – Никто их не сбивает, не подначивает, не настраивает. Она не агитирует, ей некогда.
– Да Нина Вадимовна, конечно, по-твоему ангел… – заговорил Васькин. – А эта Мальвина… – матерно выругался он, – ее сбивает.
– Какая Мальвина? – удивился Овчаренко.
– Ну эта… Прохорова… Раздуется, покраснеет от злобы…
– Впервые слышу…
– А эта кривоногая дура?..
– Это кто еще?
– Да Потапова… Гений человечества… Они слапшились.
Но это было уже совсем мерзко так говорить о сотрудницах. Антон не отличался таким развязным красноречием, даваемым сотрудницам за глаза. В его бытность такого не было. Все же уважительней разговаривали, кличек не давали. Впервые пришлось услышать прозвища в устах Васькина, которому тоже дали кличку. Как говорится, клин клином.
Нет, не обладал Антон подобным красноречием, не говорил так убедительно по-мужски.
Огорчительно было то, что недруги обвиняли ее в командном стиле руководства отделом.
– Вот ты говоришь, что Николай Петрович, в издательстве работает много лет, – сказал Антон директору. – А я недавно был на первой офсетной, и технологи стали рассказывать мне, какие издательские работы у них в каком состоянии. Я рассмеялся и сказал им: «Не трудитесь: ведь я уже давно не работаю там. Я по другим делам приехал. Ваш компаньон – Николай Петрович Васькин». «Неужели так?» – удивились технологи.
– Чушь какая-то, недоразумение! – Объявил Васькин. – Вранье. Я бываю там по необходимости.
– Так для вас все вранье, что не вами сказано.
– Успокойся, мы все постараемся исправить и сделать лучше. – Сказал Овчаренко.
– Да уж не старайся ты для меня, только для себя; в тебе ведь сидит украинская закваска: пусть кто-то что-то сделает за меня, а мне неохота ничего делать; проживу и так, спасибо не скажу. При моем увольнении ты что сказал на секретариате Союза Художников, когда у тебя спросили прямо, почему Кашин уволился?
– Про то не помню, – зачастил Овчаренко. – Сказал, кажется, что ты переходишь на другую работу.
– Неправда. Ты сказал, что Кашин не справился с работой. Мне-то сообщили об этом. А сам три месяца оттягивал мой уход, умолял меня еще поработать и не искал мне замену… В общем, вы друг друга стоите… Сожалею, что впутал сюда Нину Вадимовну… И коли уже дело далеко зашло – распалили вы себя напраслиной, отступать вам тошно, так не просто отпустите человека (она сама не станет с вами работать – вы не сахар), так устройте ее по-человечески на подобную работу в другой коллектив, где ей будет спокойнее работаться.
– Не думаю, что мы в чем-то виноваты перед ней, – сказал Николай.
– Приглашая тебя, Николай, на должность, я не темнил – заверял, что в отделе все выпускающие умеют самостоятельно работать – и так и было; производственный процесс отлажен, только никого ты не дергай, не обижай попусту; девчонки и тебе помогут, введут в коллективное дело, не тушуйся – все получится. А теперь ты, извини, заевшись, не хочешь из-за какого-то бзика помочь своей заместительнице найти общий тон в своем разлаженном хоре, хотя это твоя прямая обязанность помочь. Мне скучно слышать жалкие объяснения – увертки. Не мужские. У тебя же, партсекретаря, ведь должно быть больше обязательств перед людьми, чем у меня, беспартийного, а ты вот баламутишь людей, и мне приходится приезжать на их защиту и урезонивать тебя. Получил, так сказать щелчок от тебя за то, что пожалел некогда тебя, обиженного партией.
– Причем здесь это? – схмурился Николай. – Я не могу с ней сработаться. И все недовольны.
– Ты только теперь уяснил подобное?
– Уж, извини, приперло.
– Да, болячка для тебя. И сковырнуть нельзя. Она – член партии. Надуманное что-то. Как у нашей дочери в классе недоразумение. Она круглая отличница, не безобразничает. Но классная делает ей замечания и снижает оценки за поведение – необъяснимое. Видите ли, ей не нравится, как в перемену дочь ест как-то не так, как ей кажется, яблоко. Вздор!
И еще, увлекшись, уже встав со стула, досказал (о, слабость человеческая, как у всех проповедниках!):
– Тут то какие-то великие мастера-книжники работают, возносятся ввысь благостно, то партийные боссы стараются всех непокорных согнуть в бараний рог. Разве это позволительно? Я и прежде здесь на партсобраниях говорил, что не я, беспартийный, должен вас учить уважению других; и сейчас то же самое вам говорю, а вы все ершитесь: один кипятится, другой – хочет полюбовно сладить в разговоре. Только зритель-то не верит в этот спектакль срежиссированный. С кадрами нужно с уважением работать, если нужно – учить, если знаете, чему учить. Не знаете – нужно уступить трибуну другим.
Могу ведь подать голос в защиту Немцовой и как журналист.
Его оппоненты при этих его словах как-то передернулись.
Когда он вышел из кабинета, чернявая Жанна, корректор, произнесла перед ним:
– Спасибо!
Он понял все: она подслушала его разговор у директора, находясь на лестничной площадке. Там слышимость была отличная из-за тонкой стены, устроенной вместо двери, которая прежде с площадки вела прямо в кабинет.
VI
Всего хуже – упасть в собственных глазах. В переносном смысле.
А физически Антон уж падал прямо ничком на асфальт, заснеженно-льдистый, оступившись, видно, оттого, что вдруг сорвался – заспешил по обыкновению – и столь опрометчиво не по возрасту. Как некстати!
Тут как нечто шальное толкнуло его. Он только что вышел из дворового ущелья, обходил слева утес торцового краснокирпичного домища (там, на парадной, еще тренькал домофон) и вот увидал сквозь кисею крапавших снежинок (был февраль) то, что сдвоенный белый автобус, нужный ему, уже подкатывал к той потусторонней остановке. Надо к нему успеть! Ну, и он-то, Антон, естественно, помчался прямиком туда, надеясь попасть в салон подъезжавшего автобуса. Однако неожиданно, скакнув через сугроб, белевший между легковушек, понатыканных поперек тротуара, он словно попал в какой-то земляной провал или углубление – под ногой уже не ощутил никакой твердой опоры; оттого мгновенно, потеряв равновесие, плюхнулся наземь, на мокро-грязную мостовую. Та очень стремительно налетела на него, грубая, холодная; он больней всего ударился об нее коленями и руками, бывших, к счастью в кожаных перчатках, смягчивших удар.
Антон несомненно тем самым – что успел инстинктивно выставить перед собой ладони рук и так оперся на них – тем самым уберег от удара грудь и лицо.
Он, оглушенный случившимся, разом-таки поднялся, точно ванька-встанька. Отряхнул куртку, брюки от стекавшей с одежды грязной воды со снегом и затем все-таки сумел перебежать дорогу между несущихся машин и, обежав затем сзади автобус, сесть в его салон (водитель, верно, видел его падение и потому нарочно подождал его). Дверцы автобуса и тотчас же захлопнулись за ним. Уф! Вот как осрамился великовозрастный стайер!
«Видано ли дело – суетиться сейчас? Зачем? Да, это – суетности дань. Всеобычность нашей жизни, путаной, шершавой, с ее ненормальной нормальностью; ты живешь, не зная, где взовьешься, а где упадешь, – по инерции, – подумалось ему. – Нелепо. Видимо, еще не долечился».
А ведь он, Антон, опасно рисковал, прошмыгнув меж автомашин, оголтело несшихся здесь, по шоссе, на красный свет семафора, точно главное для их водителей состояло в том, чтобы не пропустить пешеходов, даже давануть кого-нибудь из них, зазевавшихся, дабы опередить всех.
«Скверно! Совсем скверно, прыгун! – Антон, чуть отдышавшись, однако покамест не сел на пустое место, не обнажил из-под штанины левую лодыжку для того, чтобы взглянуть на верно полученную ссадину (она саднила, но явно не смертельно) – Потом… Потом взгляну… Да куда же и зачем же, спрашивается, мы-то, старичье, все еще несемся вслед за молодыми? Все – оттого, что не заработали за всю жизнь на нее, а не только на детей и внуков? Ох-хо-хо-хохонюшки! – И уж зачувствовал ангельского вида старушке – билетерше, что подошла с проверкой проездных карточек: – Похоже, она тоже подрабатывает, бедная, хоть ей и тяжело (весь день на ногах… в толчее), коли у ней, известно, мизерная пенсия. Ведь ей и другим-то многим хуже, тяжелей живется, чем мне».
Антон всегда как бы совестливо примерял, или проверял, меру своего жития в миру. Свое соответствие образу жизни окружающих, что ли. Без публичного разглагольствования и мольбы бесконечной о помощи. Характер его не отличался расторопной пронырливостью или, пусть, пронырливой расторопностью; того он действительно не имел за душой, т.е. не умел делать из чего-нибудь прямую выгоду для себя, а больше следовал в своих поступках каким-то компанейским образом; вот он мог, например, уступить кому-нибудь свое профессиональное место, как уступить дорогу, помочь кому-то в переустройстве, в разрешении трудностей. А главное – был обязательным перед другими во всем.
Это у него, что говорится, первенствовало.
Он привык быть до крайности ответственным и обязательным во всем, привык к точности в исполнении творческих работ и дел, которые продолжали уже другие люди и которые всегда находили его на протяжении более чем полувека или если он сам по себе их находил там, где жил, где бывал, гостил. Почти никогда, за редким исключением, никого не подводил, если его просили о чем-то и он обещал что-то исполнить. Иначе он не мыслил своего существования. Будто кто-то заповедовал ему так поступать. Он не знал, кто именно.
Впрочем, его немало обеспокоила сохранность исполненных им графических листов (он вспомнил о них), – листов, которые он вез с собой в желтом целлофановом пакете; это были очередные оригиналы из серии задуманных литографий знаменитой крепости, куда он ехал теперь для того, чтобы перевести их рисунок в «Печатне» на литографские камни. После нанесения рисунка на камень литографским карандашом и литографской тушью следовало обработать его фиксирующей жидкостью и затем валиком накатывать и печатать нужно составленной краской.
Причем краски наносились на лист бумаги последовательно – после высыхания предыдущей. Листы с краской развешивались для просушки. Процесс старый, отлаженный. И, хотя тираж литографий составлял не более 40-50 экземпляров, печатание их вручную затягивалось. Печатный станок был еще изготовлен при царях, и печатник литографий представлял собой вымирающий класс. При мизерной зарплате работал раз-два в неделю. И то ему должен был помогать кто-то – подкладывать иллюстрационный лист по меткам.
«Скверно, скверно!» – Еще почему-то приговаривал Антон сам себе, не зная, почему.
Желтый пакет отчасти пострадал: немного порвался на боковом шве и нахлебал воды; но рисунки в конверте, и еще находящиеся в пленочном пакете, были в целости, к счастью.
Антон упал и недавно – перед этим – по слабости, находясь на лечении в больнице из-за снижения гемоглобина в крови.
Он, выйдя из сестринской после сделанного ему укола, неловко повернулся и, не удержавшись на ногах (его повело), стал падать. И забавно и стыдно для него было то, что к нему на помощь уж шагнула раньше всех пациентов 93-летняя блондинка, которая, ему сказали, не пользовалась очками даже при чтении книг! Удивительно! Оттого он сильнее устыдился своей немощи, ставшей у него по собственному же недогляду, невниманию к своему здоровью. И это-то лишь усилило в его душе решение: да, поправившись, нужно поскорее завершить (пора!) растянувшееся на долгие годы начатое им послание читателю. Ведь кто-нибудь когда-нибудь его прочтет! Долг платежом красен. Следует лишь композиционно что-то усилить где-то, а где-то уменьшить звучание текста и красок – как в любой картине – с тем, чтобы нравилось и себе, и людям, умеющим все ценить и понимать. Есть на это надежда.
Сначала Антон двое суток (и две ночи) пролежал в коридоре больницы, поскольку не было места в палатах, хотя ему и ставили капельницу и делали уколы дважды в день. Затем его поместили в шестиместную палату, где был умывальник, но без радио и телевизора, на высокую металлическую кровать, стоявшую около окна. В комнате линолеумный пол был изодран. Здесь ежеутренне проводилась влажная уборка. Использовались свои витамины Б-12 и бумага туалетная. И полотенца.
Контингент лечащих врачей и медсестер по характерам, манерам разный; разное отношение к делу, к людям. Но возни со старыми, немощными пациентами много, применение каталок – помощь в их передвижении – частое. Каждого больного навещал свой врач – из молодых, только что выпущенных военных медиков-лейтенантов; они появлялись почти ежедневно врозь, и общение с ними было кратковременное, можно сказать, профессионально-сухое. К этому привыкаешь и не жалуешься ни на что.
Так лучше всего перенести все болячки и несносности жизни.
Ночные звуки в палате разносились разнообразные: кто невообразимо храпел со свистом с перерывами, кто, ерзая в постели, скрипел пружинами кроватей, кто заходился застарелым кашлем, кто разговаривал во сне и ругался. А с утренним пробуждением прибавились новые: у кого уже трезвонил мобильник с будильником, кто-то включил жужжалку-электробритву и начинал бриться, кто-то шумно глотками пил воду прямо из большой бутылки, кто-то проклинал такую жизнь, когда все время давит тяжесть на одно плечо при двустороннем воспалении легких. Медсестры зазывали на процедуры. Кто ворчит:
– Вот закрывать двери – кого научить? Лежи тут – и нюхай туалет!
А иные больные и днем тянут сон: похрапывают, невзирая ни на что.
Включается разговор:
– Я двустороннее воспаление легких схватил – откуда? Спрашивается.
– А у меня зубы повываливались вдруг. Один за другим. почему? Их не чистил? Соляную кислоту пить для желудка когда-то мне врачи прописали…
– Да, откроешь рот – скворечник.
– Какой скворечник? Целая скважина! Вся еда наружу вываливается.
Все при ходьбе шкробают по полу тапками – ног не поднимают.
Есть больные донельзя исхудало-старые, а есть и толстые женщины, что тумбы; есть и женщины игриво ведущие себя, желающие и тут покрасоваться, что ли, на публике, несмотря на возраст.
Общалась пара милых старичков: посетительнице было 83 года, а больному мужу, что лежал в постели, – на 5 лет меньше; она же сама только что отбухала по болезни 9 дней в этой больнице. Она сидела около его кровати и все советовала и напоминала ему, что надобно съесть, что надеть, какие лекарства принять. И слышались их обращения друг к другу: «Папочка, мамочка!» Врач полчаса осматривал, выслушивал его, и она, не умолкая, комментировала без конца; она все помнила: что температура у него за трое суток шагнула к 40 градусам, какие таблетки и когда он пил и заболел; помнила, что он 7 раз лежал везде в больницах, что вырезали у него аппендицит и что рука сломана – срослась негодным образом.
Она, старая, плясала, суетилась вокруг него, а он только протестовал:
– Ты сама посиди – не устала, что ль?
И уходить из палаты она не хотела, говорила-приговаривала:
– Я бы… можно тут останусь с ним на ночь? Правда не знаю, как улягусь в одну кровать.
А на прощание слышались громкие поцелуи в щеки, в голову. Муж на это немного сердился и сопротивлялся.
На другой день обозначилась почти такая же пара стариков: она, как наседка, кудахтала около него, а он лишь капризничал:
– Да я пойду сейчас на улицу. Где мои ботинки?
Она укладывала его на чисто постеленную постель, а он все, порываясь, привставал. И она, уходя, уже от двери, держась за ручку, умоляла:
– Ну, Леша, Леша! Я пошла… Будь умницей… Ой!
А другая жена допрашивала старого инвалида, что был с палочкой:
– Зачем безрукавку надел? Переводят тебя, что ль?
– Нет.
– Так зачем надел? Холодно тебе?
– Нет, тут, в кармане деньги у меня.
– Подумаешь! Они ж не пропадут тут.
– Да я вниз иду. Купить мне кое-что надо. – Уже злился старик.
– Я устала с тобой уже. Пойду! На-а – расческу, причешись!
И всякие житейские истории услышал здесь Антон во время своего вынужденного двухнедельного пребывания. После того, как врач отделения констатировала:
– Ну, значит, СПИДа нет, язвы нет, гепатита нет – будем делать пункцию (дырку в грудной кости). Но кость оказалась очень прочная. У нее сил не хватило, чтобы сразу проткнуть.
И потом на УЗИ – крутили, крутили…
– Печень, кажется, большая…
Когда Антон уходил отсюда, сорокалетний рыболов, мечтавший о рыбалке на Ильмене говорил:
– У кого одышка – хорошо пить барсучий жир. По 100 грамм. И сидеть дома, не выходить на улицу.
– Это что ж: надо поймать барсука – и убить его? – спросил кто-то. – Это же трагедия!
Антон безусловно хотел заменить порвавшийся пакет, купив нужный у торговки с рук возле станции метро, где такой товар продавался; однако ему не повезло: он, выйдя из автобуса, на площадке у газетного киоска почти уткнулся в двух молодцов-милицонеров, державших в осаде тучную торговку при охапке пакетов, которую, вероятно, как опасную особу, собирались сопроводить в ближайшее отделение милиции. За незаконную торговлю. То, что неподалеку автомобилисты сигали на красный свет, их совсем не волновало.
«Ну, дурью маются ребята, – с неодобрением подумалось Антону. – Всем во вред, назло. И мне – сейчас… Поборщики – у маленьких кормушек повыстроились…»
И только он подошел ко входу, как буквально подлетела к нему Маша, новая молодая, даже грациозная, в ореховой куртке, знакомая:
– Антон Васильевич! Здравствуйте! Как я рада видеть Вас!
С ней держалась небесноокая улыбчивая подруга. Это точно ангелы с небес спустились к нему, незаслуженному ничем такого отношения, их глаза счастливые светились молодостью.
И он пропустил их вперед при входе в вестибюль метро.
– Вы куда, Антон Васильевич?
– В центр. Везу рисунки – уже оригиналы – в Петропавловку. Но извините. – Он развел руками перед ними. – Я упал, порвал пакет…
– О-о! Не думайте… У меня есть запасной. Сейчас я дам Вам его. Пожалуйста! – Маша протянула ему пакет с серебристым отливом, запечатанный буковками.
Маша, по сути первооткрывательница, как искусствовед, его особенности живописца, всегда, сколько он знал ее после знакомства, была сама естественность и доброжелательность.
– А Вы куда и откуда? – спросил он.
Это был как дар небес: внезапное появление таких неожиданных бескорыстных молодых друзей. Какая-то новая порода не только ценителей искусства, но и смысла жизни. С ними, Антон чувствовал, и рождались с новыми задатками спасители человеческих отношений. Можно учить этому бескорыстию других.
Отстаивать грешное – грешником станешь.