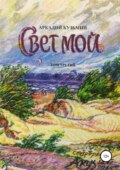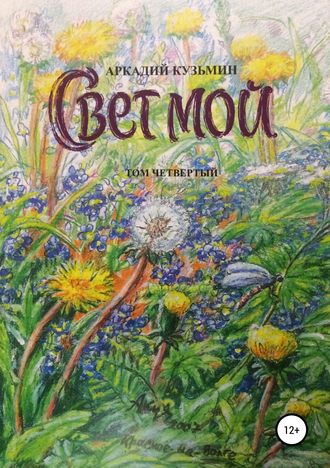
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 4
Антон хоть и обладал, как он считал, некоторым даром юмора и порой подтрунивал над собой, как все люди с аналитическим складом ума, лишь подумал: «И чем таким я привлекаю людей, что все они хотят посоветоваться со мной в чем-то. Вчера вон сорокапятилетняя дама изливала мне душу насчет восемнадцатилетней своей дочери, сегодня – он. Упрям, должно, как дуб. Закоренел, покрылся изнутри ржавчиной, которая и не сразу заметна, и пилит, наверное, и жену, и сына. Где же сын его послушается…»
Но, и покончив с едой, гость не собирался уходить, исходил весь словами. Заявил уверенно:
– Я еще немножко посижу у вас. Несколько минуток. И пойду. Он, сидя на стуле, то поскрипывал им, то причмокивал – чадил, то комментировал события, происходящие на экране (точь-в-точь, как комментировал обычно молодой сосед за стенкой своей старой жене): «Они, видите ли, думают, что уголовники так примитивно устроены, если уголовники, – о-о, как они ошибаются!»
Был уже одиннадцатый час вечера. Любе нужно было укладываться спать, а посетитель все долдонил. Он был изначально заряжен на говорильню, старался вытряхнуться словесно; он вовсе и не думал-то плакаться о сыне, а был в каком-то своеобразном кураже, будто в наркотическом опьянении, хотя признаков такого опьянения в нем не наблюдалось.
– Много их, детей, тоже плохо, – сказал он к чему-то. – Количество вредит качеству и тут.
– Абсурд! – парировал Антон сердито. – Человек – не вещь, что лежит в шкатулке – этакое совершенство. Ребенок пошел в садик – уже нахватался чужих познаний.
– Да?! – согласился Михаил. – Может быть. Может быть. Мне бы стоило позвонить Вам в сезон, когда я был на колесах, и мы закатились бы куда-нибудь…
«Ишь как выразился собственник, – мелькнуло в сознании Антона. – И такие имеют, кажется, все в быту. И хотят еще чего-то. Побольше. Явиться в друзья к тем, кто обратился за мелкой услугой частным образом и протанцевать, распетушившись, по-тетериному. Мелкое потребительство затмило его разум».
Антон не улавливал ход его мыслей.
– Если бы машину я купил за шестимесячную зарплату, тогда бы поставил одним колесом на тротуар, вторым на проезжую, – пусть тот бок гниет; она послужила бы мне четыре года, потом бы новую купил. И гаража не нужно. А если я целые годы копил на нее сбережения, то, конечно, другой разговор. – И лицо Михаила ожесточилось. По сути он говорил разумно и правильно, но как-то с изъянцем. – Теперь с этим нашим переездом. О, как я погорел, знаете… Где-то я предвидел еще заранее, шевелилось во мне неудовольствие, теперь открылось… О, как бывает…
Он не в меру разошелся, повысил голос почти на крик (вероятно, было слышно и за тремя дверьми, а к этому здесь, в квартире, уже не привыкли), и Кашины ужасались тому, что пошлость в благообразном облике сидела перед ними за столом и распиналась так, упиваясь собственным красноречием – потому Михаил и выступал с таким подъемом – все более взвинчиваясь, хотя причин к тому не было никаких.
– Миша, все: пора! – скомандовал Антон. – Одевайтесь!
Миша с явной неохотой поднялся со стула и успел еще спросить:
– А у Вас, Антон, нигде знакомых нет насчет гаража?
– По этой части – ни-ни! Я не спец. Отсталый…
– Я – на всякий случай… Так как обратиться не к кому. И вот вытаскиваю в памяти знакомых, к кому бы пойти… Авось…
Антон, наконец-то с облегчением открыл ему дверь, и тот растворился в темноте, царившей на лестничных маршах.
Как будто и не было этого явления. Был только мираж.
– Ну, торгаш! У меня было столь сильное желание кокнуть его чем-то, что я удивляюсь себе, что не кокнула, сдержалась, – сказала возбужденная Люба, – до того он был омерзителен, противен мне. Было бы, как в рассказе Чехова: «и присяжные его оправдали…»
– Я тоже хотел его стукнуть: чесались руки, – признался Антон. – Как все предусмотрительно велось в высшем свете раньше. «Мы сегодня не принимаем!» И все тут. А мы – хилая интеллигенция ротозействуем, позволяем ездить на шее вот таким проходимцам. А телик еще моргает, придуривается непослушно: рабочие ручки таким сделали…
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
Кашин думал еще об одной возникшей проблеме: суперобложку «Графика Карелии» отцелафонировали (вслед суперобложки «Взаимодействие искусств»), и нужно тираж их немедленно отослать в Петрозаводск (в типографию им. Анохина). Однако типография «Художник РСФСР» месячный план в финансовом объеме уже выполнила и не хотела отдавать суперобложки по накладным, чтобы не перевыполнять его. А когда Кашин попросил выдать товар, завпроизводством ему сказала:
– Ну, для Вас, Антон Васильевич, все сделаем!
Через пять минут позвонила, сказала:
– Ой, оказывается, еще не вся суперобложка готова – пленка не снята.
– Что, еще на барабане? – спросил Кашин.
– Да. Ну завтра сделаем. После обеда.
А как же отправить неоприходованный груз? Лучше бы своим автомобильным транспортом. Но нельзя – распутица. А железнодорожное ведомство не примет его без накладной. А склад готовой продукции не оформляет – неготовая продукция, полуфабрикат. И Кашин решил:
– Да, нужно оформить как транзитный груз. И отправить воздушным транспортом. Без задержки будет.
Нечто подобное происходило со многими заказами из-за несовершенства технического оснащения полиграфических предприятий.
Так был заказ – срочно подготовить и напечатать альбом к открытию монумента Вутетича «Сталинградская битва». По велению Брежнева комитетчики собрали директоров московских типографий и поручили им выпустить тираж альбома, а ленинградскому издательству его смакетировать художественно и проследить за качеством исполнения и сроками выпуска. Это все равно что почесать правой рукой левое ухо…
И вот итог. Издательский фотограф сделал снимка монумента, в том числе и облетая его на вертолете. Адамов, бывший радист, герой, с поврежденным зрением, ретушировал большеформатные фотографии. Кашин отвозил их в Москву. В одной Московской типографии – «Образцовой» его совсем необразцово встретил самодовольный завпроизводством и пытался тормознуть назад, ссылаясь на некачественную ретушь: здесь должны были изготовить клише и медные штампы; в другой типографии печатались листы с текстом и фотографиями (с клише), в третьей брошюровали листы печатные и готовили переплет с суперобложкой. И сюда-то, в Москву, нужно было завезти из Ленинграда обмелованную бумагу. И Кашин, наезжая (и Махалов тоже, как редактор альбома), «пробивал» начальниц комитета, не принимавших его, говоривших: «Это ваша проблема». И звонил Вутетичу. И показывали ему пробы типографские.
Да были и чванливые чиновники московские – с неповоротливой амбицией столичной – к ленинградцам, но не они делали погоду.
На этой же неделе издательство суматошно отсылало в Москву отпечатанные материалы к открытию нового съезда художников СССР.
И туда в воскресенье 25 ноября вместе с делегатами из Ленинграда ехали вечерним поездом книжные издатели. Избранные лица. А среди них – Антон Кашин, производственник. Потому и сразу удивилась Люба, провожавшая Антона до вагона, преобладанию пассажиров мужчин, между которыми они протиснулись в коридоре к нужному купе.
В нем оказались Роман Осиновский и Эльдар Курис, невозмутимый литературный редактор, а еще вездесущий художник-литограф Ясин, хорошо знакомый и Антону. Антон поздоровался, и двое ответили ему, а Осиновский демонстративно промолчал: все держал марку неприятия его из-за его, знать, противления ему в достоинстве.
После, когда Антон отпустил Любу на перроне, к двум редакторам в купе присоединилась искусствовед-писательница Нелли Званная в сопровождении двух мужчин-поклонников. Она была любительницей потрынкать на гитаре и попеть в компании.
Только вагон, качнувшись, тронулся с места, она спросила:
– Нет ли выпить? Коньячку…
Мужчины ей посожалели: они не догадались прихватить с собой в дорогу чего-нибудь горячительного. Зато пошли разговоры о том, о сем. Вот этот писатель пьет. Да ну!? Ой как пьет! А Коновицын? Этот – нет. Он серьезно болен. И когда осталось мало времени для жизни, – естественно появляется желание продлить себе жизнь – пожить как-то аккуратней. Собеседники высказывались так, что явно хотели показать и другим некую свою причастность если не к известным всем именам, которые на слуху, то хотя бы к известным событиям. Будто это повышало их имидж в собственных глазах.
Курис сказал, что на него сильнейшее впечатление произвел роман «В окопах Сталинграда», сначала, как всегда, изруганный рецензентами. А написан-то он в сорок седьмом году! Потом же писатель вдруг получил за него Ленинскую премию. И роман у нас был издан.
– Я написал писателю восторженное письмо. – Курис любил точно изъясняться. – Он ответил мне. Потом прислал свой напечатанный роман с авторской надписью. И я, будучи мимоездом в Киеве, познакомился с ним лично.
Кашин, слыша это, был несколько удручен своим недопониманием каких-то особенных вещей. Он без особого волнения прочитал этот роман в свое время. Не сходил с ума. Он нашел какое-то спокойное несоответствие в описании боев на Мамаевом кургане с тем, что он сам тогда подростком (очень впечатлительным, наверное) видел и испытывал на войне и что осталось в его памяти навечно вроссыпь, не на одном кургане, что век не утолить печаль.
Как же важно и себе самому соответствовать во всем.
«Но тут уже мои заморочки, – подумал он. – А люди живут для себя. По чувствам своим».
– У нас вечно в штыки принимается новое, что-то не такое, – сказал Осиновский. – Знаете, нам все-таки нужно сходить к этому большому графику Кашину. Николаю Васильевичу, – добавил он, поскольку фамилия его совпадала с фамилией, ехавшим вместе с ними Кашиным.
– И, конечно же, к председателю Комитета по печати, – добавил Курис. – Может, и поможет он ускорить напечатание его работ. Ведь ходил же к нему Капланский по аналогичному вопросу.
– Наверное, Каплянский? – поправила дама.
– Нет, Капланский, заведующий производством. Вошел в кабинет к нему, сказал: «Я пришел к Вам не как завпроизводством – хочу поговорить, как нормальный человек…» Может и нам поступить не так официально?
– Нет, я боюсь… – сказала дама. – Я об этом уже думала…
– Ну, ничего же плохого не будет, – сказал Осиновский. – Попробуем!
– Как сказать. Скажет председатель: «Что вы лезете на рожон?! У вас план трещит…»
– Для начала все же сходим к Николаю Васильевичу. Может, упросим его показать нам акварели? У него есть чудные акварели.
– Ну, пейзажи я смотрел и включил в его издание, – успокоил Осиновского Курис.
– У него же есть еще акварели чудные. Он их не показывет. А я их видел давным-давно, – не унимался Осиновский.
– Ну, не показывает, верно, потому, что перерабатывает и включает постепенно в свои книжные иллюстрации, – предположила Званная.
– Да, знаете, он немного пижонит, как все москвичи-артельщики, создания Божии. Он принимает у себя гостей в пижаме расписной. Черный, волосатый. Стены снес в своей мастерской.
И еще лились, лились слова. Об известных художниках, архитекторах, к кругу которых говорившие вроде бы приобщены: они их работы исследуют и издают, как хорошие издатели.
Мужчины вышли из купе, позволив Нелли Званной устроиться в постели. Курис пошел за стаканом воды для нее. А Кашин и Осиновский молчком стояли рядом в коридоре вагона долгие минуты. Кашин помнил публичное заявление Осиновского: «Я всю жизнь положу на то, чтобы выжить из издательства Кашина: он мешает мне работать…» И вот позавчерашний его демарш на редсовете: «У нас возглавляет производство человек, у которого нет полиграфического образования». (Хотя они оба один и тот же полиграфический институт закончили и Кашин уже немало времени читал в нем лекции по художественно-техническому оформлению книг). И другие несуразности нес Осиновский.
С Курисом Кашин еще находил какой-то общий язык в споре на темы, и далекие от искусства. Помнил: еще по приходу на службу в издательство предложил ему, как секретарю партбюро (хотя сам был беспартийный) как-то урезонить замдиректора Медведкина, который вскоре уходил на пенсию и в наглую ничего уже не делал, лишь по-барски рассиживал в кабинете и нередко еще, по-медвежьи вылезая оттуда, рычал и оскорблял подчиненных.
– Да отстаньте Вы от меня со своей принципиальностью! – рассерженно говорил ему, Кашину, Курис. – Кто сказал, что я должен воспитывать людей пенсионного возраста? Ведь это бесполезная трата времени. И плюньте Вы на все и пройдите мимо – будет лучше, уверяю Вас. Это только в книгах положительные лица да в кино, пожалуй; а в действительности все такие же Медведкины – их не перевоспитаешь, не заставишь… Ведь ни я, ни Вы все равно не можем уволить Медведкина.
– Нет, интересно Вы говорите…
– Сейчас еще скажите, что секретарь партбюро не должен так говорить…
– Я Вас не узнаю.
– Ну, восемь лет я правильно говорил, а вот как меня выбрали, так и стал говорить не так.
– Я не утверждаю этого: знаю пока мало.
– А на кой ляд мне лезть в эту грязь, вот дотяну до ноября – и пусть переизбирают.
– Однако невозможно же работать – такая обстановка.
– Ее создают.
– Кто?
– И Вы в том числе.
– Чем? Что я сказал: он – пережиток недомыслия?
– Ненужно как раз замечать все это, дать себе поддаться на провокацию; агрессивные и шумливые люди как раз провоцируют и очень рады, что их зацепят; это им на руку – они опытны.
– Но сейчас же не тридцать седьмой год, чтоб страшиться нам.
– Может быть, и ненужно говорить – обострять обстановку. Медведкин был посажен сюда в кресло сверху. А природа поровну сделала: половина подонков, половина людей. Все оттуда – от лагерей Колымы – идет. Вчера он заявил мне: «На всех вас нужна палка. Я сторонник палочной дисциплины. Во время войны была у нас палка – и зато мы выиграли войну». И я возразил ему: «Ошибаетесь. Тот, кто шел на нас с палкой, – тот проиграл войну!» Эпоха его создала.
– Вернее – молчальники. И теперь он чувствует это: ни от кого не получает сполна сдачи.
– Он мне заявил: уволю Вас! Так я вспылил: «Не на ту ж. шаровары надели! Со мной не выйдет. Шалите!» С тех пор – ша! На второй же день извинился передо мной.
II
Утром Ленинградский вокзал столицы встретил прибывших гостей побеленным новым снегом пейзажем. По перрону спешил люд, по-осеннему и по-зимнему одетый, дрогший, с какой-нибудь поклажей.
В половине десятого Кашин уже подъехал к огрузлому зданию, которое занимал Союз Художников, и еще с улицы – перед тем как перейти ее, увидел в светившемся проеме окна наверху силуэт Вась-Васи, как все называли его, куратора периодического журнала «Художник»; тот, расхаживая и жестикулируя там, разговаривал с кем-то невидимым.
– Ну, слышу Ваш голос. – Кашин вошел к нему – он симпатизировал ему – в отдел.
– Да вот – автор статьи – Зинаида Михайловна. – Представил ее, сидящую на стуле. – Она плохо слышит, потому так громко разговариваю.
Однако он, к огорчению Кашина, вопреки договоренности отложил на завтра (по срочным делам) их совместный визит к комитетчикам для уточнения объема выделяемых им бумажных фондов.
– Да и приодеться надо, – добавил он.
Так что Кашин отправился в производственное управление комитета по печати СССР – на Петровку, 24.
– Вот уже вторую аварию легковушки сегодня вижу, сказал таксист – молодой, с щетинками усов.
– Отчего же? – спросил Кашин.
– Скользко.
– Почему же песком не посыпают улицы?
– Не справляются.
– Отчего же? Машин не хватает или шоферов?
– Шоферов.
– Зарплата мала?
– Не выше семидесяти трех рублей. Никто не идет.
– Ну, как у переплетчиков в типографиях… Понятно…
Молодцеватый председатель главного производственного управления, бывший республиканский, уже знакомый Кашину, принял его торопливо, засердился слегка:
– Мне ведь некогда. Мы же даем сведения в комитет РСФСР. Больше лимитов на печать вам выделить не можем. – И в его лице сочеталось выражение первоначальной доброты с капризно-сердитым выражением – словно оттого, что все ходят именно к нему. Как раз в кабинет зашла одна сотрудница и по-быстрому что-то зашептала ему. – Пожалуйста, пройдите в производственный отдел, – договорил он. – Вас познакомят с цифрами. Начальник – Виктор Адольфович.
Последний раз его, председателя, Кашин увидел в Ленинграде на книжной выставке и подошел к нему и, не зная о его повышении, объяснял ему сам по себе, как экскурсовод, на примере выставленных экспонатов, всякие особенности и возможности полиграфических предприятий города.
Виктор Адольфович, суховато-угрюмоватый, негрозный человек, заранее выражал в своем взгляде отказ или безучастие любому прошению от кого бы оно ни исходило.
Его же приятные сотрудницы, напротив, воззрились на Кашина из-за столов весьма дружелюбно. Одна из них, Валентина Васильевна Коржева, которую он знал по телефонным переговорам с ней, теперь, назвавшись, смутилась: она жевала булку, и, извинившись, пояснила:
– Я сегодня не завтракала…
– Это я, извините, кажется, рановато, вклинился, – сказал Кашин.
Приятные сотрудницы Адольфовича, относившиеся, как все простые москвичи (кроме некоторых заевшихся чинуш), особо к ленинградцам, стали уговаривать своего начальника помочь издательству художников с выделением лимитов на печать на «Печатном дворе». Но просили слабо, не настойчиво, боясь его осердить; там ничего уже не пропихнуть – тьма заказов. И Кашину было даже жаль его, начальника, за то состояние беспомощности, которое тот, как видно было, испытывал. И лишь объяснялся:
– Поймите: потому, что вы – республиканские, мы не допустим дискриминации к вам. Нам так трудно распределить: просят двадцать четыре миллиона краскопрогонов, а мы даем только семь, вместо восьми выделяем два. Понимаете?
– Да, тупик, вижу; недостаточно станков, нужных нет, – еще упрямился Кашин. – Но вы же и спускаете сверстанный план даже на неустановленные еще станки на фундамент, гоните туфту. Нам-то, издателям, еще трудней: мы выплатили гонорар, оплатили все расходы, а покойники-книги лежат. Может, Вы хотя бы посодействуете в том, что словесно попросите «Печатный» сверхлимитно напечатать нам что-нибудь на выбор, если окошко там образуется?
– Нет, и этого мы не в силах, – построжал Виктор Адольфович. – Если сверх лимита, то нужно просить об этом главк. Говорить с Рыбкиным.
– Ой, я с ним уже наговорился об открытках. Летом… Хватит.
И вновь Кашин навострился: нужно договариваться на месте по-людски – больше проку из затеи будет!
В предыдущий раз он побывал здесь летом в связи с выпуском альбома со снимками архитектурного комплекса Вутетича на Мамаевом кургане в Сталинграде. Он был в срочном производстве сразу в трех типографиях Москвы. По прилету Кашин позвонил сюда, в производственный отдел, и дама, замещавшая завпроизводством во время отпуска той, строго сказала ему, что не сможет его принять сегодня. Однако Кашин, обойдя три задействованные в заказе типографии и проверив сроки прохождения в них альбома, явился-таки в комитет к сердитой даме. Вживую! И представился ей в присутствии ее сослуживцев. Немного испуганных. Начальница была очень недовольна его самодовольством. Она, возмущенная, тут же демонстративно схватила телефонную трубку, позвонила своему высокому комитетскому начальству и стала высказывать начальнику свое недовольство тем, что вот Кашин нагло приехал к ней, хотя она отказалась принять его, и мешает ей работать. На что Кашин совсем миролюбиво сказал ей:
– Зинаида Марковна, я не в роли просителя у Вас, а союзника, успокойтесь! Я объехал только что все три московские типографии, которые Вы обязали издать известный Вам Сталинградский фотоальбом, объехал и прояснил для себя, что и в каком все состоянии на сейчас, все пощупал руками, Вы-то вряд ли так же проверите. Но ведь этот альбом – срочный, правительственный заказ. И именно с Вас спросят за выпуск его в срок – к открытию монумента, а не с меня. Извините… Вот Вам моя памятка, где и что. Я оставляю для контроля… Звоните, если что…
И в республиканском производственном управлении (на улице Качалова), куда он заехал после, он лишь уточнил и дописал разнарядку по лимитам на печать и никаких спорных и иных вопросов не смог разрешить удовлетворительно, чем был недоволен. Хотя везде были милые, приветливые люди. Не в чем их винить.
На затем, побывав в экспериментальной типографии ВНИИППа (на Цветном бульваре), совсем успокоился. Здесь был лад с заказами. Здесь для издательства печатались факсимильные полулистовые рисунки и акварели русских художников в подборках и альбомах и единичные репродукции. По офсету или фототипией. Факсимильно – значило повторить оригинал в красочности и в формате. Занимался этим прекрасно профессионально-знающий редактор Шлекель. Он-то, кстати, в унисон с другими «пугал» Кашина несговорчивостью Ольги Михайловны, начальницы производства; но Ольга Михайловна оказалась (уже второй раз) вполне сговорчивой с Кашиным, что касалось выполняемых работ. Она отлично все знала, все показывала охотно, водила его по цехам; она, зная все, любила порядок, дисциплину, все решала скоро. Она даже рассказывала ему о себе, как бы чуть кокетничая; ей было смешно, говорила она: у нее уже полуторагодовалый внучек! Он сейчас в больнице: воспаление уха. Была у него температура – 40 градусов, а врачи не могли поставить правильный диагноз; только тогда, когда все там сгнило, и распухла шея, разобрались, в чем дело. Сделали трепанацию черепа, уже дырка в черепе. И она тут же звонила профессору-медику, урологу, разговаривала с ним, переживала.
И Кашин очень сочувствовал ей в этом – главном.
III
Антон Кашин во время командировок в Москву старался не отягощать своих сестер наездами к ним: это отнимало у него и много времени, так как лишь младшая проживала в столице и то на ее окраине, а две старшие – в пригородах. Вась-Вась дал ему направление в гостиницу «Украина» по броне Совета Министров СССР (в связи со съездом художников СССР). И он направился сюда.
Усталая женщина-администратор, сидя за стойкой, долго искала в книжечке список фамилий. Сюда названивали из ВЦСПС, из каких-то управлений, и она отвечала звонившим. Стояла длиннющая очередь ожидающих регистрации. И сидели в креслах иностранцы с различными сумками, чемоданами и рюкзаками.
Женщина наконец нашла нужную фамилию, дала Кашину заполнить анкету. Сказала:
– Я Вас помещу в двухместный.
– А! Мне все равно! – сказал он, будто ныряя в неизвестную глубину. Хотя не раз уже ночевал и здесь, и в гостинице «Россия» с видом на Кремль.
Когда же он отдал ей анкету, она, верно, прочтя, что он ленинградец, зашептала:
– Я Вам дам одноместный номер. Три рубля с Вас!
– Спасибо! – поблагодарил он, не отказавшись.
В этом высотном здании послевоенной постройки был некий шик: мебель в номере из красного дерева, на столе круглая лампа, телефон, тепло грели батареи, играло радио.
Так замечательно иметь одноместный номер в гостинице. Как-то раз в гостинице «Россия» его напарник-грузин (в двухместном номере) настолько храпел, что Антону казалось: будто ворочались булыжники там, на Васильевском спуске, что за Москвой-рекой.
Кашин зашел в большой гостиничный ресторан с аляповатыми колоннами и люстрами, сел за стол в уголок. Быстроногие официантки, мелькая, сновали и пролетали мимо него, даже не взглядывая, и он, просидев невозможное для такого ожидания время, спросил у одной из них, почему никто не обслуживает.
– А у Вас разве не взяли заказ? – естественно удивилась та. – Я думала, что она взяла.– Тут же вытащила из кармана фартук блокнотик и карандаш: – Пожалуйста!
В это время еврей средних лет в приличном костюме подошел к тоненькой официантке с пышной шевелюрой взбитых светлых волос и, поздоровавшись, спросил у нее, где сесть. Она заметно покраснела и глазами показала на стол. Зайдя же за колонну, скрытая от его глаз, явно в оцепенении, стала что-то объяснять темноволосой официантке. А посетитель сидел и явно нервничал. Потом обескураженная чем-то блондинка принесла ему рюмку коньяка и бутылку минеральной воды. Он задержал ее, что-то говорил и говорил ей; она неохотно слушала его, что-то, очевидно, врала ему вынужденно. Он не притрагивался к питью и после того как она ушла. Потом темноволосая официантка подошла к нему и, раскрасневшись, разговаривала с ним. А он несчастливо поглядывал вслед снующей светловолосой официантке…
Утром Кашин, съев в буфете, бывшем на 9-м этаже, яичницу и выпив стакан виноградного сока, поехал в редакцию журнала «Художник» к Вась-Вась.
Проехал за 10 коп. в маршрутке до Киевского метро, а в метро до Курского вокзала, а оттуда прошел пешком по Лялиному переулку, где легковушка «Волга» долго не могла стронуться с места – одолеть небольшой подъем. Была мокрая грязь, хотя накануне было и морозно: до 10 градусов холода; словно ленинградская погода перешла сюда, в Москву. Между тем людские толпы, толпы бежали, толклись, толкались, хлюпали по мокроте.
Вдвоем Кашин и Вась-Вась объезжали нужные типографии, в комитетах пересматривали бумажные фонды.
По возвращению в здание художников их застал телефонный звонок. Вась-Вась передал трубку Кашину:
– Курис.
– Антон Васильевич, – услыхал Кашин менторский голос редактора, – я сейчас звонил Берштейну. Позвоните ему насчет его рукописи. Сейчас он у себя – позвоните же. Опять эта злополучная с ней история! Ну, доктор он каких-то наук, ну, плодовитый автор – но нельзя же так лезть – напролом!
– Что еще один начальник у нас? – сказал Вась-Вась.
– Ну, есть такие индивидуумы по образованию своему. – И Кашин позвонил Берштейну.
– Мне сказали, – начал тот, – что Вы – специалист по приему рукописей в производство и что эта моя якобы не пойдет – не будет принята из-за того, что отпечатано на портативной машинке. Но ведь у меня брали от этой машинистки статьи и для «Советской энциклопедии» и для «Памятников мирового искусства», выпускаемых в типографии Академии Наук.
– Лев Тигранович, у нас понимание требований качества, – сказал Кашин, – не должно быть разным: наборщики не должны портить зрение из-за мелкости шрифта текста, с которого сделают набор. Для этого существуют стандарты. А у Вас рукопись очень объемная. Скажите, Вы говорили с кем-нибудь о том, куда ее определять в набор?
Последовали, как всегда, отнекивания, ссылки на то, что эта рукопись уже год в издательстве лежит. Он-де все торопил Куриса, а Курис почему-то медлил. Может быть, в Ригу, в Таллинн устроить? Они же, прибалты, хорошо печатают.
– Да, для нас там печатают, но иной раз не очень хорошо, – сказал Кашин. – Но Вашу рукопись с мелким шрифтом и там не возьмут в производство.
– Ну, приезжайте ко мне завтра, и Вы увидите, насколько хорошо мы Добужинского издали с этой же машинки. Тираж быстро разошелся. Дочь Кустодиева очень высоко отзывалась об этом издании. Приезжайте. И Курис будет. Адрес Вам дам.
– Лев Тигранович, рукопись эту новую, о который мы говорим, нужно перепечатывать. За год это уже можно было сделать.
Кашин был непреклонен.
Уже вечером он приехал опять на Кузнецкий мост, столь знакомый ему с юности из-за посещений им здесь выставочного зала: нынче же здесь экспонировались работы московских художников, вызвавшие отрицательные эмоции у ценителей искусства. Но вчера он не смог попасть сюда: день был понедельник – выходной день.
Сейчас на выставке посетителей оказалось немного, и была небольшая очередь в гардероб. Стены залов занимали жанровые картины, эскизы, портреты и пейзажи, выполненные броско в различной технике: были экспонаты прикладной графики, гобелены, и даже керамика. Присутствовала молчаливая скульптура. Однако ничто из всего виденного, действительно, не выделялось какой-то естественностью и простой прочностью, и, конечно же, теплотой – можно сказать, теплотой сердца и рук художника, не только цветом краски и манеры нанесения ее на полотно. Всех художников явно несло на какую-то нарочитость, на заведомое нарушение гармонии в изображении. В желании представить портретируемых как некие безглазые, блеклые и сине-черные существа.
Посетители смеялись и в открытую выражали свое неодобрение.
Вот так заразительно (и убого!) художник выказывал свой непрофессионализм публично. Иного, видно, не дано ему. Какая-то одна сплошная импотенция!
В гостиничном лифте наверх поднимались человек семь, наверное. Нерослый краснолицый мужик в темной рубашке с галстуком вслух считал, сколько же человек в кабине. И только что лифт стал на шестом этаже, этот мужик, стоявший позади всех, вдруг, задергавшись, затолкал впереди него стоявшего иностранца:
– Ну, пусти меня! Пусти же! Да чего же ты стоишь! – И вырвался из кабины.
И все ехавшие засмеялись. Даже иностранцы. Ведь никто его не держал. Он сам не приготовился вовремя к выходу.
А назавтра, будучи на съезде художников в Колонном зале, Антон неожиданно увидал в числе делегатов этого краснолицего мужика в темной рубашке! И подивился этому. И тут встретил некоторых знакомых художников, знавших его, Кашина.
Шел съезд – выступали ораторы – при открытых дверях из длинного освещенного зала, речи транслировались по радио и были слышны везде. Присутствовавшие при сем лица, расслабляясь от необыкновенного действия, свободно хаживали и около зала и направляясь в буфет и чувствовали себя, как видно, вполне-вполне вольготно и независимо, как творческие личности. Никто никому не указывал, как себя вести. Была полная личная свобода. Почти богемная.
Кашин тоже, войдя в зал, посидел какое-то время в свободном кресле, послушал некоторых выступавших. Были знакомые лица, знакомые речи, слова. Хорошо говорил с трибуны композитор Кабалевский.
Это напомнило Кашину Таврический зал, проходившие в нем комсомольские съезды, призывные выступления писателей. Было ощущение происходящего чего-то потустороннего, в чем он присутствовал, не участвуя ни в чем. Ведь он потом и митинги проельцинские воспринимал подобным образом, как людское заблуждение, болезнь непоседливых.
И назавтра он еще обхаживал типографии, получал пробы. Зашел на свидание с Врубелем и Рублевым в Третьяковку. И вместе с тем отчетливей почувствовал свободу и независимость от всего внешнего, что было вокруг: от этих речей, от недругов и чиновников, была только зависимость от самого себя. Это он чувствовал сильнее всего. Корил себя: «Я мало, мало, что делаю…»
IV
Майским утром Антон Кашин привычно шел с этюдником к асфальтовой платформе Финляндского вокзала, вновь предвкушая удовольствие сейчас увидать прелесть в зеленом уголке природы на заливе и так понятно и приятно ее написать тяжелыми, но светлыми масляными красками, – именно такой, какой увидит ее воочию; он последовательно и систематично выбирался куда-нибудь для писания этюдов: так практиковался, как издательский художник и живописец – в пейзажной живописи, отдавая ей предпочтение.