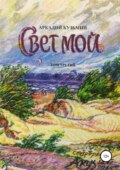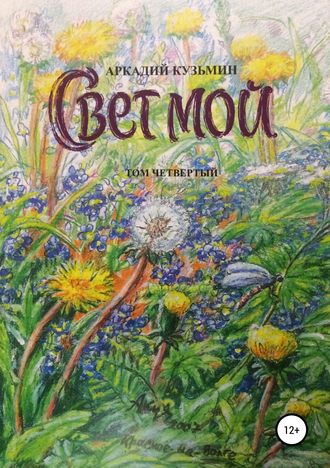
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 4
Слава, закончив Ленинградский Политехнический институт, жил неженатым услужливым бессеребренником по духу своему, как исправно работящий талантливый заводской конструктор; он ладил со всеми, кроме кое-кого из начальства, стоявшего над ним, над его душой. Так, главный инженер завода, преуспевший незаслуженно, нет-нет втихаря, присваивал в своих новых разработках и его находки – новинки, пользуясь бесконтрольной властью и ведомственной отдаленностью предприятия от головного. Проверкой же авторских изобретений тогда вообще никто не занимался. И государство ведь не несло ущерб от неустановления истины в таких вопросах. Попробуй – достучись…
Слава, конечно же, испытывал дискомфорт от деляческой атмосферы в рабочем коллективе, и – переживал. Что и могло приблизить его потерю.
Антон, всякий раз, проезжая мимо белого здания Политехнического института, испытывал какое-то трепетное уважение к нему; он помнил, что и его дочь, Даша, – выпускница института и что он, Антон, еще изготовил, как художник, к юбилею Политеха печатный плакат и новогоднюю открытку, для чего здесь зарисовывал здание с разных позиций.
В нашей жизни многое сходится. Встречается, вольно или невольно.
Изба Завидовых противостояла наскоку стужи на северной окраине Ржева, за вокзалом. Покойно брезжил в ней свет дня на геранях в бледных людских ликах, окружавших гроб с покойным. Только Костя Утехин, словно предводительски, как бывший пионервожатый, вшагнув сюда, в светелку, вместе с москвичками (сестрами Славы) и Антоном поздоровался привычно громко, будто обращая всех к потребностям идущей жизни. Все кашляли, простуженные, старались сдержать кашель. Пахло валерьянкой. Осунулся отец Славы Станислав, мастер-деревообработчик, солдатом принявший бой с немцами 22 июня 1941 года в Эстонии. И приехал Юрий, сын Маши (его тоже Славой называла некогда бабушка), – уже вымахавший ростом полнотелый лысеющий мужчина; теперь его впервые видели двоюродные братья и сестры – после-то окончания войны.
От горя качалась, горюнилась, как мать, тетя Дуня; в слезах дрожали две взрослеющий дочери Жени, которых Слава очень любил. Еще летом, накануне этого несчастья, Женя решил расстраиваться, на выделенном ему здесь же, у дома, участке земли стал рыть котлован под фундамент жилья и вдруг наткнулся на останки наших бойцов и железки миномета. Судя по всему здесь бомбой накрыло наш минометный расчет в жаркие военные дни 1942 – 1943 годов. Так печально.
Итак, Кашинская семья теряла уже третьего брата, когда уже мать скончалась – покоится под Москвой. Всех их, как и родителей, видно, бог наделил талантами. Старший – Валерий – певец, хороший шахматист и солдат: сражался на Дальнем Востоке – с Японской Квантунской армией; он на гражданке железнодорожничал и умер на работе – прямо, что говорится, на ходу – на колесах. Также внезапно отказало сердце у неуемного младшего брата. Он, хоть и недоучившийся из-за войны, был от природы изобретателем того, в чем нуждалось домашнее и садовое хозяйства; он конструировал всякие приспособления, из безделушек, облегчавшие труд, плугарил и пас скот, и был трактористом; он водил мотоцикл, автомашину и грозный танк, токарничал на большом предприятии. У Антона же как раз таких способностей не было – навыки на них у него отсутствовали; он поэтому нередко сожалел по этому поводу, что не развивался в таком, может быть, нужном качестве. Нужном в общем-то для страны, если быть ее патриотом.
Антон прекрасно видел, что все это у них получалось потому, что они были людьми от земли, как и другие, окружающие их, с которыми он теперь встречался, приезжая, чаще на поминках, когда и поговорить-то всерьез некогда. И тут, когда его пытливо какой-то сверстник спрашивал: «Антон, а ты узнаешь меня?» – в ответ он лишь стыдливо мотал головой. Он в сорок девятом году оказался в Ленинграде! Совсем отчуждился от своей родины.
– Ты остался один у нас, и мы должны беречь тебя, – сказала Таня, младшая сестра, у которой Антон чаще всего гостил в Подмосковье, на даче. Надо же, как получилось: именно он был ее нянькой в ее детские годы – тогда даже плавать в речке учил…
Главное, находясь среди таких людей, Антон видел, чувствовал, что какая-то великая непостижимая правда была у народа и с народом, служила ему верно. А у самого Антона она была? Какая же? Она признает его?
Непогода между тем жутко неиствовала, ветер сквозил, выл. Пока ждали похоронную автомашину на улице, перед избой, вихрь сильно раскачал осветительный фонарь на столбе; со вспышкой на нем все затрещало, веером посыпались искры, и фонарь погас.
Тут-то Антон мысленно повинился перед забытым им Ржевом, перед своей малой Родиной, которую всегда вспоминал и которая ему частенько снилась: «Прости, друг, меня за то, что я оторвался от основ своих, важных в памяти… Ты мне все напоминаешь…»
Антон своим сестрам, как никому из друзей, никак не рассказывал о своих семейных разногласиях и размолвкой с Любой, держал все в себе, взаперти.
Только вот однажды у него с Максимом Меркуловым состоялся такой непростой задушевный разговор…
Потом скоро все кончили, хотя на открытом кладбище земля промерзла очень глубоко, что не поддавалась копке. И уж мало-помалу все успокоились на поминках в столовой. Константин сразу же увозил Таню, Наташу и Веру в Москву. На своей выручалке – «Волге».
Только оставил Антону сетования на неисправимых пешеходов, что ему запомнилось тоже почему-то.
Костя говорил:
– Аксиома: если выпил – не садись за руль. Теряешь чувство ориентира. Как-то я выехал из-за поворота, а перед машиной перебегает дорогу кошка, а за нею бежит девочка. Ну, крутанул я рулем в сторону – машину занесло, и она врезалась в столб. Девочка котеночка поймала и убежала, а я разбил машину. Тихонько развернулся и поехал домой, чтобы не зафиксировали аварию. Ведь я только что пивка выпил! Сам за ремонт выложил восемьсот рублей. Это – в прошлом году.
А недавно был суд. Я сбил человека. Пешеход сам – елки-палки! – лезет под колеса. Приезжие не все правила знают и то, что есть пешеходные переходы. Он выскочит на шоссе, первую машину проскочит, а ты не видишь, так как идешь по второму ряду. Увидишь – сбавишь скорость, вильнешь в сторону – не будешь же давить живого человека; а тебя давят другие машины, не успевшие тормознуть. Ты оправдываешься: «Вон пешеход»… А того уже и след простыл. Так вот как у меня произошел наезд, что до суда дошло: пьяный мужчина вышел на середину дороги, и ему здесь приспичило отлить. В одной руке он поллитра держал. В сеточке. Я увидел его в свете фар. Шел со скоростью под восемьдесят километров. Сразу сбавил скорость и стал объезжать его, а он вдруг рванулся и побежал в эту же сторону. Ну, и сбил я его, зацепил крылом. Колено ему разбил, еще что-то. Мужику сорок лет, и детей теперь не будет у него. Стукнул его сильно – его ботинок метров десять летел. Машину бросило влево, а навстречу транспорт – успел-таки увернуться от него. Метров двести вперед пронесло – от места столкновения. Так на руках толкал назад машину – к этому месту, чтобы инспекторы не засекли превышение скорости. На суде же сам потерпевший показал, что он, услышав шум мотора, побежал. Дело прекратили. Только шумели, что я без прав езжу; а права тут же, в Москве – давно обещали выслать по почте, но я их не получил пока. Из Красноярска почта быстрее доходит.
А если бы был я поддавши, – платил бы пострадавшему.
И то: наша дочка, Надя, ясновидящая, ночью видела эту отцовскую катастрофу, и пошла в церковь, свечку поставила. Может быть, и это помогло мне как-то… Я меньше пострадал…
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
I
В жаркий полдень на дощатом причале толпились отдыхающие, ожидая теплоход; они восхищались тем, как ловко местные мальчишки и девчонки ныряли с балок почти соседствующего аэрария в изумрудное море. Дети неутомимо ныряли, играя друг с другом, вскрикивая радостно и отфыркиваясь; их маленькие коричневые фигурки, красочно мелькая, летали, кувыркались в голубом июльском воздухе и в всплесках зеленоватой воды. В какой-то живой карусели. Словно летающие рыбки бескрылые.
Бесподобное зрелище!
А двое гибких подростков, что постарше, взобрались на самый верх здания, – отсюда до водной поверхности моря было более пяти метров, и отсюда-то ныряльщики классно бултыхнулись вниз головой.
И тут-то один впечатлительный малыш лет четырех, стоявший подле мамы, вдруг подшагнул к своему отцу – рыжеватому молодому мужчине, схватил его за руку и спросил у него с испугом (видно, за возможно нежелательный ответ):
– Папа, и ты тоже можешь прыгнуть оттуда? Да? Можешь?
Отец несомненно был для него самым большим авторитетом. Он понял состояние души у сына и спокойно заверил его:
– Ну, конечно же, Юра, мой малыш, могу! О чем речь!
И осчастливленный тем Юра опять вернулся к маме. Продолжал любоваться на маленьких пловцов.
Бывают же такие просветленные моменты в нашей жизни! Их не счесть! И их помнишь всегда.
И когда ждет грустное и смешное рядом.
Когда есть и недопонимание тебя кем-то. И это непреходящее. Никак.
На эскалаторе в метро Финляндского вокзала, едва Антон Кашин опустил на ступеньку этюдник, как его сосед, стоявший сзади, спросил развязно (как показалось Антону):
– Ну, и что же написали такое, брат?
– То, что хотел, – ответил Антон, почти не оборачиваясь, нелюбезно.
– А где писал этюд?
– В Зеленогорске, – ответил Антон уклончиво.
Тогда настойчивый гражданин зашел спереди: он был примерно его возраста, в шляпе, и несколько пьян, как было видно по его глазам, и заговорил дружелюбно:
– Я все время ездил на этюды в Новгородскую, Псковскую области. А теперь уже давно не пишу.
– Да ведь мест для их отображения везде полно у нас, было б только желание их изобразить нормально, – подобрел в голосе Антон.
– Вы учились у кого? Как его фамилия?
– Пчелкин. Малоизвестная… – сообщил Антон.
– А Вы знаете живописца Трофимова Бориса Павловича?
– Да. Слышал.
– Так вот я у него учился. В Академии художеств.
– Это дело нельзя бросать, если Вы сказали, что бросили.
– Нет-нет, я сейчас просто занимаюсь карандашом, акварелью. Леплю и сына учу. Семинарю…
Так они и познакомились накоротке.
– Значит, некогда ты работал в российском издательстве заместителем Овчаренко, этого тянучки? – спросил художник.
– Наверное, пришлось, – ответил Антон.
– И, значит, я твои открытки покупал для своих галчат, а они их собирали, коллекционировали? А вот как она, открытка, делалась? Объясни. Давался заказ на нее художнику?
– Никакого. – И рассказал историю одной.
Антон самолично сделал эскиз простой двойной открытки «Поздравляю!» – с рябиновой веткой и снегирем.
Открытка у издателей считалась малым (или подсобным) видом печатной продукции, и так повелось, что на нее не заключался договор с художником; лишь были просьбы на словах: представить привлекательные оригиналы, на которые будет спрос. Под обещание отпечатать ее тираж.
Открытку художника Кашина утвердил худсовет. «Роскульторг» заказал ее в количестве 300 000 экземпляров. Она должна печататься бронзовой и красной фольгой в два прогона, на прессах.
Все равно всесильны всякие препоны перед тем, как сдать ее в печать.
– Так я могу теперь делать кальки и рабочие оригиналы на нее? – спросил Антон у директора – тянучки Овчаренко. Время-то идет… Пресса стоят…
– Слушай, я подпишу, если узнаешь, что эта фольга имеется на складе в типографии, – говорит он замысловато, выкручиваясь.
– Но это же забота производственников, не моя; они просили нас дать работу для печатниц – те простаивают ведь!
– Все равно нужно уточнить… И наш плановый отдел сомневается в целесообразности…
– Ну, отрыжка зависти! Как же: лишних сто рублей еще получу просто ни за что! Нужно прижать…
– Да ты скажешь еще…
– Но ведь и сам ты так думаешь, хоть и художник тоже…
– Ты это напрасно… И сто рублей – не худа прибавка: почти две трети твоего оклада!
– О, как велико! А номинал – цена открытки – пятнадцать копеек; всего в два раза дешевле детской книжки, но во много раз доходнее, рентабельней ее… Что попусту нам талдычить? Дни уходят! Итак, делать мне рабочие оригиналы?
– Ты делай, делай конечно…
– Ведь не тебе, а мне придется из-за этой твоей волокиты ночью сидеть с кисточкой, с пером и с лупой… Чтоб людей не подводить…
– Но ты же это умеешь… сделаешь… А для верности ее нужно еще показать там…
– Где там?
– Ты прекрасно знаешь. Что притворяться!
– А зачем? Открытка-то не политическая, а орнаментально-декоративная.
– Вот если бы на ней было написано: «Поздравляю с восьмым марта!» или «С Первым маем!» – то обязательно представить нужно… И эту я покажу еще. Всяко бывает. Вон же твою открытку «Приглашаем на чай и сахар!» задробили почему-то.
– Там неуместным показалось изображение собачки.
– Видишь как…
– Итак, господа, срывается сдача в печать пустяковой работы. А там-то не будет грузовика, чтобы вовремя отвезти в типографию бумагу или грузчик заболеет, либо ключи от бумажного склада потеряются… Либо еще какая холера взбрыкнет… Ну-ну!
Перипетия получилась…
Много лет назад Антон Кашин, покидая издательство (тогда Овчаренко не искал ему замену, все тянул), пригласил на замдиректорство редактора Васькина, партийца, но который только что проштрафился перед Смольным, за что – в том числе и за порочную связь с чужой женой – схлопотал выговор. В глазах Антона, знавшего Васькина лишь по коридорным встречам, сам выговор, как таковой, отчасти положительно характеризовал человека; однако Антон увидел толковость в его рассуждениях, а значит – и его способность, поменяв профессию, стать вполне хорошим производственником. Он редко ошибался в людях.
Он потому был удивлен, когда Нечаева, тоже его протеже (устроенная им сюда же полтора года назад) позвонила и сообщила ему о том, что у нее неладно на работе: она, начальник отдела, вдруг подверглась обструкции Васькина – тот унижал ее ни за что и что – удивительней того – в нападках на нее активничал также Иван Адамов, да, этот милейший Иван, бесстрашный в прошлом фронтовик и мужественный профессионал-ретушер. Вот Иван-то – почему? Свет клином сошелся что ли? Да потому, что Иван нынче возглавлял здесь профсоюз, включавший в себя и всех внештатников; а они-то были очень разношерстной, но пафосно-говорливой публикой, имевшей творческий взгляд на мир. На такой слаженный. Свободный очень.
Причем недругам Нечаевой не нравился ее непокладистый, неуживчивый характер, а вовсе не ее умение в работе, – недостаток, который надобно изжить. Такое вот неоднозначное суждение, бытовавшее в небольших коллективах.
На то воля божья, что характеры враждуют.
Но тут чья-то непорядочность явно заявилась. Непорядок!
Так что теперь Кашину стало нужно вмешаться в конфликт и, возможно, погасить его (больше некому); во всяком случае стоило попытаться что-то сделать, чтобы таким образом помочь в защите молодой Нечаевой, матери двух девочек. Иначе он никак не мог поступить, как ее невольный покровитель, поскольку в свое время уговорил ее поменять место ее работы к ее выгоде.
Накануне вечером Антон созвонился с Иваном, с кем как-то прервалось общение, и не смог фактически толком выяснить у него суть его претензий к Нечаевой.
В чем же причина такого диссонанса и людского возбуждения в коллективе?
И чем дальше длился этот телефонный разговор, тем больше Антон не понимал, кто же кого дурачит и почему заведомо предрешенно Иван говорил (самоочевидно с чужого голоса), что он-то, Антон, точно не прав, а правы они – Васькин, Адамов и другие их компаньоны. Это ж ясно, как божий день. Что же явилось причиной навета? Косность мышления? Боязнь честно послужить справедливости? И эти многозначащие фразы Ивана: «Я помню, как вы – Антон и Костя Махалов – пришли к нам в издательство некогда. С чего вы начинали, и вам никто не препятствовал…» Будто вот она – сама добродетель в его лице. Неужели одно членство в партии так влияет на предрассудки и ложные истолкования честности, воинственности и узкие интересы? Неужели легко надвинуть шоры на глаза, чтобы ничего не видеть? Да и правомочна ли так называемая расследовательская комиссия, возглавляемая партийцем, созданная для того, чтобы заведомо найти прегрешения в работе Нечаевой.
Дурацкая затея!
Иван пытался судить обо всем понаслышке. И логика его рассуждений сводилась к несерьезным доводам – оговоркам, услышанным им от недоброжелателей, вроде этой: «Там же, в типографии, она только диспетчером служила – неумелая, знать…»
Антону дальше разговаривать с ним, Иваном, расхотелось. Нужно было хоть немного уважать себя. Но он еще напомнил Ивану о трех его фронтовых писем своим родителям, которые тот дал ему для использования их в книге, – они находились в сохранности, и он хотел бы их вернуть ему (несколько Ивановых писем военных лет находились в музейных экспозициях). И приятели договорились встретиться позднее.
Что ж. Разговор закрыт.
II
Для Антона происшедшее вокруг Нечаевой было неприятно не потому, что он в чем-то ошибся, передоверявшись своим добрым чувствам и намерениям, а больше потому, что на нее так дружно (хором) ополчились сослуживцы, особенно мужчины-заводилы, так сказать. Особенно они. Отчего? Уж не оттого ли, что Нечаева, зная о прежних похождениях Васькина (она ведь работала в одном с ним учреждении), и могла чем-то скомпрометировать его? Но она явно была его головной болью.
– Нина Вадимовна, Вы состоите в партии. Так сходите в Райком, – посоветовал Антон. – Нужно приструнить ретивых.
– Это только нервотрепка, – сказала она. – Тут секретарь – женщина. А Васькин, как секретарь, у нее в почете. Уже накатали пасквиль на меня… Пригрозили разбором.
– Даже так?
– Вот именно. Я Вас не хотела тревожить, Антон Васильевич, но не могу…
– Тогда заявитесь в Обком. Обязательно! Вас должны выслушать.
– Ну, там я сошкой буду. И то, как я попала сюда… Спросят же сразу…
– И скажите откровенно, что по рекомендации моей, вовсе не по блату. Вам денег не хватало на пропитание детей. И лишняя десятка Вам не помешала… Если нужно подтверждение мое личное, – пусть вызовут меня. Я готов. Я знаю: здесь сейчас агитацией заведует сносный секретарь. Непременно сходите. А прежде позвоните туда и договоритесь о своем визите. Везде люди есть. Нужно разговаривать с ними. Всеми.
Вчера же к Кашиным в квартиру поднялась старенькая инвалидка, живущая этажом ниже, с седьмого этажа, и попросила Антона, мужчину, помочь свести лежачего мужа-инвалида в туалет. Она было еще ходячей с палочкой и с самодельной сумкой, висящей на плече, и при встрече Антон здоровался с ней. Он слышал от домашних, что мужа ее, старика 89 лет, разбил паралич. И, хотя Антон сам проболел – было повышенное давление, он спустился с ней в их квартиру. Увиденное здесь прежде всего потрясло его наготой (и в буквальном смысле). На кровати лежал в одной рубашке (без трусов) старик. Он был слеп, искал его руку, чтобы опереться и встать с постели. Антон приподнял его под мышки и направлял к туалету – поворачивал, как нужно, а тот не шел, а скользил по полу, куда нужно, – скользил костылями – ногами в насунутых на ступни тапках – чтобы подошвы ног не скользили. Его тело было здоровое, но дряхлое и не дряблое, как бывает у стариков.
Александра Ивановна, как только они уложили в постель инвалида, пожаловалась Антону на то, что соседи стали избегать ее – не всегда дозовешься их до помощи. Их сын скончался в 30 лет. И больше никого из родственников нет у них: то война выбила, то в репрессиях родня пострадала. Этот случай не был чем-то исключительным. Была такая наша жизнь. Ходи, пока тебе ходится, и дело свое святое делай, и тебе зачтется.
Нечего тужить, если и не доживешь до таких престарелых лет. Зато не станешь обузой – не доставишь хлопот – для близких. Главное, вовремя посторониться перед другими живущими. Ты ведь уже знаешь цену своего существования. Однако разум Антона был занят чем-то более серьезным, чем боязнью своей смерти в череде других смертей; он не думал о ней нисколько, а шел навстречу чему-то решительному для себя – хотел дотянуться до чего-то исключительного и не умереть прежде, не дотянувшись до того. Он пока не видел этой смерти, грозившей ему закостенело-скрюченными пальцами.
Но опять и опять ему снился бандитский шабаш, танцующие перед ним уродцы-чурбушки в стальных одеждах, зачумленные, в черных эсэсовских масках, закрывавших их лица, и нацеленные дула их карабинов.
Люди, проснитесь же!
И вот его привела в издательство тревога за человека, а не соблазн возгеройствовать. Отнюдь.
Общая издательская атмосфера здесь в учреждении к счастью для Антона пахнула ушедшим временем. Она была отчасти такой знакомой, постаревшей и уже какой-то тесной для него, его восприятия и вместе с тем заметно изменившейся по лицам – прежним и новым, по их выражениях при встрече с ним. Он точно вырос из своих привычек и представлений, существовавших здесь, почувствовал уже невозможность к их возврату и того, чтобы что-то изменить к лучшему и повлиять на что-то, как бы ни был он решительным и убедительным. И среди работниц производственного отдела он уловил большую настороженность к его внезапному приходу, едва он вошел сюда. Он почувствовал не прежний, открытый, а какой-то недоступно-скрытный настрой, при котором прежние выпускающие, знавшие его, при разговоре с ним отводили глаза в сторону, словно виноватые в чем-то дети. Это что-то значило, не одно их желание не обсуждать ситуацию, и нечто большее. И было ему уже неловко за этих людей, которые не хотели ему открыться честно, как прежде было в их отношениях, и за свое вторжение с желанием их увидеть и поговорить. Был какой-то переворот в умах. Отчего? Он увидел какой-то взыскующий и скорбный взгляд.
И вспомнился ему эпизод, как провожали работницу на пенсию…
Он перебирал сегодня с утра фотографии для отбора на удостоверение, и ему попала на глаза одна фотография, и теперь он вспоминал – в контраст существующему положению.
Все прежнее прошло. Прошел этот дух. Что-то кулуарное возобладало в отношениях людей друг к другу.
Затем Антон, постучав в дверь, заглянул в комнатку-корректорскую и, увидав двух сидевших и уже незнакомых ему девушек, представился им. На что они сказали просто, даже с некоторым интересом:
– Да, мы слышали о Вас. Знаем.
Он присел, чуточку поболтал с ними – светловолосой Галиной и быстроглазой смугловато-чернявой Жанной и из разговора с ними понял, что они были не настроены враждебно к Нине Вадимовне: она их не «зажимала», и вообще они были как бы в стороне от производственных вопросов, и их не трогала «Синекура» – сломавшееся слово в устах Жанны, причем она чуть смутилась, проговорив его, что Антон подумал, не ослышался ли он, но не стал переспрашивать – смущать девушек. Что же это значило?
Он сразу же толкнулся и в дверь бухгалтерии, вошел сюда: с ней он некогда был постоянно связан по производственным и финансовым вопросам и даже воевал по ним (но чаще сотрудничал, находил общий язык). Главбух, грозная властительница рубля, как скала неприступная, Надежда Яковлевна, в темно-вишневом костюме, на вид поседевшая и сдавшая физически, была по-прежнему на своем месте. Зоркая. Ее сотрудницы, несколько человек – прежние, даже обрадовались приходу Кашина – зашевелились за столами, над которым словно ветерок прошелестел – головы встряхнулись.
– Ну, что Антон Васильевич, пожаловали, чтоб Вавилон разрушить? – задала вопрос Надежда Яковлевна.
– Боже упаси! Не претендую на эту роль. Хочу понять строптивых, – сказал Антон.
– Вашего-то первого посланника уже «Синекурой» давно девки кличут.
– Что? Что? – удивился Антон. – Уже, значит, безобразие?
– Есть маленькая мафия – благородная…
– Ну примечательно… Учту, учту… Я вижу: на столе у Вас фотография Елены Яковлевны Белых.
– У нее на прошлой неделе – десятого числа – был день рожденья. Мы встречались.
– О, я – свинюшка, позабыл о ней совсем, не позвонил! Дайте ее телефон… Вот-таки!.. Я просматривал свои фотокарточки, чтобы, может, выбрать для удостоверения журналистского, чтоб не заглядывать в фотоателье…
– Так и у нас Вас могут щелкнуть, Антон Васильевич…
– Верно, не подумал я об этом… И вот я наткнулся на фото с Еленой Яковлевной: на нем то, как провожали ее на пенсию…
– Вот и я вскорости туда же собираюсь. На покой. Хватит собакой быть.
– Ну, не будем же самонапрасничать, Надежда Яковлевна. Я Вас знаю…
– Устала сторожить злато… Вот только отпуск отгуляю.
– Едите куда?
– Зовут в Севастополь. Там сын служил.
– Ну, прекрасно!
– Там климат. Там жара. Там хоть лето есть.
– У меня много крымских этюдов, рисунков. Мы бывали в Херсоне, среди белых развалин города древних греков, что после землетрясения почти весь ушел под воду. Здесь купались – в широкой бухте (прозванной «лягушатником» из-за детей). Здесь любила плавать Даша, дочь. Вот когда плывешь от берега бухты и дно ее понижается, то отчетливо видишь под собой, в иле, следы уходящих вглубь прямоугольных каменных кладок – стены затонувших построек; видишь ярко-зеленые водоросли, плавающих придонных рыбок, рачков, моллюсков, паучков!
– Вы так расписываете.
– Дочь в Севастополе не вылезала из аквариума, не раз была на Малаховом кургане среди батарей, где служил Лев Толстой. Однажды она, ребенок, в аквариуме, с таким удивлением взглянула на даму, которая войдя в зал с выставленными кораллами, притворно воскликнула: «Ой, держите, держите меня! Сейчас упаду от красоты!» Видишь все это и сразу прощаешь какие-то недоразумения.
– Но у нас не стало авторитетности – он пропал. Отсюда все.
– Я тоже подумал об этом, Надежда Яковлевна. Спасибо! Пойду на разговор.
– Ой ли? Недосуг нашим королям…
– Где тонко, там и рвется, – заключил Антон.
– Известно, – согласилась Надежда Яковлевна. – Не ужились Ваши козыри.
– С утра же я слышал разговор в вагоне (в метро) двух мужчин: «Что, и опять напоролись?» – спросил один. «Да», – сказал с грустью другой. – «Где? Там же?» – «Да». – «Ну, скажи, как получается! Где тонко, там и рвется!» – «Ну, не всегда заклинивает нас. Бывает: и не керосиним. Паиньки такие»…
– Что ж, сейчас время для людей без царя в голове, – сказала Надежда Яковлевна. – А у кого-то ум за разум зашел. И его не видно.
– Избывай постылого, избудешь и милого.
– Так что приходится худословить.
– Антон Васильевич, Вы сказали, что Ваша дочь балетом занималась. Мои внучки в классе смотрели, как танцевала такая балерина-третьеклассница, – у них глазенки были как рубли начищенные. Это ж прелесть! – сказала Ирина Арсентьевна.
И Кашин, повернувшись перед уходом, опять взглянул на фотографию Елены Яковлевны.
III
Опять был жаркий бездождный день. Ниспосланная благодать для ленинградцев.
И вот был еще такой восторг: перед друзьями в родном коллективе издательства предстала Елена Яковлевна Белых – неизменная любовь Махалова и Кашина и еще других поклонников ее, – очень взволнованная, дрожавшая, в кружевной черной блузке и в белой юбке, – право, что школьная выпускница. Хрупкая чрезвычайно женщина, мать двоих взрослых дочерей. Она тут была с приколотым к блузке орденом, полученном ею за участие девчонкой-переводчицей в 1937-1938 гг. в гражданской войне в Испании, – серой медалью на треугольной колодке с треугольной серой звездой и маленькой красной звездочкой в уголке.
– Я уже все вокруг парикмахерские обежала – время позанимала, – приговаривала она в великом нетерпении: – Ну, когда же меня позовут «на ковер» и отпустят наконец?
Сегодня ее провожали на законную пенсию.
Для подарка ее друзья купили 55 красных гвоздик. Махалов привез с дачи роскошный белый букет жасмина. А Кашин приготовил некогда написанный им маслом этюд на Каменном острове – затерянный уголок с застывшей гладью стоячего пруда среди переплетения зарослей. И ладно ложились, когда начались ее проводы, высказанные от души справедливые слова о ней (и ей!) – слова, суть которых сводилась к тому, как всем нам посчастливилось эти годы работать и общаться с такой уютной, обаятельной и молодой в душе женщиной, знающе компетентной и обязательной.
Антон, выйдя из бухгалтерии, пошел навстречу как раз вошедшим в солнечный коридор Нечаевой и Сенину, ныне бригадиру грузчиков, сопровождавшему ее в поездке. Протянул руку Сенину, обыкновенному непричесанному горожанину с мелкими чертами лица, с перебитым пальцем на правой руке: – Привет, Сергей Николаевич. – И сказал: «Я сейчас, Нина Вадимовна. Минутку… Мы поговорим…»
Антону было мило всегда, начиная с мальчишества, с военных лет, когда он пустился в свободное плаванье, приветствовать таких работяг с открытой душой, тех ребят, которые были с ним, что говорится в вечном союзе, на одной линии не только по совместной работе, но и по понятиям. Он помнил, как целая бригада их на четырех грузовиках помогала его семье при переезде в выменянную квартиру при обмене жилья, и Сергей Николаевич тогда помогал. И он всегда чувствовал их уважение к его просьбам. И никогда не терял с ними контакта. Или быстро находил с новыми, другими.
– Что печален? – спросил Антон.
– А вот мать похоронил, – сказал Сергей Николаевич. – Она уже в больнице была плоха.
– Сколько лет ей было?
– Восемьдесят два.
– Моей матери столько же.
– Три смерти в этом году. Мать, а до нее сестру и зятя похоронил. Он с тридцать пятого года. В отпуск собрался. Говорит надоело, не поеду больше в лес за ягодами. Деньги получил. Четыреста с лишним. И вот втроем они (с ребятами). Переходил улицу – автобус переехал…
– Да, молодой. Жаль. Сочувствую.
– А сестра еще моложе… умерла. Секретарем райкома работала. От рака.
– Город – все переживания…
– Так три смерти… у нас…
– Говорят: бог троицу любит. Ну, примите мои сочувствия.
И Антон про себя подумал, что вчера дважды три дела повторял: дважды съездил в «Лениздат» (из-за этого очередь за зеленым горошком перебилась – пришлось вторично ее занимать), и купленная запонка оказалась с браком – пришлось заменять их (для подарка Махалову ко дню рожденья), и…
Антон и Нина, раскрасневшаяся от ходьбы, присев на диван в коридоре, чтобы никому не мешать и самим спокойно поговорить, пытались уяснить для себя, чем же вдруг не угодила она, не смазливая, не кудрявая, но молодая энергичная новая завпроизводством как замдиректору Васькину, так и его сторонникам, сослуживцам; Антон хотел лучше понять причину, по которой неожиданно возник такой негатив по отношению именно к Нине и такое упрямое отторжение ее, как работницы, через полутора лет ее работы здесь, что стало кого-то и лихорадить в коллективе издательства, хотя срыва плана выпуска изданий не наблюдалось и не было по этому поводу претензий к Нине. Нина ведь немалое время проработала технологом в типографии, имевшей разные виды печати, несла службу исправно.