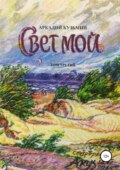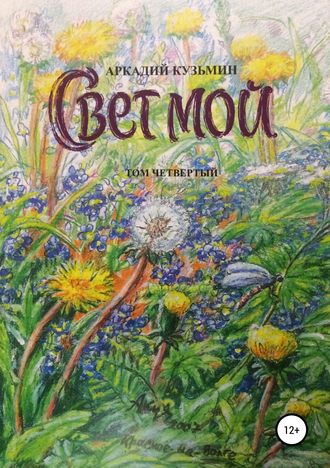
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 4
Янина Максимовна нахохлилась, поджалась – недобрая.
Нужно было прощаться.
Антон встал со стула и стал собираться, чтобы проводить гостей.
VII
Антон Кашин неспроста привел в издательстве наглядный пример из ученичества своей дочери Даши. Он несказанного гордился с самого начала, как отец, ее умением и способностью учиться и реально познавать, понимать и воспринимать окружающую ее действительность и так не доставлять больших хлопот родителям, совместная жизнь которых шла незавидным середнячком, хотя кто-то еще и завидовал им в чем-то. Но везде свои проблемы надолбами возникали, стоило взглянуть куда-нибудь.
Вот мартовским днем коротко звякнул дверной звонок. А спустя минуту в прихожей раскатился бранливый Любин голос – видно, на пришедшую дочь – третьеклассницу. Случалось, что Люба резко отчитывала Дашу, если видела у той какие-нибудь промашки по учебе или, хуже, явную провинность, еще при встрече из школы на пороге квартиры. К несчастью, она не умела воспитывать ее просто, не шумливо-драматическим образом; действуя порой слишком эмоционально, она не отличалась в такой момент трезвостью суждений, объективностью – напротив, считала полностью себя правой, справедливой во всем.
Антон, встав из-за стола, вышел в коридор. И спросил:
– Ну? Из-за чего надвинулся циклон? – Противник всякой истерики, он обычно старался препятствовать тому, чтобы жена частой руганью травмировала дочь – вызывала в ней психологическое отупение. Так что всегда вмешивался, как-то приглушая вскипавшие страсти Любы. Иначе женская буря могла бы пробушевать долго, зря; только был бы урон семье, спокойствию, делу, а толку-то, как ясно показывала жизнь, ровным счетом никакого.
– Раздевайся! Не стой истуканом! – гремела между тем Люба не меньше в присутствии мужа, словно этим самым лишний раз подчеркивая и при нем свою исключительную власть над дочерью, над семьей, – власть, на которую все время покушались домашние. В розовом сарафанчике, она, тощая, отважная брюнетка, гневно жестикулировала в коридоре, почти сжимая кулачки, готовая к бою; бледная же, худенькая темноволосая Даша, пугаясь и тупясь перед ней, у входной двери, на матерчатом коврике, и снуя ручонками, суетливо снимала с себя красные сапоги, черную куртку на молнии, вязаную красную шапочку. – Я вот не дам есть тебе, тогда ты подумаешь, как мне «тройку» приносить! Ты мне ответь, пожалуйста, почему же принесла по математике «тройку», когда знаешь этот предмет на «пять»? Что, я должна лазить в твой портфель – и ловить тебя на обмане?
– Я не успела сказать тебе, мама, – раздеваясь, тихо, дрожаще пролепетала Даша в свое оправдание, что, однако, нисколько не удовлетворило мать.
– Да, если бы ты сразу, когда пришла с уроков, сказала мне об этом, – разве я пустила тебя тогда на культпоход в ваше дурацкое кино? Не заслужила ты, тебе понятно?! Ты – мне наказание, так и знай!..
– Мама, я не хотела скрывать, честное слово… – тянула Даша неуверенно.
– Ну, и что ты увидела в кино? Какой фильм?
– Смотрели «Кот в сапогах».
– Во-во: десятки раз виденное!
– Нет, это был фильм новый – японский.
– Папуля все тебя жалеет – все приходит на выручку… Не было б его, – я б давно всыпала тебе, ой! Он не разрешает. Моли бога, что он дома. Разочек в полгода – вполне бы хватило. У, порода бабкина – бесчувственная! – взвилась Люба. – Ей говоришь, а она на карту лупиться!
– Потому что много слов, Люба, – сказал Антон. – Сыплются они, как из рога изобилия…
– Нет, на кой черт мне это надо было! Не могу понять тоже… Баба дурью маялась… На старости лет ребенка ей захотелось… Ой, как я жалею, что влипла в это детство золотое. Жизни нет у меня. У меня же жизни нет! Ты кровь мою пьешь в полном смысле слова. Мне гадко. Мне не хочется с тобой общаться. Справедливо, верно, отец мне говорил: «Люба, а тебе, видимо, и не следует рожать, ты к детям равнодушна, они осложнят тебе жизнь».
– Ну да, ты то приводишь чьи-нибудь слова, мнения, если тебе выгодно сослаться на что-нибудь, то за милую душу ниспровергаешь всех, если невыгодно… что-нибудь, – поймал Антон ее на слове… – Дайте тетрадку… взглянуть на ошибки. Вернее будет. – И, взяв тетрадь с трюмо, шагнул в комнату.
Люба все кипятилась за дверью, правда, уже без прежнего напора.
Тем временем Антон, открыв за столом на нужной странице Дашину тетрадь – с перечеркнутым красным карандашом примером и уверенно выставленной под ним цифрой «3» и дотошно пересчитав сложение десятитысячных знаков, нашел, что Даша сложила их правильно. Может быть, пример был на вычитание? Проверил: и по задачнику так. Выйдя опять из комнаты, сказал:
– Не вижу ошибки. Пример верно решен. Может, Вера Федоровна ошиблась?
– Вечно ты дочь защищаешь, чем портишь, – нервно отпарировала Люба, полыхая глазами, лицом. Она все-таки была на взводе, закусила удила; ее несло – нелегко теперь остановить.
– Но ведь надо признать: налицо здесь недоразумение.
– И не подумаю! – Люба лихорадочно, что-то делая, сновала туда-сюда.
Даша, будто почувствовав действительно поддержку, запросила:
– Мама, я есть хочу. Хочу есть.
– Спрашивай у отца, – ты на его деньги ешь; разрешит он тебе – накормлю, – бросила мать. – Я дать не могу, не такая добренькая, а он демократичный, сердобольный, – противопоставляла она его себе. – Он, конечно же, позволит – в пику мне… Разве я не знаю?..
– Папа, можно мне поесть? – воспользовалась ее советом дочь.
– Да, возьми сама, что хочешь, и поешь. – Не усомнился он в такой необходимости.
Тотчас же Люба демонстративно ушла с кухни. И запричитала по обыкновению:
– Как мне мало радости в доме, ой! Господи! На душе так тяжело… Прямо жутко. Век бы вас обоих не видеть мне, ой! – причитала с обычным привздыханием – по поводу всего: говорила ли она о ребенке при муже, ребенку ли самому, мужу ли о чем-нибудь. Это было нескончаемо. Одно и то же. И вовсе не потому, что все были уж так плохи, но в столь скверном свете она все видела при плохом настроении и выставляла его напоказ. – Устала я с ней. В вечном услужении. Может, ее в интернат на полгода сдать? Может, тогда она поумнет?
– Ну, ты все-таки думай, что говоришь! – решительно пресек Антон ее изливания. – Что ты несешь – ради красного словца?
– Нет, почему же! – сказала Люба как ни в чем не бывало, сверкая глазами. – Вон Ольга Михалева отдала мальчишку, так он через полгода шелковым стал: сразу наелся. Вся дурь мигом вылетела. О, какой послушный теперь!
– Не городи ты чушь! Не позволяй себе… Тем более с оценкой этой какая-то белиберда… Ребус…
– Ай, не выгораживай ее! – упорствовала Люба. – Не унижай, пожалуйста, меня сомнением. Она этим пользуется. Ни во что не ставит мать. А я требую от нее элементарнейших вещей. И здесь – особый случай: ведь она пыталась скрыть от нас, родителей, плохую отметку свою прежде чем пойти в кино. Кстати, замечаю: то не в первый раз. Ты-то меньше возишься с ней – не видишь; как же: у тебя взамен есть любимая работа, которой ты отдаешься весь… Впору позавидовать.
Антон не стерпел – порезчал в голосе (вечно он и ее воспитывал):
– Да полно, право, более десятка лет ссылаться, если что, на любимое, на нелюбимое. Кто же запрещает найти и тебе занятие по душе?… Найди его – и полюби! Но нельзя же, согласись, шпынять… Зайди-ка на минутку ко мне. Хочу досказать… не при Даше.
VIII
Она послушалась, равнодушная и с некоторым установившимся презрением к тому, что могла услышать от него: зашла в комнату и села в дальнее кресло у стены. И он, притворив за нею дверь, заходил перед ней и обсказывал все с сильным, как умел, убеждением, казалось ему:
– Пойми же хорошенько, Люба, что грех шпынать ее, разговаривать с ней менторски-назидательно, постоянно оскорблять ее, провоцировать скандал… Она ж – только ребенок, притом еще неокрепший во всех отношениях. С большой уже нагрузкой, – посмотри какой. Помимо учебы занимается в спортивной секции, в танцевальном кружке, в хоре; является председателем совета дружины, редактором стенгазеты, еще кем-то… Разве этого мало?.. А сколько еще бессмысленных классных заданий, вроде витражей, коробочек по труду и каких-то альбомов? И нагрузка на психику все растет… Снова я тебя, Люба, прошу: ты не делай вынужденно, через силу то, к чему не лежит душа; только никого не кори, а то сделаешь что-нибудь хорошее и этим же лупишь нас с Дашей, наказываешь, стонешь: «Ах, я всех обслуживаю!..» Веселенькое дело. Так и обед твой не лезет в горло, право…
И опять у него был с женой очень трудный разговор – все вращавшийся в конечном счете вокруг ее необоснованных требований, или, вернее, претензий к мужу: почему это он не сделал ничего для того, чтобы она была счастлива замужеством, как рассчитывала в девушках, да просчиталась по легкомыслию. Она не создана для возни с детьми, не любит их; не считает, что они – цветы жизни, – пусть другие бабы млеют над ними от счастья, а ее увольте от этого… Он-то прекрасно все знал… на что шел…
От волнения он тоже сел. К столу. В свое рабочее кресло.
Ее заведомо категоричные, шедшие наперекор суждения, отскакивали от всего, точно тугой резиновый мяч. Нет, беды в том не было. Но все-таки несправедливо: в пылу она, разумеется, излишне наговаривала на себя. Самозащищаясь, задиралась, как бывает. Например, соклассники Даши, едва показывалась она в школе, любя облепляли ее со всех сторон, даже мальчики, что редкость, – для всех находилось у нее теплое, ласковое слово… Не далее вчерашнего они ее просили приходить к ним еще: им очень запомнился недавний случай, когда она, занимая их в отсутствие учительницы, играла с ними возле школы! И так искренно она еще дивилась, сокрушалась по этому поводу: как же, видимо, мало было радости в семьях детей, что они запомнили такое!
– А! Оставьте меня в покое, – говорила теперь Люба отрешенно, отгораживаясь грубостью. – Я ничего не хотела и не хочу. Хотел ты. Вот и чухайся себе с дитем на здоровье!.. А будь моя воля, – я б ушла…
Антон только глянул ей в глаза: его натуре всегда претила ее выспренность.
– Но ты-то, я уверена, не уйдешь никуда, – сказала она в знак его обвинения.
– Верно, – согласился он. – Не могу. Не смею позволить себе этакую роскошь. Даже и сказать. И разве уходом своим (будь я другим) научишь человека чему-нибудь хорошему? Тем более тебя…
Люба, пожалуй, однобоко понимая свою роль и место в жизни, опять говорила о том, что одной ей было бы проще – свободнее и можно хахаля завести, как ее знакомые. Забот не знают. Говорила уже все знакомое.
И он справедливо возмущался:
– Ты держишься одного своего конька. Но пропагандировать для других, известно, легко то, что сама не будешь делать, – это несерьезный довод. Один хахаль – значит чей-то муж, отец, пьющий; если не один – это может не устроить, да? И чем-то он лучше меня, мужа, окажется? Ведь можно не угадать… Ненормально все: тебе, Люба, за сорок, а ты все хвост распускаешь, петушишься, все торгуешься со мной… За мнимую свободу…
– Ну, в городе современном прожить одной несравненно проще, чем в деревне… Есть где переночевать… Хоть сегодня…
– Одни декларации… Твои родители тоже так отгородились от всех… И что: сами наказали себя на склоне лет… Потеряли уважение…
– Но пойми же: я хочу и не могу… – И нижняя часть лица Любы мелко-мелко задрожала – предвестник близких слез у ней.
– Так зачем же тогда в кучу городить бог знает что?
В раздражении (и чтобы слез не видеть) Антон сидя отвернулся от нее. Затем встал, открыл немного форточку. Снова сел. И помолчал. Она также молчала, справляясь с волнением. Окно комнаты выходило на проспект, и стало слышней шумливое движение не улице транспорта.
Люба вздохнула уже обреченно, не переубежденная:
– Ох, хотя бы поскорей закончить все эти наследственные дела после смерти отца. Как это так? Знал, что доживал последние дни, а не оставил даже завещания! После смерти мамы трясся над нажитым; боялся, что обворуют… Я измучалась, издергалась с братцем. Меня угнетает вид протухшего и полусгнившего родительского барахла, над которым мать и отец почему-то от жадности тряслись всю жизнь, сколько помню. Не дай бог перепадет к кому-то…
– Не случайно же, – сказал Антон, – есть официальный медицинский термин-понятие: «синдром Плюшкина» – это свойственно старикам… Куда как понятно! распространенное явление.
– Но вспомни: они нам и на первых порах даже тарелки не дали, мы у соседки занимали. Хороша-то ложка к обеду… И вот теперь Толя из-за этого совсем, чувствую, отошел от меня, как брат, – все хапает, хапает. Как в прорву… Хотя к родителям был холоден… А еще партийный, с ученым званием, общественник. Видеть его не могу, – до того он мелочен, неприятен мне… Не хочу даже встречаться больше с ним: взвиваюсь… Надоело все!
– Да ты, если можешь, не бери ничего, прошу. Нам-то на что? Посуди, свои вещи, книги класть некуда – места не хватает… Хочет он взять – отдай ему все.
– Спасибо, – прочувствованно поблагодарила она. Помягчела. – Обещал позвонить мне ровно в три часа; уже четыре, а звонка еще нет; сегодня мы с ним уже не попадем в эту контору по наследованию, чтобы оформить все документы. Теперь жди, когда он разразится этим звонком…
– Ну, на среду договаривайся, если он позвонит, а то если мы в Эрмитаж собрались завтра: удобно – у Даши нет никаких кружков…
– Так мы насчет завтрашнего? – Уже более успокоилась Люба. – У нее же все-таки театр в одиннадцать.
– Давай и встретимся там, на Невском. Совместим… – Он по прежнему сидел, но повернувшись к ней.
– Ладно, – согласилась она тихо.
– Примерно в час? Я к этому времени сделаю дела в издательстве.
– Да, раньше вряд ли успеется.
– И тогда на месте посмотрим, как будем чувствовать… Я-то выдержу, но вы… смотрите сами… Если не устанете после театра…
Люба крикнула из комнаты:
– Даша, ты попила уже?
– Сейчас, – послышался ее голос из кухни.
– Иди-ка сюда!
Скоро та вошла в комнату, послушно и готовно стала у порога в ожидании. Люба опять строго спросила у нее:
– Вам сказали, в какой театр вы идете?
– В центре города, сказали, – был ее ответ. Она слегка было запнулась.
– Видимо, это – кукольный театр. Ну, утром уточним. Кто вас поведет?
– Вера Павловна.
– Молодая учительница? – опять хмурясь, отрывисто спрашивала Люба.
– Да, молодая, – спешила сразу ответить Даша.
– В какое время спектакль?
– Не знаю. Велели в девять часов придти к школе.
– Значит, кукольный театр.
– Я не знаю.
– Кто из ребят идет?
Даша стала по фамилиям перечислять учеников.
– Что, не все пойдут? Почему?
– Билетов не хватило. А кто… кого в пионеры будут принимать.
– Настя Иванова пойдет?
Настя была Дашиной подружкой.
– Нет.
– Отчего? Она же почти отличница, как и ты. Одна «четверка» в табеле.
– Нам учительница сказала: «Встаньте, кого я назову». И меня назвала.
– Стало быть, с пятерошницами идешь? Как же тебя назвала – «с тройкой»?!
– Не знаю. – Даша нагнула голову.
– А ты не подошла к Вере Федоровне и не спросила, дрянь такая?
– Люба, прекрати! – крикнул Антон. – Мы же только что говорили об этом. И что у тебя за недержание на язык?! – Её ругательный жаргон прямо-таки коробил его. И где только она понабралась его?
– Мама, мама, ты добрая; ты мне даже компотику дала. – Даша к ней подошла и прижалась.
– Подлиза несчастная! – чуть подобрела Люба. – А как называется спектакль?
– Нам тоже не сказали… Ничего: ни какой театр, ни какой спектакль.
– Ну, довольно! Иди, уроки делай. А то на тренировку к семи часам идти… Опоздаешь…
– Подожди чуть, мама… – ластилась к ней Даша.
– Кончай подлизунье свое! Противно мне с тобой! Ты непорядочно со мной поступаешь. Мне ничего не хочется для тебя делать. Ни-че-го! – раскатывался Любин голос.
– Ну, мама, мамочка…
– Мне, наверно, тоже надо ехать в театр, – сказала Люба Антону.
– Пустят ли тебя? – высказал он сомнение.
– Да будут, наверное, свободные билеты. Ведь кто-то наверняка не придет. – И к Даше снова: А Степанова идет?
– Да. – сказала Даша.
– Принеси сюда дневник!
И, как только дочь принесла дневник, мать, открыв его, опять взвилась – увидала, что, начиная с сегодняшнего дня – вторника, он еще не заполнен:
– Да ты, что, Даша?! Да когда ж ты перестанешь обманывать меня? А еще вчера смотрела мультики. Кто – папа разрешил? Я ведь запретила…
– Мамочка, я просто забыла… – говорила Даша.
– Врешь! Фу! Как это неприятно мне, что я, взрослый, умный человек, должна ходить вокруг тебя… и песочить…
– Я сейчас заполню его, мамочка. Давай…
– Н-на, уйди с глаз моих долой! Тошнит меня от тебя! Тоска зеленая!
И та ушла покорно, понурив голову.
IX
– Как-то нелепо получается, – заудивлялась теперь Люба. – Я на нее ору, тумаки ей иногда даю, и она-то все равно не боится и не слушается меня; а ты не орешь, не наказываешь ее, но она ведь больше слушается тебя. Скажи, отчего?
– Хорошо еще, что сама, голубушка, признаешься в этом, – отходил Антон в сердце. – Плохо то, что у тебя, или, точнее, в твоих с ней отношениях (а ты их так поставила) нет равной середины: вы то ругаетесь, то лижетесь…
– А в твоей-то жизни разве ровно все? – Она прищурилась.
– Не скажи… Я образумился… И можешь тоже ты. По моему примеру.
– Ой, мне тяжело перемениться. Извини.
– Очень нужно, Любочка. Для всех в доме.
– Нет терпения, Антон. Извини. Правда, правда!
Потом Люба подгоняла:
– Все, кончай, Даша. Уже десять минут седьмого. А нам к семи.
– Я кончила. – Та подошла к матери, уже совсем не грозной.
– Пока я ругалась, ты на карту смотрела, – сказала мать. – А теперь увидела, что я успокоилась… Чтоб тебе ни дна, ни покрышки! Как ты устроена!
– Да так, как и ты сама, – сказал на это Антон.
Да, они с дочкой уже ворковали мирно, с шутками, собираясь на занятия в легкоатлетическую секцию.
– Даша, бери тапки свои. Где они?
– Здесь, в пакете.
– Не выпендривайся. Время идет. Только после занятий из зала не выходи.
– Ладно.
– Оденешься, куртку расстегни и подожди кого-нибудь из нас – можем запоздать. А то поздно, знаешь, какие ребятишки!.. Вон ты слышала, как мне, женщине, лихо ответил одиннадцатилетний школьник, когда я спросила у него, почему он курит в школе: «Хочу и курю!» И даже голову не повернул ко мне. Полное презрение к старшим. А ты-то, что, козявка, для него… для таких…
– Мам, а знаешь отчего у Лены Тушиной папа ушел?
– И от нее ушел?! – скорбно ужаснулась Люба. – Такая милая девочка. Правда, милая?
– Очень.
– И пригожая мама. Мне очень нравится она.
– Да. Она, Лена, знаешь, мне сказала по секрету, что отец от них первый раз ушел, когда ей было четыре года. Сказал ее маме, что не мог переносить детский плач.
– О боже, какой нежный! Это что-то новое в мужчинах…
– Потом, значит, вернулся он. А когда у Лены сестренка родилась, он снова ушел.
– И, что снова из-за плача ребенка?
– Наверное, – по-взрослому говорила, пожимая плечами, Даша. – Я не знаю…
– Зачем же тогда они рожали второго? Нет, это только годится в рассказ о нравах наших испорченных пап и мам. Подумать только! Возьми и напиши, – посоветовала Люба Антону. – Вместо своих сочинений о пользе растений.
– Придется, – ответил он.
– Ну и что же теперь, Дашенька?
– Я спросила у Лены: опять же придет? – зачастила Даша. – А она сказала твердо: «Теперь мы с мамой его не примем ни за что!»
И после Люба успокаивающе говорила по телефону позвонившей ей Гале Березкиной, матери Димы, учившемуся вместе с Дашей:
– Да что ты, что ты, Галя, постой, послушай; я думала ты смеешься… Не волнуйся. Есть у нас лишний пионерский галстук. Я дам. Даша его один раз надела в школу. Да, да! Пусть Дима придет за ним. Пришли!
– Что, вышла с галстуком проблема? – поинтересовался Антон, едва Люба кончила телефонный разговор с Галей.
Люба поспешила поделиться с ним, взволнованная:
– Не одна я, наверное, такая сумасшедшая мать, а и другие тоже. Вон Галя стала гладить Димин галстук – и сожгла его. А завтра утром Диму тоже принимают в пионеры. Едет в музей. В глазах Димы ужас застыл, едва он увидел, что сделалось с галстуком. Представляешь ее, матери, состояние… Магазины уже закрыты – нигде не купишь галстук. Так она, разговаривая со мной, рыдала в трубку, а я сначала думала, что она смеялась так странно, – не сразу поняла. И дети-то нынче капризные. Так Дима ей сказал: «Ну, Дашин галстук я надену». Видишь, наша Даша в почете у мальчишек. Да и девочки, не скажу, благоволят к ней.
– А ты вот честишь ее. Такая-сякая, мол… И еще убойными словами. Давно говорю: надо прекратить. Ведь все отзовется впоследствии на тебе… Подумай!
– А в музее дети, когда их выкликают, бледнеют, даже падают в обморок… от придуманной торжественности этой…
С танцев Даша вернулась потухшая, явно нездоровая.
– Вот тебе наш театр и экскурсия в музей… – Посетовала Люба. – Ну, что поделаешь!..
И уже весь вечер Люба была ласкова, предупредительна с больной дочерью, ворковала над ней, называя ее зайкой, ласточкой. А у той стремительно подымалась температура.
X
К этому времени великого опустошения (и в умах не только русских людей) совпало так, что у Антона Кашина не осталось и закадычных друзей и близких по возрасту и духу товарищей-сочувственников. Ни одного. Он ощущал эти невосполнимые потери, хотя, если признаться, он всегда был подвержен одиночеству по складу своего мироповедения, если можно так выразиться. И потому даже не пытался как-то переустроиться получше, еще подоступнее для всех, без похожести на других. Опереться не на кого. Он – один!
Да, мир большой жил сам по себе, движимый своей энергией; а он, Антон, жил тоже сам по себе, приноравливаясь, не сдавая своих позиций. Он собственно, как всегда, чувствовал это относительно города и в лучшие свои годы (но он их не наблюдал); либо город не принял его, не как город Ленинград, а просто город; либо он, Антон, полностью не принял его в сердце своем, сколько бы не восхищались им ротозеи, небожители. Он как чувствовал себя здесь временным гостем.
Однако Антон в эти последние годы, вращаясь в людских коллективах, находил новых знакомых из числа молодых работников, работяг, проявлявшим интерес к его роду занятий, вместе работая и сближаясь с ними. Все закономерно. Антона привлекали неоднозначные характеры.
Антон привык писать на натуре, показывавшей ему многие открытия в его творчестве. Для этого он использовал любые возможности, особенно в летние и осенние периоды, выезжая из города поближе к сельской местности. Для него присутствие на природе было обязательно для совершенствования в творчестве, поскольку он не просто продолжал художничать, но старался найти в этом новое продвижение; это было для него постоянной учебой, самосовершенствованием не в том, чтобы лучше выписать предмет, а найти ему должное место на холсте.
К этому времени Даша жила уже самостоятельно, замужествовала; она вольная, работающая, раскрепощенная, моталась по свету в свое удовольствие. И Люба с Антоном каждый по своему распоряжался своим временем, досугом, свободные друг от друга. Хотя финансы (главное в семье) и питание (домашнее) были общие (и каждый мог готовить еду для себя), – из-за этого у них никаких недоразумений никогда не возникало, как и прежде.
Они не задирались всерьез часто, не безумствовали в том лихо; стычки у них происходили локальные, пустяшные, препирательские. Чаще всего в зависимости от Любиных настроений. У ней в голове словно прокручивалась самозаводная обвинительная лента – отцовское или, может, дедовское наследие. Она и включалась особенно в это тяжелое для России (а, значит, для всего населения) безвременье, кинутое под ноги либеральным коммунякам – типичным реваншистам, подогнувшим страну под себя, любимых. Бездарей. Они-то и дефолтом всех наградили. Худо было. Тогда Антон, проработав четыре месяца над детской книжкой, не получил ни копейки: лопнул банк, субсидирующий издательство, и оно в одночасье лопнуло. Тогда приходилось продавать какие-то вещи, дабы прососуществовать.
В то время и небо топорщилось, гневалось. И люд непутевый в городе ежился, каруселился. Да, был словно замкнутый круг. Пошлый, проклятый. Неизлечимый. Своеобразный запой.
Люба справедливо мучалась и приговаривала вслух, в присутствии Антона:
– Чувствуешь унижение на каждом шагу, в родной стране! Правительство открещивается от всего! Милиция тоже! В фирме Дашиной идет закабаление – заставляют работать в выходные дни! Но не оплачивают. Полный произвол! И считается: это иностранная фирма! Позор! Люди переродились… Как душа болит!
Она теперь переживала и потому, что считала: она зря прожила жизнь, зря родила дочь, которая нынче мучается из-за этих доморощенных, не научившихся ничему козлов – никчемушных мужиков. Она в России пока несчастна – на каждом шагу. Невозможно так жить!
Стала нужна какая-то справка для обмена паспорта. Люба полезла в коробку, где хранились и фотографии. И увидела пожелтелую фотографию своей матери. Проговорила:
– Вот и мама моя прожила бессмысленную жизнь. Рядом с деспотом. С пенсией в 58 рублей. И она была несчастлива в любви. Не вышла замуж за профессора, любившего ее. Побоялась поехать за ним в Москву, а он ждал ее. А как бы было хорошо, если бы все было иначе! – Так душа болит! – повторяла Люба.
– Чего ты хочешь? – пытался Антон понять ее.
– Свободы от тебя, – сказала она.
– Да я давно согласен. Мы об этом говорили много раз.
– Но я-то не могу. Как мы можем разъехаться? Как? – она говорила. – Между прочим нас ничто не держит. Можем и расстаться хоть сегодня. Ты все переводишь на такие рельсы… Черт знает, что такое! Ты считаешь, что ты сахар – такой покладистый? Если так считаешь, то глубоко ошибаешься; если сахар, то у тебя не было бы двух разводов (имею в виду и себя), – кольнула она его. – Ты всегда пер по прямой, не сворачивая, и считал, что только так и надо. И мои желания и желания для тебя – одна блажь. Ты же – второй Лев Толстой. Гений хренатенный – бросала она, сильнее расходясь в гневе, что не жила княжной. – То сценарий пишешь, то еще какого-то рожна произведения – классику, которая нынче никому не нужна. Коту под хвост! – Она не церемонилась в резкости и в определении нужности вещей и увлечений.
Этот их разговор перебила зашедшая в квартиру заплаканная соседка сорокалетняя:
– У меня, Люба, такая обида, такая обида!
– А что? – спросила Люба.
– Мужик работать посылает.
– А какая ж тут обида, Раечка! Он всю жизнь работал, хомут тянул. Теперь хочет, чтобы и другие члены семьи ему помогали. Что ж тут плохого?
Несмотря на наносимые ею ему обиды в гневе, Антон не оставлял Любу.
XI
Как только партийные проныры, раскромсав СССР, начали править Россией, все в жизни россиян опустошилось, вздыбилось и накренилось; обстановка в взбаламученном обществе заставляла всех граждан самим действовать, рассчитывать в своих делах насущных лишь на самих себя, на собственные моральные силы, дабы как-то выжить, не пропасть зря.
Новоявленные реформаторы, безнаказанно хапнувшие все сбережения населения – громаднейшие накопления, став так в одночасье миллионерами, возносили «на ура» реформы Гайдара, а простой страдающий народ проклинал их, их свободу полного разграбления государственной собственности и ползучий суверенитет окраин, когда и каждая малая шишка захотела иметь личный заморский дворец. А почему бы и нет?
В Ленинграде все крепчал февральский мороз, ветер обжигал дыхание.
Антон Кашин, лавируя на неустроенно захламленной Сенной, меж ларьков, ледяных наростов и гулявшего мусора, пробирался к улице Римского-Корсакова; он нес эскизы иллюстраций к роману «Гибель Иерусалима» – заказ частной издательской фирмы. Однако при переходе Московского проспекта, за косяком глухого забора, ни светофора, ни регулировщика не было; пешеходы с авоськами, спотыкаясь и опасно рискуя, прытью сигали туда-сюда сквозь несущийся поток автомашин.
Вот перед Антоном скрипнули тормоза, и благожеланно водитель притормозившей белесой легковушки жестом показал ему, что он уступает ему путь для перебега, мол, пожалуйста, давай: дуй! Что и сделал Антон немедля, не задумываясь нисколько и только удивляясь как шоферской доброте, так и своей последовавшей почему-то прыти. Откуда же она взялась в нем, не психованном вроде бы горожанине? Он еще не знал такого рожна за собой. Ну, психозные времена!
Но еще больше уж следом удивило его то, что подле рыбного магазина «Океан» он буквально уткнулся в сероостистую шубу, укутавшую с головой Викторию Золотову (да, ее, располневшую, он не сразу, но признал). Они очень давно не виделись друг с другом, и он, никогда не сходивший с ума по ней, давно не то, что охладевший в своих чувствах к ней, с было вспыхнувшем в нем желанием сблизиться с ней, смотрел теперь на нее, как на нечто потустороннее, что-то сердечное, но не предназначенное судьбой именно для него.
Это стало для Антона как бы намеренным свиданием с прошлым, напоминанием о несбыточной мечте и о том, что могло бы быть, если бы исполнилось возникшее тогда его желание полюбить Викторию (она ему нравилась); но вот спасением его от возбуждения любовного явилась ее витиеватая сопротивляемость, т.е. явное пренебрежение ее к его чистым стремлениям. Потому он вскоре отступился от нее благоразумно, давал ей надежду не прятать совестливость перед ним. Верно, отступился совестливо, он полагал теперь, независимо от того, верным или досадно ошибочным стало его возвращение к проверенным отношениям с Любой, тем отношениям, которые он в душе подвергал сомнениям не раз.
Собственно, была простительна, он считал, эта попытка вновь влюбиться: она пришлась на время его полного развода с Любой – в период безвременья для него. От проб и жизненных ошибок не застрахован даже гений, не только обычный смертный. Очень робкий в делах сердечных.
– А-а, Вы, Антон Васильевич, куда-то правите? – услышал он приятно знакомый грудной голос. Узнал Викторию, вопросил:
– А ты чем-то озабочена?
И она сказала, что моряк-брат, служивший в Калининграде очень болен. Туда она едет сегодня. И Антон посочувствовал ей.
Виктория раньше, когда Антон впервые увидел ее, была неотразима внешне, как только-только распускавшийся бутон белокремового пиона и столь же своим весело-общительным характером, обликом, мягкой походкой; она, впрочем, чем-то походила на Оленьку, которую Антон все не мог забыть не то, что из-за ее недетского предательства, а из-за того, что она, он считал, бездарно попала в беду из-за своей девичьей доверчивости мужскому вандализму маститого кавалера, победителя. Виктория, однако, вела какой-то новый непонятный – интруистски-волонтерский образ жизни, симпатичный, понимаемый и одобряемый людьми.
Ее общительность и обаятельность, стремление поступать естественно, как ей хочется, понятное ему, и привлекло его к ней.