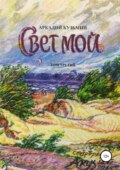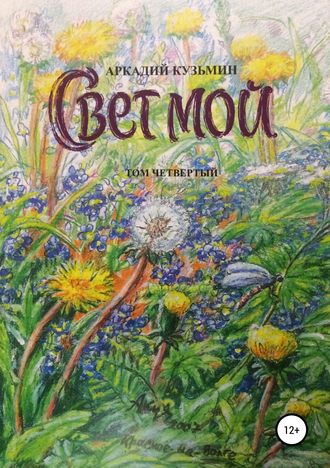
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Свет мой. Том 4
Он убедился наглядно, что стоило ему хотя бы день, какой упустить – не порисовать, тогда практический навык в этом без постоянной практики словно улетучивался и рука не слушалась и затем уходило большее время на его примерное восстановление; а если он неделю рисование и писание пропускал, тогда уж дней десять требовалось ему для новых занятий с кистью, с красками, с пером – для того, чтобы наверстать упущенное в творчестве, чтобы быть и чувствовать себя в привычной творческой форме и чтобы рука привычно слушалась. Навык трудом приобретался. В порядке вещей. Это не являлось чем-то придуманным, отнюдь. Нечто неуютное, непохожее на мир, натужно придумывают для себя, как утеху, вечные самовыдвиженцы-авангардисты. И пускай! Природа роскошно придумывает одну только реальность, понятную всем. Читай ее и ею восхищайся!
«Однако же есть, есть омертвление в мозгах человеческих. Не говорите: нет. Земля полнится примерами тому. Эволюция не грозит нам».
Антон тут весь настолько «ушел» в летучие творческие рассуждения с самим собой, что буквально уперся в толпе на перроне в плотную заметную фигуру Ефима Иливицкого, о ком начисто забыл к стыду своему.
– Э-э, что, уже не узнаешь своих, раб божий? – самодовольно зарокотал голосом Иливицкий. Он был в тонкой палевой рубашке и тоже держал в руках складной стульчик и планшетку с бумагой. Антон, отчасти смущенный, сразу вспомнил, что Ефим накануне напросился в сопровождающего: он хотел, пользуясь случаем, зарисовать Антона перед этюдником, – такой натурный рисунок без передачи портретного сходства мог бы стать отличной иллюстрацией в книге! Что ж, благое дело! Как не согласиться!
Только Антон предупредил:
– Ты уж сам подлаживайся под меня, я не буду позировать тебе!
Друзья по военно-морской службе, они со временем духовно, если можно так сказать, отдалились друг от друга, хотя никогда и не были столь близки и хотя ныне работали в одном помещении учреждения, только Антон служил штатным производственником, а Ефим, был внештатным субъектом; Ефим рисовал, как и другие плакатисты, плакаты, а Антон их выпускал в свет, вернее следил за сроками и качеством их выпуска, – следил наряду с сотнями других всяких дел. Пока следил. Так сложились обстоятельства.
Ефим, став свободным графиком, держался как признанный мэтр, не тушевался ни перед кем; он входил в известное объединение плакатистов Ленинграда, имеющим постоянный заказ особенно на ходовые социальные темы, и их напечатанные плакаты в форматные пол-листа регулярно вывешивались в людных местах города. Они были популярны.
Ефим, довольный от состоявшейся встречи, хмыкнул и, здороваясь, крепко пожал руку Антона и забасил прежде него.
Электричку еще не подали к платформе.
– Мне показалось: будто где-то там и Осиновский промелькнул, – сообщил Ефим с некоторым удивлением. – Так плотно кучкуемся друг с другом и на работе, что разлепиться никак не можем…
– Все можем, все может быть, – и Антон уцепился за разговор:
– Фима, в пятницу ты застал ведь позорище с Осиновским? Когда тот, говорят, разошелся – нахамил даже беззащитной девушке-калькулятору…
– А-а, этот эксцесс?! Да-да, посчастливилось мне, – подтвердил Ефим, – присутствовал при сем. Ну, кто чем добывает себе славу. Все средства хороши.
– Безобразная слава для мужика.
– Если человек рисовать-писать не может, а рисуется так… надо же ему…
– Не за счет же нанесения ущерба кому-то. – Антона возмущало в душе то, что Осиновский, как начальник редакционно-художественного отдела, ставший каким-то одержимым монстром, пытался главенствовать во всем, стравливать всех в издательстве, и при неумелости и мягкости характера молодого директора, который все сглаживал, никакой управы на него не было. Оттого он возомнил себя незаменимым специалистом, умелым дизайнером, новаторские книжечки которого шикарно печатаются в Австрии, в ГДР, в Венгрии. – А ваш традиционный актив – совет был? Прошел?
– Да. Но это не обсуждалось. Так… Потявкали чуть… Вообщем лай за сценой был. Наш актив совершенно безактивен в разборках моральных. Мы в плакатах энергичны. Хоть куда патриоты. – Ефим как бы позировал или бравировал отстраненностью оттого, что не стоило его внимания. И уже любезно встретил подошедшего графика Комлева, еще крепкого курчаволосого мужчину:
– Ты, я вижу, уж отметился горячительным? Празднуешь?
– Могу сметь, кореша! – Комлев был хорошим книжным иллюстратором и семьянином, однако позволял себе иной раз и утречком пораньше пропустить рюмочку – другую… для полезного веселия… – Еду на дачу.
– Увы! Вот обычная наша жизнь! – Иливицкий развел артистично руками перед Кашиным.
– Но ведь это нечто иное как оправдательный ей приговор. Вернее – ее вывертам. Твори все, что тебе ни заблагорассудиться. Рассудку вопреки…
– Нет, Антон, каково ты философствуешь! Вечно не согласен…
– С чем же? – друзья при встречах по обыкновению чаще всего дискуссировали обо всем.
– С тем, что человек-то же стадное животное и живет по тем же биологическим законам. Его психику не переделаешь уже. Отсюда – все огрехи. И смешно требовать от него большего. Он запрограммирован так.
– Людей нужно просвещать практически и не прощать зло…
– Но не получается нужное. Ну, допустим, ты – талантливый просветитель, просвещаешь жаждущих, а кто исполняется желанием въявь последовать примером за тобой, как за Христосом?
– Знамо, редко кто. Поколение другое – с разницей в годах наших. Да и я – неверующий. Верую наощупь, когда в руках краски…
– Вот-вот, приятель. – И Ефим посмотрел значительно на Антона, на его стоявший у ног тяжелый карминный этюдник, как бы непонимающе: зачем он ему? Что дает? Какой престиж? – Помнишь, мы мечтали после балета «Лебединое озеро», который шел в Мариинке, и как воспринимали все близко, ранимо? Как, соглашаясь или не соглашаясь, без ненависти, хотя и без любви, но дружелюбно, обсуждали и спорили о значимых знакомых и незнакомых полотнах, которые видели в Эрмитаже и в Русском Музее, и в Академии Художеств? Как часто мы там везде бывали… И куда теперь все ушло?
– Не жалей прошлое, надо принять достойно настоящее, Фима, – только сказал Антон. – Начатое нами в жизнь положится. Но не нам о том судить.
Делить им было нечего. Антон признавал в нем всегда отменного рисовальщика, однако и сам, кроме книг, разрабатывал эскизы и исполнял рабочие оригиналы открыток, которые печатались огромными тиражами по офсету и высокой печатью с фольгой на прессах – новогодние и жанровые, и политические и при продаже которых даже порой возникали очереди покупателей. Его открытки даже Москвой признавались лучшими по графике, что отмечалось в циркулярах комитетчиков, присылаемых в типографии.
Болотного цвета вагоны электрички, перестукивая колесами на стыках рельс, плавно выдвинулись к платформе; пассажиры скопом вошли в них и, довольно разговаривая, расселись по отлакированным скамьям. Рядом с троицей художников, стоявших у выхода, поскольку Антон и Ефим ехали лишь до Лахты (только Игорь – до Тарховки), расположились впятером две шутливые семейные компании, старавшиеся довыговориться.
– Что еще: немощный женился, – во всеуслышание сказал белобрысый мужчина.
И уж пошло совсем прилюдно – театрализованное обсуждение такой новости.
– Что?! – воскликнула миловидная дама. – Этот старый греховодник?
– Да. В семьдесят лет взял в жены двадцатидвухлетнюю диву.
– Ну, мир умом тронулся, верно. Ума три гумна, да сверху не покрыто.
– Ну, может быть, не мир, а она: говорит, что любит его.
– Как же не любить за деньги.
– Посадить бы его, антихриста, в комнату шестиметровую, не те бы песни он запел, – бросил слова какой-то сердитый вахлак. И только.
Рослый и самоуверенно-громкоголосый Иливицкий пожаловался тут друзьям:
– Нас еще гложут творческие муки. Разве нет? Ведь все фуфло, что мы рисуем. И на что все мы, десятки графиков, уже выработали определенный штамп показа и никак не можем выбраться из него, как ни пытаемся. Ужасно! Какая-то внутренняя трясина в душе. Все увязаешь и увязаешь в ней, непонятной. И исполнения того, что ожидаешь, все нет и нет. А время летит без оглядки.
– Да, все каша, – подтвердил и Антон. – Ничего не нравится, что делаешь.
– Ну, точно, как в «Утраченных иллюзиях» Бальзака. – И Ефим спросил: – Но ты-то хоть еще писательствуешь? Кропишь себе втихую?
– Мало, очень мало что получается из того, что хочешь сделать, если только получается, разумеется, по твоим понятиям и чувствам, – тихо признался Антон. – Сегодня что-то из чего-то еще приемлемо – годится, считаешь, а на завтра все, что написал, кажется лишь ребячьей потугой, любительским бумагомараньем, не больше. Жуть!
– Роботы, роботы мы – поточно сделанные, отштампованные, – присудил безапелляционно Игорь Комлев. – Врачи рекомендуют людям умственного труда больше отдыхать. А ученые тужат, что у нас мозговитость недоразвита. Мы охотней всего копируемся в какой-нибудь шаблонной деятельности. И без нее – еще лучше. И, конечно же, в мировых драках, чтоб похлеще расквасить друг другу носы. Об этом, знамо, сложно написать, библействовать…
– Знаете, какими-то спонтанными толчками в душе чувствуешь то, что это очень нужно зачем-то, – чуть признался зачем-то Антон, – какая-то потребность души двигает желанием продолжить писание, то наступает полная апатия к этому, необязательность перед собой; гложет, главное, мысль – никак не убывает: собственно а зачем? Есть одно тщеславие? Ведь все это никому и не нужно, право. Сейчас иной мир, иное у людей миронастроение, чем тогда, когда – в дни детства своего – я прочел «Дерсу Узала» Арсеньева и был потрясен первозданностью героя, а не языком повествования о нем. Но, знаете, когда пишу этюды, я чертыхаюсь иначе, определенной, что ли, – может потому, что тотчас же вижу результат мазни своей, – заключил Антон.
Его спутники промолчали. Комлев уж клевал носом, подсапывал.
И он покамест задавал себе вопрос: «И что же меня так беспокоит сегодня? Что-то я не то или не так сказал, сделал в этот век сумасшедший? Может быть, еще вспомню…»
Вагон стронулся, пошел, застучали колеса; замелькали в оконных застекленных просветах строения, столбы, деревья. Смешались голоса едущих. Отчетливей слышался рассказ одной бабки. И диалог с ней пассажиров.
– В профилактории опять кашу гречневую дали. Ой! А я ее не люблю.
– Впервые и дали, а Вам уже надоело.
– Дома я бы картошечку зажарила, со свининкой…
– Вот даже и не говядину, – был другой голос.
– Да. И внучек бы поел.
– Вы не одни живете?
– Нет, одна. А внук – напротив, через дорогу. И сын там, они придут ко мне – поедят, а ночую я одна.
Все засмеялись.
– Вы в отдельной квартире живете?
– В коммунальной.
– Еще работаете?
– Приходится. Надо ж и внучку покупать что-нибудь. Рубашку там, брючки…
– Для этого и работаете еще?
– А как же?
– А что же молодые?
– Невестка все брякушки, хрусталь себе покупает. А внучка мне жалко. И он льнет ко мне. Ключ от моей комнаты имеет. Приду домой, а он уже там, ждет меня.
– Ну, наверное, и на работе Вас уважают, если путевку дали…
– Уважают – как не уважать… Я бы и с коровой возились… Когда была своя, – все беспокоилась: чисто ли, не ли сквозняков… Люблю коров, как и детей.
«А я буду ли таким, как она? – задавал себе вопрос Антон. – Вряд ли, вряд ли: меня сожрет эта писанина – неподъемная тяжесть. Она ничего не даст. Права Анна Акимовна. Нужно отдать ей должок».
Антон очень понимал желание Анны Акимовны жить по-своему.
Несущийся вагон покачивался, и его створчатые двери хлябали, то расходясь по металлическим полозам, то вновь сталкиваясь, щелкая каждый раз, что отчасти раздражало. Антону вспомнился конец лета 1945г. в Москве, в которой он оказался после своей демобилизации и был принят в художественно-ремесленное училище, где готовили мастеров-художников по отделке мрамора – для будущих станций московского метро. Да, в ту пору шумливость и сутолока на московских улицах и в метро казались ему, жителю тихой глубинки с разливом полей, чем-то пропасть иррационально отупляющим. Но тогда-то, хотя Антон – юноша наперед был уверен в себе, в своих способностях учиться всему и приноровиться ко всему, тогда-то почти его друг, свойский одноногий завуч, фронтовик, вот вдруг не разрешил ему заниматься еще в вечерней школе – посещать шестой класс. Он не выдал ему разрешительную на это справку, хотя до этого обещал; он сказал, что не положено сразу учиться в двух учебных заведениях. Не разрешается. Есть постановление министерства просвещения.
Ситуация стала издевательской: значит, еще три учебных года (плюс к тем четырем, потерянным из-за военных действий) пропали бы у Антона впустую – когда же он пополнит свое школьное образование? Ведь иные его соученики уже закончили по девять классов! Им повезло. И он отважился расстаться с Москвой, с частым посещением любимой Третьяковки в Лаврушенском переулке, с бесплатным питанием, с лекциями именитых профессоров… И никаких советчиков рядом с ним не было… Вот тогдашняя неустроенность (и с жильем), бесконечное хождение по каким-то высоким инстанциям его, шестнадцатилетнего юнца, в поисках выхода, еще долго потом ассоциировалась у него с этим личным кризисом.
Да и до сих пор он не знал, верно ли, разумно ли он тогда бросил училище – для того, чтобы работать и продолжить образование в вечерке. Но как поступил, так и поступил. Не о чем сожалеть. Была обычная история.
V
Потом Антон довольный, написав этюд в Лахте, у самой воды залива, с россыпью поднявшихся наперебой растений и корявым дубком, по-быстрому вернулся домой – в коммуналку, в старый-престарый красный дом, что стоял на Коломенской улице, и успел еще сходить в продуктовый магазин, как, войдя опять после этого в комнату, застал уже здесь тещу Янину Максимовку, жену Любу и ее брата Анатолия, сидящих в каком-то смущенном оцепенении перед ним. Ну, немое представление! Был очевиден провал их визита к Павлу Степину, мужу и отцу, в Старую Деревню, – с попыткой, по-родственному поговорив, образумить его, пенсионера, – чтобы усмирить его буйный нрав домашнего властолюбца. Было очень жаль их напрасных усилий.
Антон посерьезнел. Поприветствовал их и постарался развеселить.
– Что, глава семьи проигнорировал вас? Остался в своем репертуаре?
Вот только что Люба собиралась уверенно на этот их родственный совет с тем, чтобы осудить отцовские рукоприкладство в отношении матери, – сказала, что нельзя больше терпеть его зуботычины.
– Да уж, пора, пора, – согласился Антон, знавший характер Степина.
Люба даже поревела чуть из-за того, что Антон запаздывал с возвращением с этюдов – она почему-то ждала его, хотя он и предупредил ее о том, что вернется никак не раньше трех часов дня, даже позже. И поэтому она поесть не успела, оттого раскапризничалась напрасно. И он ее успокаивал:
– Ну, не тешьте себя иллюзией урезонить его. Вот урезонивающий совет! Парламент! Он и не будет слушать вас, ваши резоны. Бесполезны тут полумеры. Поешь, голубушка, спокойно; что-то там серьезное не убудет без тебя, если чуть и опоздаешь туда. Поверь!
Так и произошло.
– Представь только, он нас выгнал.
– Да, и слушать нас не стал, узурпатор! – пожаловаладись разом выгнанные ходоки со смущенными улыбками.
– Не дал и слово сказать даже нам, рот открыть. Вытолкал за дверь.
– Отчего же, други мои?
– Верно, считает, что он ни в чем не виноват, паинька, ангел, а это все я придумала – негодная и неумелая у него женушка, вовремя не приготовила ему, барину, борщ, – говорила оскорбленно-обиженно Янина Максимовна, поджимая губы и ерзая тонкими руками. И тут же стала жаловаться Антону. – Вы подумайте, Антон, когда он служил в совнархозе, я его выходки еще терпела, старалась подлаживаться под него, его нрав; он-то на работе пребывал полный день в то время как я уже не преподавала – уже находилась на пенсии, не знаю, насколько он был увлечен своим делом; но он все-таки любил работать хорошо и ладил со всеми в коллективе, в обществе, не распускал покамест свои руки нигде – стало быть, самокритиковал себя. У него там даже пассии были. Он хвастался. А вот как только стал пенсионером отдыхающим, читающим, то сладу с ним не стало никакого: по нему то не так и это не так, все плохо, и как что, сразу приходит в сущее бешенство и, конечно же, к мордобою. Жизнь его ничему не научила.
– Да что у Вас произошло?
– Знаете, Антон, последний раз в субботу было. Он с Любой ездил на кладбище договариваться насчет установки раковины. Вернулся домой злой, а обед не готов. Вот он и взорвался, поднялся на меня. Занес под моей головой стул. Так я, голубчик, на коленях перед ним стояла и молила – умоляла, чтобы он не убивал меня. – Она заплакала. – Дело в том, что я теперь боюсь находиться с ним в одной квартире…
– Я понимаю Вас, Янина Максимовна.
– Ведь он когда-нибудь прикончит меня: он, будучи в бешенстве, что в подпитии (даже хуже), ничего не помнит. Вы не хуже меня это знаете. Холодильник даже проломил. О шкаф ударил.
– Вот бы хорошо, если бы он свой шкаф немецкий разбил, – была бы для него зарубка, – сказала Люба.
– Мою сестру семидесятилетнюю, Лиду, ни за что ни про что обругал и выгнал за порог, не дал ей пожить у нас. Меня третирует. И что за привычка: как что – не выпускает меня из квартиры! Так бы я выскочила вон, пока жива. И он бы пришел в себя.
– И ты еще надеешься? – спросила Люба.
– Все, мать, – сказал твердо Толя. – Ты должна развестись с ним. И точка. Я разговаривать с ним и мириться больше не намерен. После его художеств.
– Но почему же у вас не получилось разговора с ним или какой-то все-таки получился? Расскажите.
– Нет, не получилось, Антон.
– Я так и представлял себе, – сказал Антон. – Я предлагал вам свои услуги и уверен, что больше бы было проку по существу разбирательства, но вы не захотели впутывать сюда неродственников, и то понятно.
– Он, наверное, испугался возможного разговора.
– Видать, все же коллективного осуждения боится, – сказала Янина Максимовна. – По натуре он труслив, однако.
– Пожил без существенных потерь, – сказал Антон. – Жил смешно и смешно кончает свое существование. А сестра его, Тетя Фрося, была с вами?
– Да, были все мы, родственники, – сказала Люба. – Мы видимо, сразу неправильно повели себя с ним.
– А он знал про ваш наезд? Про ваш совет?
– Нет, – сказала Люба. – И вот, когда он спросил у нас, зачем это все мы понаехали, Толя прямо сказал ему, что будем разбирать тебя, отец. Он ходил веселенький минут двадцать. Мурлыкал про себя что-то, бравировал как-то, даже брился перед нами. Напоказ как-то. Потемнел лицом и пригрозил: «Как же буду я венчаться вокруг вас! Ждите!»
Веки у Янины Максимовны опять дернулись.
VI
– Ну, а потом, когда мама начала рассказывать про его вспышку ярости в субботу и о том, как она стояла на коленях перед ним и умоляла пощадить ее и когда он сказал, что она врет, Толя уже сорвался. Вскочил, бросился с кулаками к нему. Подлетел к нему и закричал, что если он еще раз тронет мать, то будет иметь дело с ним, с его кулаками. И, верно, отец сдрейфил.
– Да, ведь Толя поступил с ним точно также, как поступал Павел всегда со мной, – сказала Янина Максимовна. – И это ему сильно не понравилось.
– Ну, а женщины всегда помешают делу, – призналась Люба. – Мне, наверное, нужно было бы не встревать тут в стычку. Съездил бы Толя отца по физиономии – тот бы мигом присмирел. Не вел бы себя так надменно. А я-то сразу же стул между ними поставила, пристыдила… После этого отец бросил: – Ты, Толя, дурак большой. Открыл перед нами дверь и выпроводил нас: – Идите вон. И мы ушли. Не солоно хлебавши, как говорится.
– И Тетя Фрося ушла вместе с вами? – спросил Антон.
– Нет, она, как родная его сестра, осталась, – сказала Янина Максимовна. – Она иногда колеблется и его защищает.
– Такое дерьмо, извините, – сказала Люба – Вот сталинист! Замашки державные: держать в страхе народ собственный.
– А я тут не подумала, сбитая с толку, – говорила торопливо Янина Максимовна. – Мне бы следовало сказать: «Это дети не к тебе, а ко мне в дом пришли!» И ни за что не уходить бы нам из квартиры. А я и сама, чудачка, поддалась психозу этому. О-ох!
– Ну, что, мама говорить теперь об этом! – успокаивал ее Анатолий. Раз мы решили так, как решили, то и будем действовать до конца. – Я и при нем во всеуслышание сказал: Не торжествуй, отец, со злом. Уходим, мать: нам все ясно тут. Безвозвратно. Необходим только развод, а не дальнейшие уговоры. Пошли! – И вот мы вышли от отца, машину поймали и приехали сюда.
– Да-да, потому сюда, – старалась пояснить как бы персонально Антону, не свидетелю их приключений, – что не могли ж мы после всего поехать гуртом к нему, сыну, на Скороходовую. К его жене Лене и их детям. Где ни поговорить нам, и обсудить нам ничего толком нельзя… Да, дети мои, наш Павел Степин – трудно управляемый индивидуум из местечка Трибулей.
– Невоспитуемый без порки, – добавила Люба, – без нахлобучки.
И уж моментально как-то Янина Максимовна оживилась:
– Вы послушайте… Я скажу… В бытность нашего (С Павлом) послевоенного пребывания – в пятидесятых годах – в Германии, в Берлине, когда Павел здесь тоже выявлял нужное промышленное оборудование для отправки в СССР, его вместе с другими нашими командированными сюда технарями-специалистами собирали в советском посольстве и учили внешнему соблюдению этикета при посольских приемах. Они иногда присутствовали на них. Так что та их наставница, которая учила их разным тонкостям поведения на публичных сборах, вдруг заявила, что нужно убрать Павла из списка – из числа соотечественников, штудирующих науку поведения у нее: он же совершенно невосприимчив ни к каким полезным наставлениям! Дикарь! И вот ему-то в порядке исключения разрешило начальство не осваивать этикетный инструктаж. Для него-то – с его стойкой леностью ума – даже его освоение оказалось столь сложным. Ну, он по сю пору упрям, как бугай местечковый.
– Вот, вот, Янина Максимовна, суть в чем, – подхватил Антон. – Вы определили сами. И вы же хотите в раз перевернуть его характер в лучшую сторону, оптимальную для вас. Здесь напрасны все ваши усилия.
– И что ж теперь нам делать, Антон? – Тупиковое у нас положение…
– Сочувствую. Нужно определяться. Что, куда и зачем?
– И теперь я хотела бы с вами обсудить обмен квартир. Вот если бы выменять на вашу комнату и нашу однокомнатную квартиру – трехкомнатную и выделить в ней одну отцу комнатку, а?
При этих ее словах Люба сразу же восстала непримеримо:
– Я, мать, категорично, против: жить с ним в одной квартире я не буду, не рассчитывай; ты же знаешь об этом прекрасно, и незачем строить такие несбыточные планы! Тебе, прости меня, немного жить осталось, а он еще здоров, как именно бугай. И наклонности у него такие… приведет к себе женщину и меня же заставит еще обслуживать их двоих. Извини, подвинься… Ни за что не могу… Да и Антон не позволит.
– Я только предположила, дочка…
– Не лучшее, однако, у тебя предположение…
– Я только пытаюсь… Ой, опять разболелась голова… неладная… ничего не могу сообразить.
Семейные заговорщики не хотели никак смириться с провалом их затеи. И дальше они – Янина Максимовна, вся испереживавшеяся из-за нерешенности главного вопроса, не очень-то, видимо, и хотевшая развестись с мужем, человеком, с которым уже прожила столько лет, а более всего, хотевшая с помощью взрослых детей как-то наказать его за рукоприкладство, и взвинченный из-за этого Анатолий, и здравомыслящая Люба, которой некогда доставалось от отца за свою непокорность (причем мать не защищала ее в таких случаях), – все они сейчас и дальше еще с азартом строили решительные планы, с чего им нужно конкретно начать с ним, Павлом Степиным, новый серьезный разговор и что от него потребовать.
Антон слушал их с вниманием. И чем лучше он вникал в смысл затеянного ими дела – развода супругов, тем отчетливей видел бессмысленность его, отсутствие здесь обычного здравомыслия. Появилась суетность как при стихийном бедствии, и только. Оно захватило людей врасплох.
– Да вы не переживайте так, – успокаивал он горемык таких. – Все, что не делается, делается к лучшему. Поверьте! Ладно, будет вам артачиться зря. Садитесь к столу. Сейчас откроем бутылочку полусухого молдавского вина. Я только что ее купил – думаю, как раз к месту… Коли вы приехали… Выпьем за свободу ваших личностей… От всяческих насилий…
Антон, как зять, умеренно относился к обоим родителям Любы. Он, правда, не понимал их непартнерских, неравно уважительных отношений друг к другу; но излишне было для него выяснять – да ни к чему – их супружеские отношения и тем более заниматься их мирением публичным. Ведь подобное неподвластно никакому классному психологу. Тут бесполезны всякие уговоры, раскаяния, нахлобучки.
Однажды кто-то сказал ему назидательно:
– Это гении всегда делают все не так. А у обычных людей – обычные происходят вещи.
Пожалуй, так.
Как-то Павел Степин откровенничал перед Кашиным:
– Если есть у меня двадцать копеек, – я за трамвай не уплачу, а лучше пешком пойду – не потому, что жалею деньги, а потому, что я уже такой, – во мне такая психология выработалась, и меня не переделаешь уже. Я лист бумаги и на работе и дома понапрасну не могу потратить, кусок черствого хлеба не выброшу – съем; это – не от одной лишь бережливости, жадности либо скаредности. Нет. Но это-то как раз кому-то и не нравится, кто-то – с совсем другими запросами. Так зачем же я буду подделываться под других? Я – человек физиологии. Могу изругать человека ни за что, если голоден. Поел – хорошо мне; мало – еще заложил. Очень просто. Зачем мне волноваться? Это во мне плохо устроено. Но другой человек живет разумом: ему нужно – он и поступает соответствующе разумным образом. Но нельзя переоценивать себя, свои порывы. Правда, признаюсь, сдерживаюсь иногда. С чужими людьми веду себя поаккуратней. Не могу, например, сказать ничего такого, что сказал бы сыну своему. Сказать: тебе-то что? Вот мы кувыркались в жизни – теперь и вы также покувыркайтесь, мол.
Да, сколько он не говорил того, о чем думал не столько для себя, сколько для других, как ни противоречивы, неожиданны, резки и сумасбродны каждый раз казались его высказывания, он только говорил для других то, что казалось ему, оправдывало целиком его в необъяснимых поступках, сама его жизнь. Так по крайней мере считал он сам.
Философствовать в таком духе с ним не хотелось.
Да еще он присказал:
– Знаете, поскольку я принимал участие в устройстве в толин институт юноши из Трибулей моих и он жил у нас до поселения в общежитие, мне прислали его родители в знак благодарности три мешка картошки. Я не просил, но они прислали. Так вот вошел шофер, тертый, малый, оглядел нашу квартирку. Я еще спросил у него, как живет Грохов, с кем вместе учились. Он сказал, что живет ничего. Потом обвел глазами помещение нашей квартиры и сказал очень уверенно: «Знаете, мы раза в два лучше вашего теперь живем? Представляете: это сказал парень из псковского села! Ему десяти минут было достаточно для того, чтобы придти к такому выводу. Уже если псковские жители в два раза лучше нашего живут, то что уж говорить об Украине. Мы – кочерыжки, оставшиеся от прошлого…
VII
Брата и Люба жаловала при встречах – приглашала всякий раз:
– Ну, поедем к нам обедать. – Поскольку знала, что золовка кухню не любила и он был некормленый. А поесть он любил. Все-таки был у него здоровый организм. И он спортом временами занимался.
Причем глава семьи Павел Степин теперь, сталкиваясь с подобными непорядками в жизни по его разумению, восклицал:
– Ой, куда мы едем?! Представьте: приехал на Скороходку к сыну в семь вечера – все они, родители и дети, сидят на диване и обсуждают свои дела институтские. А дома нет никакой еды, дети ненакормлены, неухожены. Вечно есть хотят. И Толя сам голоден – щеки у него провалились. Нет, это мы с Яной Максимовной, наверное, что-то упустили тут, не смогли полноценно воспитать Анатолия. Не буду говорить о Лене. Так на что же будут годиться их дочери? И куда же мы с этой эмансипацией идем?
И действительно: вот только заехал Анатолий, весь забеганный усталый, жалостливый, к Кашиным за излишками продуктов, как прежде всего спрашивал у сестры, Любы:
– Есть что поесть? – И сразу привычно шасть к столу.
Да, проблем у него много, помимо семейных. Семейные уже не в счет. Прибежит домой из института с лекций, спросит:
– Есть что поесть?
Девочки говорят, что нет. Иногда он сам схватит сумку продуктовую, бежит в близстоящие магазины; иной раз посылает старшенькую Ирину, чтобы она купила что-нибудь съестное. А Лена, женушка, работающая в лаборатории при ЛЭТИ на 100 рублей, вкалывает лаборанткой на совесть и чуть ли не ночует здесь. И она-то еще пишет кандидатскую диссертацию! Так что он, Анатолий, ее не видит дома по две недели подряд. Он еще связался с группой экспериментальной физиков. А для экспериментов деньги нужны очень. Крайне нужно заключить договор на следующий год. Хлопотал, хлопотал он сам об этом, дохлопотался: прислали бумагу – запрос министерства, а ее не туда здесь направили. И другая институтская кафедра, не имеющая к этому никакого отношения, отписала: дескать, эти темы нас не интересуют. Представляете! Теперь нужное время время ушло. Тому, что отписался, конечно, нахлобучку дали, разобравшись. Но забот прибавилось.
– Стал я искать другого заказчика, – рассказывал Анатолий. – Открытый договор заключается до первого декабря (время это ушло), а закрытый в любое время. Веду с заказчиками переговоры. Дают приличную сумму – тысяч сорок пять. Это как раз группе хватит на зачин. А профессор Юков…
– Сколько ему лет? – перебила его Люба: она знала, видела этого Юкова.
– Шестьдесят.
– Шестьдесят!?
– Да, представь. Он очень дипломатичен в любых вопросах. Не спешит. Расскажу один случай. Принимали одного физика. Толковейшего. Я первоначально поговорил с ним. Велел его привести. Смущало меня то, что он подевреивает. У него отец – еврей, мать русская. Юков очень придирчиво расспросил о нем, сказал: приводи! Ну, привел его к нему. Беседовал он с ним между заседаниями совета. Ничего определенного не ответил человеку. Потом мне говорит: приведите мне его мать – я хочу на нее посмотреть. Что ж, попросил я знакомых по институту женщин передать ей его просьбу. Раз вижу: она идет. Я предупредительно поговорил с ней – и сказал, чтобы она не придавала этому особенного значения, что профессор ничего определенного насчет его сына не скажет. Так ведь и получилось. А этого физика уже другие кафедры рвут: каким-то образом мигом узнали, что мы втихаря ведем переговоры с нужным нам специалистом – ему и посыпались заманчивые предложения. Лучше наших. Пошел я к Юкову: