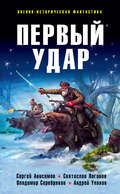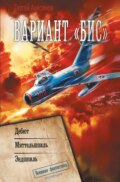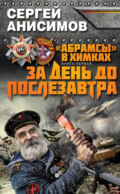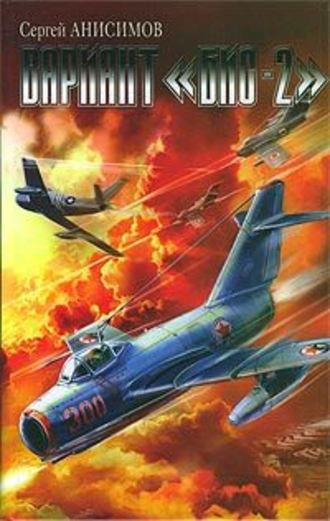
Сергей Анисимов
Год мертвой змеи
– Спроси у них, помнят ли они такое? – попросил Алексей переводчика, указывая на замолчавших при его появлении офицеров.
Тот спросил, и корейцы один за другим покачали головами, произнеся по нескольку слов. Оба они служили в Соганге меньше полугода. Налеты случались здесь раз в несколько недель, и каждый раз кого-то убивало – но тот давний налет они уже не застали.
Выслушав перевод, Алексей развел руками. Выдумывать такое смысла не было. Местным морякам достаточно было просто показать ему какую-нибудь написанную по-корейски бумагу, для того, чтобы он поверил, что недостающие мины не растворились в воздухе сами собой, а либо не были доставлены вообще, либо оказались дефектными, либо (что вероятнее всего) были установлены и успешно вытралены врагом.
Опять склонившись над своей чашкой и испытывая сложное смешанное чувство усталости, удовольствия и напряжения, он попытался занять свои мысли хоть чем-то еще – лишь бы не думать о ползущем мимо чужих островов кораблике и о молодом корейце, размахивающем своей обвязанной тесемками ушанкой и криком «Давай-давай!» подбадривающем солдат, из последних уже сил подтаскивающих к рельсам тяжеленную мину.
Мины он наверняка уже поставил, и если считать по времени, то им уже пройдена как минимум треть обратного пути. Но это теоретически. Конечно, расчеты времени они произвели вместе, а все необходимые резервы и погрешности были заложены в них с самого начала. Но не раз прикрывавший тральщики Алексей знал, как бывает на самом деле, поэтому смело прибавил к тому времени, которое команда «Вымпела № 4» затратит на собственно постановку, еще по крайней мере минут двадцать. От этого и надо было считать ходовые мили обратного пути. Таким образом, волноваться было еще рано, но волнение все равно не проходило. Отвык, наверное... На их войне, когда он был на десяток лет моложе, за ушедших в море спокойно и деловито переживали, ждали их, но при этом старались не тратить собственные нервы на бесцельное волнение. Это касалось, разумеется, мужчин. С тех пор он то ли постарел, то ли обабился – но мысли о беззащитном минзаге с семьюстами килограммами пороха на борту лезли и лезли к нему в голову сами по себе.
Подняв голову, Алексей обнаружил, что переводчик Ли явно собирается что-то ему сказать – или, скорее, спросить. Столкнувшись с капитан-лейтенантом глазами, тот неожиданно смутился, и Алексей с удивлением понял, что и спросить Ли собирался как раз про то, не волнуется ли советник. Это понимание было настолько удивительным и странным, что он застыл с почти пустой уже чашкой между сплетенных пальцев, моргая и зацепив кончик языка между клыками. Собственная боль заставила его очнуться от наваждения, и снова вернувшись в привычки военного советника, представляющего великую державу, Алексей спокойно спросил у Ли, что тот хочет сказать. Китаец замялся (что окончательно убедило Алексея в точности его догадки), по потом пробормотал, что если чая больше не надо, то можно вернуться к товарищу флагманскому минеру флота, потому как до назначенного им времени осталось всего десять минут.
Обрадовавшись, Алексей поднялся, оставив чашку на столе и попрощавшись с вежливыми молодыми офицерами. К временному кабинету своего непосредственного начальника – если считать им все же не советского генерал-лейтенанта, которому он несколько дней назад имел возможность представиться в Пхеньяне, а корейского офицера – капитан-лейтенант Вдовый добрался уже вполне спокойным, собранным и уверенным в себе. Хорошо выспавшийся капитан первого ранга, фамилия которого была Ко, сиял золотым шитьем погон и хорошими белыми зубами. У него явно было неплохое настроение, но вид отнюдь не легкомысленный, да и разговор он тоже завел серьезный. В отличие от предыдущих дней, когда их работа по утрам каждый раз начиналась с получасового обсуждения того, нравится ли военному советнику Корея и как тяжела и свята их борьба за родную землю, сейчас корейский флаг-минер сразу взял быка за рога – сообщив, что мины в ближайшие десять дней доставлены все же не будут.
Это настолько не вязалось с его вчерашней убежденностью в совершенно противоположном, что Алексей внутренне выругался. Пока ему переводили последние фразы, замолчавший уже кореец так и не перестал улыбаться, что возмутило советника окончательно. Оставшись, к своему удовлетворению, полностью бесстрастным внешне, советский военный советник выразил «глубокое огорчение» офицеру братской Кореи, превосходящему его на целых три ступени в иерархии званий. Того его реакция вполне устроила, и с этого момента разговор пошел уже вполне конструктивный.
Флоту КНДР предложили поставку партии в полсотни несколько устаревших уже донных мин «АМД-1-1000», и товарищ До Вы требовался флагманскому минеру для выполнения одной из его прямых обязанностей – рассказать о том, что это за тип, и смогут ли окупиться усилия и жертвы, на которые придется пойти, чтобы выставить такие мины в тех районах, где на них сможет подорваться транспорт или боевой корабль интервентов.
– Видите ли, товарищ капитан первого ранга, – сказал Алексей, с минуту помолчав. – Мины эти, конечно, хорошие. Тем более, что донных мин здесь, насколько мне известно, пока не применяли, и как новый неожиданный фактор они свою роль сыграть смогут. Но... Тяжелые это мины. Да, не тяжелее типов «КБ» или «КБ-КРАБ», но гораздо менее удобные в работе...
Алексей остановился, дожидаясь, пока его слова переведут, и за это время еще немного поразмышлял.
– Ставить их придется с плохо для этого приспособленных кунгасов и шхун, – высказал он ту мысль, которую только что мысленно покрутил, разглядывая ее с разных сторон.
– Поэтому лично я предпочел бы пятисоткилограммовый тип, но он к постановке с надводных кораблей и катеров не пригоден вообще, а тонная «АМД» хотя бы универсальна...
Ему снова пришлось остановиться, потому что Ли не понял слова «тонная» и его пришлось объяснять. Фразы «значит, весящая одну тонну» хватило, и Алексей продолжил. Морской авиации в КНА не существовало, и ее появления не предвиделось, а те самолеты, что имелись у китайцев, были не таких типов, что смогли бы поднять подобную мину.
– «Ту-2С», – предложил флаг-минер. Название Алексей понял без перевода, и сообразивший это Ли смолчал.
Пришлось пожать плечами. На флоте «Ту-2» как-то не прижились, хотя фронтовые «Пешки» они за считанные годы вытеснили так же, как новые «Ил-десятые» вытеснили в свое время заслуженных «Ил-вторых». Может ли туполевский бомбардировщик взять мину класса «АМД», Алексей просто не знал. Но все же он рискнул предположить, что поскольку этот тип мин создавался в массогабаритных характеристиках нормальных фугасных авиабомб, то такой шанс действительно есть.
– Лучше бы «Гейро» дали, – посетовал он. – Или новые «АМД»: второй-четвертой серии.
Про себя он подумал, что новейшие «АМД-4» весят аж полторы тонны вместо одной, но рассказывать об этом каперангу Ко, подумав, все же не стал. Кто знает, можно ли такую информацию разглашать. Адмиралов Кузнецова, Галлера, Алафузова и Смирнова сместили за переданные англичанам характеристики высотных авиаторпед, не принесших за войну практически никакой пользы. Кто знает, куда может завести капитан-лейтенанта его разговорчивость, если на каком-нибудь из высоких совещаний корейский товарищ вдруг проявит удивительное знание параметров мины, принятой на вооружение в советском флоте всего пару лет назад, и едва ли передававшейся даже союзникам – скажем, полякам.
Беседа через переводчика о типах мин, их возможностях и недостатках длилась настолько долго, что под конец Алексея начала уже тяготить. Все равно понятно, что новые образцы корейцам не дадут: либо из-за секретности, либо из-за их практической бесполезности в местных водах – как, например, противолодочные мины, которым капитан первого ранга посвятил минут сорок. В другое время Алексей был бы не против поговорить на настолько интересную тему, особенно с таким искренне заинтересованным собеседником, но сейчас ему все сильнее хотелось посмотреть на часы – чего при общении с начальством делать, разумеется, нельзя. По времени ушедший утром минный заградитель должен был уже подходить к Согангу. Более того, он мог уже швартоваться, а его молодой командир – топтаться на покрытой инеем земле, отходя от качки и опасности, способной настигнуть в любой момент...
Думая об этом, Алексей напрягался все больше, но флагманский минер то ли не замечал этого, то ли не собирался обращать на это внимание. В данный момент его интересовал минный защитник «МЗ-26», который вроде бы им обещали, как и многое другое. Этот тип Алексей прекрасно знал – более того, ему повезло быть знакомым с предложившим его конструкцию контр-адмиралом. Ничего более неприятного для противодействия контактному тралению, чем четырехкратный «минный защитник-26», ни один конструктор пока не придумал, и можно было ожидать, что этот тип наверняка останется самым значимым детищем того самого контр-адмирала с умилительной фамилией Киткин. Теперь тот с гордостью носил на кителе неожиданную медаль лауреата Сталинской премии, полученную за его создание, и если что-то и изобретал, то наверняка в другой области: подобного чуда ни ему, ни кому-то другому в ближайшее время все равно было не повторить.
– Все это очень хорошо, – согласился Ко после рассказа Алексея, позволившего тому хотя бы немного отвлечься от мыслей о том, что происходит сейчас на пирсе. – Но на больших глубинах его ставить нельзя, а нам послезавтра в Аньдун, и как раз там...
Военный советник попросил флагманского минера повторить, предполагая, что недопонял, но и после повторения последней фразы все равно не понял ничего. Во-первых, он предполагал, что послезавтра они должны быть в Гензане, как тот же флаг-минер сообщил ему еще вчера. Это было в двухстах километров от Аньдуна. Во-вторых, Аньдун находился в полусотне километров от побережья, и хотя Ялуцзян – река весьма полноводная, но ни мины, ни минные защитники там сейчас не нужны совершенно точно. Тем более глубоководные.
Не зная, как выразить свое недоумение так, чтобы не выглядеть туповато (или, как говорили на флоте, «дубовато»), Алексей снова перевел разговор на глубины, длины минрепов и соотношение мин к минным защитникам в заграждениях разного типа. К его удовольствию, через несколько минут столь вдумчивой беседы кореец догадался сам ответить на наводящий вопрос, и тогда выяснилось, что Аньдунов как минимум два. Один – это тот, который он и имел в виду, китайский, его еще иногда называют не очень красиво звучащим по-русски словом Дандонг. А вот второй – это, оказывается, действительно маневренная военно-морская база в Тонг-йошон-ман, то есть заливе Тонг-йошон, или, как это название можно произнести, Тонгъёшон, он же Восточно-Корейский залив.
– В Гензане ввели в строй новый минный заградитель, – с забавной важностью произнес переводчик Ли. – Специальной постройки и способный брать много мин. Но его немедленно переведут в Аньдун.
– Почему? – поинтересовался Алексей, хотя тут же сам понял наиболее вероятную причину.
– На Гензан бомбардировщики и штурмовики интервентов совершают налеты каждые два-три дня, практически без перерывов. Преимущественно по нему действуют палубные машины с авианосцев американских и английских агрессоров. Иногда – ночные бомбардировщики, но пока не слишком часто. В любом случае, мы полагаем, что оставлять достаточно крупный корабль пусть даже в прикрытом артиллерией ПВО и хоть какой-то авиацией Гензане означает потерять его немедленно и окончательно. Любой американский палубник вылезет из кожи вон, лишь бы привести домой фотопленку со столбом воды в районе ватерлинии корабля столь редкого для этих вод размера. Кроме того, еще Гензан обстреливают с моря.
– Достаточно крупный – это сколько? – поинтересовался Алексей, на мгновение оторопевший от употребления Ли русской поговорки настолько к месту: такого он не ожидал. Впрочем, это тут же вылетело у него из головы. Мысль о том, что корейцы сумели сами построить крупный минзаг, была слишком утопична, чтобы в нее поверить. За последнюю неделю, одну из самых насыщенных в его жизни, капитан-лейтенант Вдовый встретил немало примеров того, как с искренностью в глазах и с убеждением в голосе высказанные слова в устах корейских или китайских товарищей могли означать весьма мало или вообще не значить ничего. Причем характерно, что это даже не было ложью – это было что-то вроде правды, которая формировалась в момент ее произнесения, прямо на языке говорящего. У детей такое является почти нормой – но ведь не у взрослых же мужчин, говорящих о серьезных вещах...
Мысленно Алексей с сомнением покачал головой, и когда кореец ответил, едва не улыбнулся.
– Шестьсот пятьдесят тонн. Две сорокапятимиллиметровые пушки и пулемет.
– А мин?
Переводчик переадресовал его вопрос капитану Ко, и Алексей опять с обидой понял, что даже простое одиночное слово он ухватить из чужой речи пока не в состоянии.
– В зависимости от типа, – логично ответил флаг-минер. – Если считать на «КБ», то 14 штук, а если типа «М-26», тот и все 16.
«А если противодесантные «Рыбки», которых на складах в Балтийске до сих пор завались, то и все полсотни, – мысленно продолжил Алексей про себя. – Но надо признать, это действительно неплохо. Для корейцев – так просто отлично».
Минзаг требовалось сразу же маскировать, как наших научили это делать немцы, сумевшие в годы войны потопить немало кораблей и судов прямо в портах и базах, несмотря на прикрытие из зениток и истребителей, которое там имелось. Хотя... Корейских товарищей жизнь учила не хуже и не менее жестоко. Так что понимать важность хорошей маскировки они должны были и сами. Но при этом на «Вымпеле № 4» никакого камуфляжа Алексей не заметил.
Снова вспомнив об ушедшем утром минзаге, почти наверняка уже вернувшемся, он заерзал на стуле, пытаясь придумать, как бы поспокойнее закончить разговор, чтобы не выдать флаг-минеру свое волнение. К счастью, тот то ли вспомнил о скором обеде, то ли о тех делах и разговорах, которым присутствие советского военного советника могло помешать, и закончил беседу сам, многословно выразив глубокое удовлетворение тем, насколько удачно они с товарищем До Вы срабатываются, и предложив продолжить после некоторого перерыва. Скажем, часа в три дня.
Алексей вместе с переводчиком Ли уже стояли у самой двери, дослушивая и договаривая последние вежливые слова, когда капитан Ко вдруг спросил у него, зачем, по его мнению, в Гензан вне всяких планов вдруг прибывают мины «АГСВ».
– Что? – переспросил Алексей, не поняв.
– «АГСВ», – четко повторил Ли. Это не помогло. Что это такое, Алексей все равно не знал.
– Может, какие-то другие? – осторожно поинтересовался он. – Точно не «АМД»?
– Нет, «АГСВ», – подтвердил сам флагманский минер. Ему явно не понравилось, что под конец беседы военный советник вдруг то ли выявил свое незнание, то ли начал что-то от него скрывать. – Вчера пришла инструкция о том, что эти мины должны быть выставлены в первую очередь. Сорок штук. Противолодочные.
– «АГСБ»! – наконец-то понял Алексей. – Не «АГСВ», а «АГСБ», так?
– Я и говорю, «АГСБ», – недовольно произнес переводчик. Сдвинув брови, корейский капитан спросил его о чем-то, и Ли несколько раз повторил одну и ту же короткую фразу, каждый раз повторяя название мины с тем же самым неправильным произношением, которое едва не оконфузило нового военного советника.
– Зачем? – повторил Алексей заданный ему вопрос. – Зачем в Тонг-йошон-ман глубоководные антенные мины? Я могу только предположить, товарищ капитан первого ранга.
– Да, разумеется, – кивнул флаг-минер, лицо которого разгладилось, когда причина непонятного ему поведения советника разъяснилась самым нормальным образом – трудностью произнесения китайским переводчиком одной из букв аббревиатуры.
– Я предполагаю, что в залив могут перебросить одну из эскадр надводных кораблей Тихоокеанского флота. Для нашей эскадры в Желтом море угроза от вражеских подводных лодок не столь высока, поскольку глубины там сравнительно небольшие, а самолеты с аэродромов Дальний и Янтай висят в воздухе постоянно. Если там заметят подводную лодку, то ее, пожалуй, сначала будут бомбить, и только потом разбираться – была она американская или британская. А вот в Восточном море субмарины обнаружить сложнее. До сих пор им делать там было особо нечего, потому что торпеда стоит гораздо дороже, чем те шхуны или мотоботы, по которым они могли бы стрелять. Но вот если для Восточного моря наши ВМФ сформируют вторую эскадру, то...
Он покачал головой, размышляя, насколько верны эти предположения. Алексей являлся всего лишь капитан-лейтенантом и в оперативном искусстве понимал весьма немного. В то же время одной только логики хватало ему для того, чтобы понять, что боевых кораблей интервентов у восточного побережья Корейского полуострова и так заметно больше, чем нужно. Появление второй советской эскадры будет встречено ими с радостью профессионалов. Потому как пара американских «Айов» и один британский «Энсон» (если разведсводки не врут, и он там действительно есть) в дневном артиллерийском бою разделают ее начисто, насколько бы передовым ни было наше основное оружие – марксистско-ленинская философия. Но... Созданная за секунду теория была все же слишком красивой, чтобы сразу с ней расставаться. Советский линкор с парой крейсеров в Тонг-йошон-ман... Это было здорово. А учитывая непосредственную близость Владивостока, главной советской военно-морской базы на Тихоокеанском театре, вполне можно рассчитывать на то, что эта эскадра будет включать хотя бы неполный дивизион современных эсминцев, в первую очередь нацеленных на противолодочную оборону.
Впрочем, на то, что хотя бы один из эсминцев выделят ему для постановки мин или их переброски в тыловые северокорейские базы, Алексей не рассчитывая совершенно – не таким все же он был наивным. Везти военную контрабанду настолько внаглую, означало бы прямое и непосредственное вступление в войну в отчаянно невыгодный для страны момент. Стандартным, классическим путем: отслеживающие каждое движение советских боевых кораблей сторожевики, эсминцы и крейсера американцев или британцев – да пусть даже таиландцев! – могут рискнуть потребовать досмотра. Их логично пошлют туда, куда посылать в таких случаях положено, поскольку попытка досмотреть или преградить путь боевому кораблю есть casus belli. Последует обмен залпами – после чего те, кому повезет уцелеть, расползутся по своим базам и начнется новая большая война. Которая, собственно, стоит на их пороге уже не первый месяц.
Нужно ли это сейчас Советскому Союзу? Вероятнее всего – нет. Потому что страна только-только оправилась от предыдущей выигранной войны, и начинать новую в год, когда на каждый закладываемый в Ленинграде или Владивостоке киль приходится по три-четыре закладываемых в глубине страны сталелитейных, сталепрокатных или химических завода, ей нет никакого резона. На новую войну сейчас не хватит ни средств, ни валового национального продукта, ни моральных сил рвущихся из нищеты и горя людей. Значит, надо тянуть время, делая при этом такое выражение лица, чтобы сигнальщики на мостиках вражеских кораблей обмирали от страха, разглядывая сквозь стелющуюся над водой дымку развернутые башни «Москвы» и тихоокеанских «Максимов Горьких». Кто, мол, знает, что этим ненормальным русским может прийти в голову... А учитывая, что командующий советской эскадрой в настоящий момент – это вообще украинец, причем с отлично знакомой им фамилией Москаленко, – то и слегка подрагивая икроножными мышцами, если и не от страха, то хотя бы от разумной настороженности.
А пока война будет делом северокорейцев и китайских добровольцев, равно как и нескольких направленных на флот военных советников от великого северного соседа.
Торопливо шагая в сторону пристани, Алексей улыбался, представлял себе, как станет спрашивать занятых матросов о командире ошвартовавшегося минзага без помощи переводчика Ли, помогая себе жестами и гримасами. Он полагал, что найдет того либо на самом кунгасе, либо, скорее, отогревающегося чаем или обедом в одном из ближайших приспособленных для этого домиков. Можно было надеяться, что одного выражения лица молодого офицера хватит ему, чтобы понять, насколько точно тот выставил мины в указанном ему районе. Даже если на них не подорвется ни одна баржа лисынмановцев – лиха беда начало. Заставивший поверить в свои силы флагманского минера ВМФ капитан-лейтенант Вдовый в сочетании с вводимыми в строй малыми минзагами и переоборудованными для постановки мин кунгасами, их тренируемыми командами, а главное, все более значимым потоком доставляемых в передовые военно-морские базы мин – все это вместе взятое может стоить для хода войны больше, чем лишняя бригада торпедных катеров, спешно доукомплектовываемая во Владивостоке, чтобы заменить уходящие на формирование «второй эскадры» крупные корабли.
Продолжая улыбаться, щурясь от морозного ветра, Алексей вышел из стиснутой осыпающимися щебеночными холмами лощины на пригорок, с которого открывался вид на гавань. Ветер ударил ему в ноги, подкинув кверху короткие полы бушлата – как Алексей называл выданную ему еще в Пекине утепленную матерчатую куртку. Ему пришлось на мгновение зажмуриться, чтобы дать проскочить порыву пахнущего льдом воздуха, ощупывающего стянутое гримасой лицо. Открыв глаза, Алексей поморгал, расталкивая ресницами налипшие на них снежинки, и поискал взглядом «Вымпел № 4» на том месте, откуда он вышел в море сегодняшней ночью. Там корабля не оказалось, и несколько следующих заполненных надеждой секунд Алексей шарил глазами по закоулкам несложного лабиринта причалов, мостков и отдельных вбитых в дно свай, надеясь увидеть простой серый силуэт кунгаса.
Минуту спустя, расстегнув одну из пуговиц, он засунул правую руку под куртку и начал массировать себе грудь, одновременно спускаясь вниз по тропке и размышляя, кого из стоящих на причале одиноких, сгорбленных от холода матросов, можно будет послать за переводчиком пъяй-чанг Ли, то есть командиром взвода Ли, туда, откуда он сам сейчас пришел. Шагая, уже вынув руку из-под шинели, чтобы не дать корейцам заметить то, как он растирает свою кожу, Алексей вернул себе суровое и уверенное выражение лица и еще успел подумать, что передовая военно-морская база ВМС КНА Соганг, конечно же, почти ничего не представляла из себя даже вчера. Но сегодня, лишь несколько часов спустя, все стало еще хуже. Минный заградитель не вернулся. И, скорее всего, не вернется уже никогда.