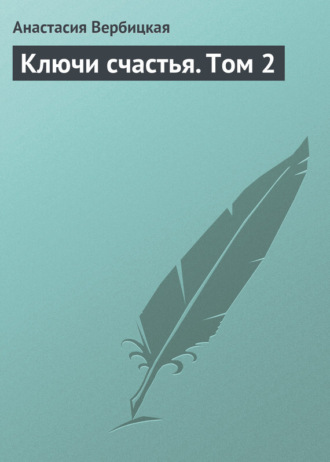
Анастасия Вербицкая
Ключи счастья. Том 2
– Тогда сядем здесь или пройдемся, – вкрадчиво говорит он.
– Да-да, я так рада! Но ведь вы спешили куда-то?
– Мне некуда спешить…
Она внимательно смотрит на его портфель. Ее поразил очевидно звук его голоса. Но чуткость художественной натуры не позволяет ей ни на одну минуту заподозрить его в рисовке. Не лгут с таким лицом. Она это чувствует.
– Как это странно! – говорит она, садясь рядом с ним на скамье. – Когда я проснулась нынче, моя подушка была вся залита слезами. Это я плакала от счастья. И с утра я ждала чего-то большого, чего-то важного. Постойте. Почему вы улыбнулись? Вы думаете, что я ненормальная?
– Нет-нет, говорите.
– Я устала ходить, я решила вернуться домой. Но какой-то голос шепнул мне: «Пройди еще один раз, в последний раз… Я пошла и встретила вас. Вы верите в предчувствия?»
– Верю.
Она смолкает и с восторгом смотрит на него.
«Она не так некрасива, как мне это показалось в первую минуту, – думает Штейнбах. – Неправильное, скомканное личико, вздутые губы. Но как хороши глаза! Таинственные, бездонные, зловещие и что-то знающие, чего другим знать не дано. Глаза истерички. Они делают это лицо значительным и необычайным…»
Вдруг дрожь пробегает по ее худеньким плечам.
– Вы озябли? Позвольте, я доведу вас до дому. Вы далеко живете?
– На Остоженке. Да, я, должно быть, простудилась. Я так давно на воздухе. Я все ждала, – говорит она, совсем просто, как говорят об обычном.
– Позвольте вам представиться. Адвокат Берг.
– А меня зовут Лия.
– Дайте мне вашу скрипку. Вы давно учитесь?
– В этом году я кончаю.
– Да? А я думал, что вам не больше шестнадцати лет.
Они идут медленно. Он бережно прижимает к себе эту маленькую ручку.
– У какого профессора вы учитесь?
Она вдруг останавливается и жалобно говорит:
– Пожалуйста, не надо расспросов. Не надо меня занимать. Моя душа полна… Эти минуты так прекрасны! Будем молчать. И тихо вот так идти рядом. И я буду думать, что это не случайность. Что это наши жизни сплелись, как наши руки.
Штейнбаху хотелось бы усмехнуться на этот бред «развинченной истерички». Но странное волнение будят в нем эти наивные слова. Воспоминания, конечно. Разве Маня не была такой же истеричкой? Разве не одни истерички дают поэзию и краски в банальном сближении?
Они молча, каждый действительно с душой полной смятения, проходят весь бульвар, всю площадь. Вот и Остоженка. Они поднимаются вверх, сворачивают в переулок.
– Здесь, – говорит она, останавливаясь перед двухэтажным деревянным домом.
Минута неловкого молчания. Он приподнимает шляпу, кланяется. Ее глаза широко раскрыты.
– Вы хотите уйти? – И, не дожидаясь ответа, испуганно подхватывает: – Нет-нет, разве это возможно? Неужели вы не чувствуете, что это невозможно?
Что-то злое и темное встает опять в душе Штейнбаха. «Приключение? Что ж? Она не хуже всякой другой. Даже интересна…»
– Вы живете одна? – звучит его вкрадчивый вопрос.
– Я живу с бабушкой. Она меня воспитала. Матери я не помню. Отец был ученым. Он умер тоже. Я круглая сирота. Бабушка милая. Над нами смеются и говорят, что мы обе ненормальные. Но не все ли равно, раз мы обе счастливы? Она еще совсем молодая душой и все читает романы. Я живу самостоятельно. У меня своя комната и отдельный ход. Войдите. Почему вы боитесь? Почему вы колеблетесь?
Ее темные глаза глядят строго и печально.
– Я не верю, что вы Берг. Вы назвались чужим именем. Видите, я угадала. Ваши губы дрогнули. Но разве я спрашиваю ваше имя? Оно мне не нужно. Мне нужно ваше лицо, эти глаза и все то, что я чувствую сейчас, глядя на вас. Я этого ждала так долго. Так пламенно ждала…
Штейнбах чувствует, что бледнеет.
– У вас, конечно, своя жизнь, – говорит она упавшим голосом, – полная дел, интересов. Чужая мне жизнь. У вас наверно жена, семья. Но я разве чему-нибудь помешаю? Вот вы шли куда-то. Шли без дела И что-то думали, больное. Вы несчастны, я это знаю и без ваших признаний. Зайдите ко мне. Я вам сыграю. Мне дадут золотую медаль, значит, я неплохо играю. Вы любите музыку?
– Да, – с трудом отвечает он.
– Может быть, вам станет легче, пока я буду играть. А когда вы уйдете, я засну и буду вас видеть во сне. Я часто видела вас и раньше. Но не могла разглядеть вашего лица.
«Несчастная девочка. Она больна несомненно», – с тоской думает Штейнбах.
Молча подает он ей руку. Ему опять стыдно за свои сомнения.
Они поднимаются по деревянной старой лестнице. Совсем темно. Огня еще не зажигали.
– Осторожнее! Здесь поворот, – говорит она. С нежной силой берет она его руку и ведет за собой. У нее свой ключ.
– Садитесь. Я зажгу лампу.
Он раздевается в крохотной передней. Потом входит и оглядывается.
Странная обстановка! Комната в три окна с задрапированной дверью, выходящей в коридор, была очевидно залой. Полуоблупившиеся и пожелтевшие колонны под мрамор отделяют от зала бывшую гостиную старого дворянского дома. Спальни нет. Или она спит вон там, за колоннами, на кушетке, на которую наброшена восточная ткань? Старый резной шкафчик в углу. Над ним зеркало в овальной стеклянной раме, сделанной под серебро. И все здесь старое: блеклая обивка мягких кресел, козетка, рояль с длинным хвостом, портреты на стенах, секретер в стиле Людовика XV с крышкой, закрывающей письменный столик, с резной шифоньеркой. И даже персидский ковер перед козеткой стар и тщательно заштопан. Ничего кричащего, банального, модного. «У нее есть вкус, – думает Штейнбах. – И видны следы прошлого богатства».
У окна стоит мольберт. На нем эскиз чьей-то головки. Несколько полотен у стены перевернуты и закрыты бумагой.
– Выпьем чаю, – доверчиво и просто говорит она, снимая шляпу. – Я очень озябла.
– Здесь холодно. – Он помогает ей снять жакетку. – Не хотите ли, я затоплю ваш камин? Не зовите никого. Только скажите, где взять дрова?
Она радостно смеется.
– Вы меня поняли. Никто не должен знать, что вы были здесь. Пусть тайна окружит все, что касается нас! Вот, подите сюда. Тихонько… Я отворяю эту дверь, в коридор. В углу налево чуланчик… Видите вы его?
– Смутно, но вижу, – шепчет Штейнбах. Он улыбается бессознательно. Ее юность и радость согрели его душу.
– Там дрова… Не гремите, а то услышит бабушка.
И она рядом в темноте тихонько смеется. Когда камин затоплен, Лия подвигает к огню два кресла.
– Вы запачкали руки, – говорит она. – Какие у вас чудные руки! Постойте, что это за камень?
– Черный опал.
– Какой таинственный! Он похож на глаз человека. Вы не боитесь несчастья?
– Я ношу его давно, в память моей матери.
– Вот умойтесь здесь, – говорит она, отдергивая занавес у колонны. – Ах, как жаль! Придется все-таки звать прислугу.
– Зачем?
– Я велю подать самовар.
– Мне не надо. Впрочем, для вас. Вы давно кашляете?
– Это пустяки. Я кашляю всегда. Прислуга подаст самовар, но сюда я ее не впущу. Или вы останетесь за занавеской. Да?
– Конечно, – улыбается Штейнбах и задергивает занавес. «Я точно мальчик», – думает он удивленно.
Кто-то тихо стучится из коридора в дверь, которую Лия заперла на ключ. Лия глядит на гостя большими глазами и кладет пальчик на губы.
Стук повторяется. Лия выходит на цыпочках.
– Как поздно! Почему так поздно? – доносится из-за двери женский голос, еще молодой, нежный и капризный.
– Я гуляла, бабушка. Есть я не хочу. Велите Дарье дать самовар и торт. И красного вина. У нас есть вино?
– Немного осталось. У тебя гости?
– Да, бабушка. Никто нам не должен мешать.
– Почему горит твое лицо? А руки как лед. Деточка, ты простудилась?
– Нет-нет…
– Вчера ты читала до трех. А теперь опять засидишься?
– Милая бабушка, я так счастлива! Не нарушайте моего настроения. Идите, читайте. Конфеты у вас есть? Нет? Мне не надо… Я о вас… Кушайте, вы так любите конфеты.
Она возвращается задумчивая, затихшая. И опять садится у огня, но не в кресло, а на низкую табуретку. Облокотившись на колени, она глядит в огонь и тихонько кашляет.
Наконец, одни. У весело шумящего самовара стало уютно.
Штейнбах видит, что Лия не двигается, глядя в огонь. Он наливает ей чай, кладет сахару, подливает вина.
– Выпейте. Согрейтесь! Ваш кашель мне не нравится.
Она поднимает сияющие глаза:
– Как вы добры! А я забыла вас угостить… Я ничего не умею сама. Бабушка говорит, что я не от мира сего. Она сама такая же. Она совсем дитя.
Она пьет медленно, среди странного молчания, которое не тяготит ее. Очевидно она полна собой.
Он видит раскрытую книгу стихов, смотрит обложку. «Безмолвие». Стихи Гаральда. Душа разом холодеет.
– Вам нравятся эти стихи? Она точно просыпается.
– Стихи? Я очень люблю стихи, вообще. Ах, эти? О, они так прекрасны! Я многие знаю наизусть.
– Разве он так талантлив?
– Его стихи похожи на горы. Вы видели Альпы? Я провела в Давосе целый год. Потом объехала Швейцарию. Когда я читаю Гаральда, всегда вспоминаю горы. Его стихи такие же далекие от земли, такие же чистые и холодные. Это вечные снега. И заметьте, как образно назвал он их: «Безмолвие»?.. Это мой любимый поэт.
«И здесь он?» – с горечью думает Штейнбах. Лия идет за колонны и снимает со стены карточку.
– Вы никогда его не видели? Вот его портрет.
Штейнбах долго смотрит на этот склоненный над книгой энергичный профиль, на эти гордые сухие губы. Быть может, в эту минуту эти губы…
Он быстро, неловко кладет портрет на стол, как будто обжег пальцы.
– Этот человек не знает слабостей, – задумчиво говорит Лия. – Нет дисгармонии между его стихами и его лицом.
Опять, опять встает тоска… Куда уйти от нее? Как забыться?
– Сыграйте мне что-нибудь, – резко срывается у Штейнбаха.
Она удивленно поднимает голову. Скорбь в его лице, эта ломаная линия бровей пронзают ее душу. Она молча берет скрипку.
– Не глядите на меня! Сядьте у огня… вон там… И думайте о той, кем полно ваше сердце…
«Эта девочка читает в моей душе», – тревожно думает он.
Сидя в кресле и положив подбородок на скрещенные руки, он смотрит на синие струйки, бегущие по поленьям.
Нежные, дрожащие звуки зароились в комнате. Словно лучи месяца крадутся в мраке леса. Ощупью ищут дорогу к его сердцу, во тьме его скорбной души. И где упадут эти лучи, там загораются алмазы. Все стремительнее и настойчивее набегают эти лунные волны. Еще… еще… И вот мрак редеет. Волшебный свет затопил заколдованный лес. И проснулись спавшие боги.
Звуки смолкли. Лучи растаяли. В придвинувшемся мраке потонули опять сияющие очи.
– Что вы играли? – глухо спрашивает Штейнбах, не оборачиваясь, чтобы Лия не видела его лица.
– Потом скажу. Потом. Это было о вас… и для вас. Теперь слушайте обо мне…
Смычок рванул струны, и они заныли сладко и больно. Два-три аккорда, полных трепета, полных дыхания, как живые вздохи. И до жуткости похожие на голос людской льются страстные, напряженные, горячие звуки. Какая сила тона! И это играет женщина? Почти девочка? Нет. Душа ее созрела, и тайны этой души открылись внезапно и бессознательно для нее самой в этой страстной игре, полной восточной неги. Вот она, смуглая девочка, босоногая и трепетная Суламифь, с очами, как звезды… Она ищет возлюбленного на всех дорогах с наивной верой и страстным упорством. Он явился внезапно и исчез как сон. И унес ее покой. Неумирающая легенда девичьей мечты воплотилась еще раз на земле, под иными небесами, через много веков. Неужели для него, усталого? Для него, пресыщенного?
Вдруг скрипка засмеялась. Переливчатые звуки двойных трелей бисером рассыпались по комнате.
Он глядит в огонь и видит знойные глаза, смуглое личико, темные кудри…
Точно обожженный, он встает, оттолкнув кресло. Смычок сорвался. Все тихо. Темные глаза сияют ему навстречу. Глаза другой. Не те. Но разве они не прекрасны? Не говорят ли и они о жажде счастья? Не сулят ли и они ему забвенья?
– Лия! – со страстной тоской говорит он, протягивая руки. – Идите ко мне!
Она кладет скрипку на рояль и подходит бледная, трепетная, готовая на все по первому его требованию. Он это чувствует. Легкой дрожью подергиваются ее губы.
– Сядьте рядом, – тихо говорит он.
– Нет, здесь… Здесь… у ваших ног…
Она садится на скамеечку и робко смотрит вверх.
– Дайте мне ваши руки! – шепчет она. – Я к ним прижмусь лицом, вот так. И наступит Безмолвие, о котором говорит Гаральд.
– Не думайте о нем! Обо мне думайте сейчас! Лия, вы угадали. Мы встретились не случайно. Дайте мне забвение, Лия! Говорите, говорите мне о себе. Я буду слушать вас, как сказку…
А в душе слышится тоскливый вопль: «Согрей твоей радостью мое уставшее сердце! Видишь вдали надвигающийся призрак? Это Старость… Она заледенит последние порывы и оборвет дрожащие листы. Заслони от меня этот печальный призрак твоим юным телом, полным жизни. Дай мне забыть это серое лицо!»
Она сияющими глазами смотрит на него и говорит медленно, как во сне, не отнимая у него рук:
– Как давно я жду вас! Как часто я грезила о такой встрече! Жизнь груба. Души людей так плоски. Я избегаю людей. Я знаю только товарищей по классу. Мне больно от их зависти и вражды. Разве я ищу славы? Разве я хочу стоять на их дороге? Я люблю музыку, потому что, играя, я ухожу из жизни… И когда я смотрю на вас, у меня то же чувство. Как я люблю ваше лицо! Вот эти руки…
– Лия… Лия… Что вы делаете?
– Целую их. Что в этом дурного? Мое чувство к вам так прекрасно. Я любила вас всегда.
Она прижимается лицом к его рукам.
– Вы одиноки, бедная девочка. Я так и думал. Ваш порыв – это экзальтация, которая пройдет…
– Нет, не говорите так… Мне больно. Если б я искала людей или… увлечений, вы думаете, что я не нашла бы всего, даже в стенах консерватории? Моя душа полна до краев вами, только вами.
– Вы меня не знаете, Лия…
– Зачем мне знать, где вы живете, чем занимаетесь, какую газету читаете по утрам? Вы шли мне навстречу, прекрасный и скорбный. В вашем взгляде я разглядела вашу душу, тоскующую, голодную. Вот опять дрогнуло что-то в вашем лице. Я угадала: только обманувшийся смотрит такими глазами… Никогда не полюбила бы я сытого и счастливого. Я знаю: вы любите другую и никогда не полюбите меня. Но я ничего не прошу и не жду. Дайте мне любить вас! Дайте мне грезить о вас… Моя душа тосковала долгие годы. Но я ждала, я знала, что вы придете…
Он гладит ее волосы. Она опять кашляет.
– Вы очень больны, Лия. Почему вы не лечитесь?
– Вздор! Доктор сказал, что я не должна играть по шесть часов в день. Но он ничего не понимает. Ведь я кончаю курс, и через месяц будет мой концерт…
– Где?
– В консерватории. Мне дают залу бесплатно. Прежде я жила уроками. Но теперь это невозможно, нет времени. И вот каждый год я даю концерт. И на эти деньги мы живем. Мой отец разорился на издательстве. А у бабушки осталось так мало.
– Вы еврейка?
– По матери – да. Отец мой – обрусевший поляк. Мать перешла в католичество. Бабушка тоже католичка. Меня зовут Любовь. Но мать звала меня Лия. Это имя я люблю.
– А ваша фамилия?
– Гриневич.
Она поднимает голову.
– Ах, довольно об этом! Посмотрите мне в глаза… Когда вы уйдете, я набросаю на память ваш портрет. Вы будете со мной всегда…
Пламя разгорелось. В комнате стало тепло. Опустив ресницы и тихо улыбаясь, Голова Лии лежит на коленях Штейнбаха. Она держит его руку в своих. Другая его рука замерла на ее волосах. Он смотрит померкшим взглядом перед собой, и брови его сжаты.
За стеною бьют часы.
– Пора, – говорит он вдруг. Она словно проснулась.
– Вы уходите?
– Да, Лия. Я ухожу. Позовите прислугу. Ваш камин…
– Тише! Тише! Ни слова! Дайте мне в последний раз взглянуть в ваши глаза. О, какие глубокие, какие таинственные глаза! Теперь… поцелуйте меня…
Он берет в руки ее головку и нежно касается губами ее ресниц.
Она стоит один миг перед ним с закрытыми глазами, с экстазом в побледневшем лице.
– Теперь уходите, – говорит она чуть слышно.
Пока он одевается в передней, она стоит все также неподвижно, с опущенными веками, глядя внутрь себя, затихшая и сосредоточенная.
– Прощайте, Лия! – говорит он. Она кивает головой, не двигаясь.
«Она даже не просит вернуться. Или боится обмана?»
– Лия, я приду опять…
«Когда?» – спрашивают взмахнувшие ресницы и пламенные глаза. Но она молчит.
– Я скоро приду, Лия.
Медленно спускается он по тускло освещенной лестнице.
В душе странно сплетаются две тени. Два голоса. Два лица.
«Вот она, любовь, которую ты ждал, – думает он, идя по пустынной улице. – Любовь юная, беззаветная, высокая, как это небо. Любовь, которую ты молил у судьбы…»
Но отчего молчит сердце и плачет душа?
Когда Лия на другой день идет из консерватории, она на бульваре замедляет шаги и озирается. Никого.
Она долго ждет, тихонько кашляя и дрожа в своей короткой жакетке.
Какие сны ей снились ночью! И этот миг пробужденья.
«Неблагодарное сердце. Зачем ты бьешься так тоскливо? Разве не сошла на землю твоя греза? Живи воспоминанием… Я ничего не просила. Но он сказал: „Вернусь“».
Шаги ее замедляются невольно. «У него свои дела, своя жизнь. А она только случайность, только эпизод. Ничего, ничего, надо улыбаться».
Когда она поднимается по лестнице, она слышит тонкий запах ландышей.
Вся комната ее полна живых цветов. Громадные шапки хризантем подымаются над нарциссами и чайными розами. По углам трех корзин, полных ландышами, белеют мистические чашечки лилий. Все бело и строго. Только чайные розы слабо желтеют среди этой девственной красоты.
Лия долго смотрит на цветы. Глаза ее влажны.
– От кого это, Люба? – спрашивает бабушка, входя из коридора. Это сухая и стройная женщина с молодыми глазами и быстрыми движениями. У нее седые букли и наколка. На ней шелковое старое платье. Кружевной воротник тщательно подштопан. Акцент у нее польский, а голос совсем юный.
– В первом часу мне принесли их из магазина. От кого, не говорят. Но на адресе стоит твое имя. Кто это, Люба?
– Не спрашивайте, бабушка.
– Поздравляю! У тебя поклонник? Это для него ты играла вчера? Ну, конечно, я угадала. Ну, что же ты молчишь? И почему смотришь с таким упреком? Ах, Люба, Люба! Не легко тебе дается жизнь. Ты вся в мать… Если б ты вышла замуж и сняла с моей груди камень…
– Бабушка! Ради Бога, помолчите… Дайте мне побыть одной!
– Ну-ну, ухожу, – обиженно говорит бабушка. Быстро идет она к двери в коридор и плотно затворяет ее за собой.
Она очень довольна. Наконец! Молодая девушка, будущая артистка, должна иметь поклонника. А если к тому же этот поклонник богат…
За стеной весело звучит хорошо сохранившееся сопрано. Польки не хотят стариться. Бабушка чувствует себя молодой и счастливой. Она уже строит волшебные замки. Люба выйдет замуж за него… Они втроем уедут в Италию… Потом Люба даст концерт и прославится на всю Европу… Они…
– Что такое? Нет угля? Ах, Боже мой! Странные эти кухарки! Ну, возьмите в лавочке. Денег нет? Как нет? Вчера еще было три рубля. Что такое? Кушали торт? Да, правда… Вместо обеда торт и кофе. Это хорошо. Ну, вот вам гривенник. Не надо ворчать. Денег нет. Значит, они будут… Так и скажите лавочнику. «Барышня скоро даст концерт, и мы за все заплатим сразу». Да, пусть он не боится! «Если б я солнышком на небе блиста-ала». Лия подходит к ландышам и погружает в них лицо. Пахнет весною, свежестью. Лесом. Тайной. Счастливые слезы, как роса, падают в чашечки цветов.
Штейнбах робко звонит на темной лестнице.
Лия бросает скрипку. Одну секунду стоит среди комнаты, бледная, насторожившаяся. Потом запирает дверь в коридор и бежит в переднюю.
– Вы? Вы!
Она берет его руки и прижимается к ним лицом.
– Вы меня ждали, Лия?
– О, каждый миг, все эти дни. Разве вы не сказали: «Я вернусь»?
Обнявшись, они входят в залу. Штейнбах подходит к цветам.
– Вы должны любить ландыши…
– Да. Если у цветов есть язык, темный и странный, я все-таки поняла его. Эти цветы сказали мне то, о чем я не смела спросить…
– Они уже вянут, Лия.
– Пусть! Они умрут… Но будет вечно жить радость, которую они мне дали. Садитесь опять к огню. Вы видите, все – как было тогда. Никто не войдет. Вот и чай готов, и камин топится. Я ждала вас каждый день.
– Простите, Лия… Я уезжал по делам в Киев. Вернулся только два часа назад. Я сам стремился к вам. Завтра у вас будут новые розы.
– Я придвину табуретку, как тогда?
– Постойте, я вижу чье-то лицо на мольберте…
– Не глядите. Мне ничего не удалось.
Штейнбах внимательно щурится на свой портрет. Сходство есть. Его черты, главное – его брови и губы. Но есть какая-то неуловимая разница. Он не может сказать, в чем. Эта девушка рисовала его не таким, каков он есть, а каким видела она его очами своей души. И – как всегда в истинном творчестве – печать ее собственной индивидуальности отразилась в этих странных, мистических, далеких от жизни глазах портрета. «Если б я был таким!»
– Я в долгу перед вами, Лия, – говорит он, когда она, сидя на табурете, берет его руки и смотрит в его глаза. – Вы угадали. Я – не адвокат Берг. Не знаю, зачем я так сказал. Но побуждение было низменное, и мне стыдно перед вами.
– Нет-нет, я ничего не хочу знать. Скажите мне только ваше имя.
– Марк.
– Довольно! Я хочу, чтоб, приходя сюда, вы отрешились от всего, чем жили вчера. И если я сумею заслонить это прошлое, я буду счастлива. Я знаю: у вас заботы, дела. Тоска, проза. Пусть я буду вашей радостью! Маленькой радостью. Хочу, чтоб у вас было место, где вы могли бы забыться.
– И вы будете играть мне? Вы большая артистка, Лия. Я не могу забыть вашей скрипки.
Вдруг он отодвигается. Ее головка легла на его грудь.
– Это опасная игра, Лия.
– Для кого опасная?
– Я могу разбить ваше сердце.
– Оно ваше. Не все ли равно? Делайте с ним, что хотите. Если вы исчезнете из моей жизни, я…
– Что я? Что вы хотели сказать, Лия?
– Нет-нет, пустяки…
– Вот это именно то, чего я боялся. Лия, я не хочу недоразумений! Слушайте меня! Я связан с другой. И связан с ней навеки. Вся моя жизнь полна только ею.
– Где же она?
Как тих и спокоен ее голос! Точно прошелестели эти слова в стемневшей комнате.
– Здесь нет ее сейчас со мною. Но когда бы она. ни позвала меня, я уйду, Лия Я уйду.
– И не вернетесь? Он долго молчит.
Она ждет, вся сжавшись в комочек у его ног.
– Что я могу ответить вам, Лия? Говорите узнику, полюбившему стены своей клетки о высоком небе, о просторе моря. Он вас не поймет. Учите раба протесту и борьбе. Он не станет вас слушать! Любовь – это тюрьма нашей души… Это рабство.
Она поднимает голову, пристально всматривается и видит скорбь и горечь в его лице.
Она закрывает глаза и прислоняется щекой к его коленям.
– Пусть будет так! – говорит она.
И надтреснутый голос ее звучит болезненно.
В порыве жалости он склоняется над нею, запрокидывает себе на руку ее головку и смотрит с отчаянием в ее лицо.
– У меня нет свободы, Лия! В любви ее не бывает. Так любить – проклятие. Я презираю себя, но остаюсь рабом. Вот мое признание. Теперь вы отречетесь от меня? Я не даю вам никаких надежд, никаких обещаний. Но тогда зачем я здесь, спросите вы?
– Тише! Я не спрашиваю. – Она судорожно сжимает его руку. – Я не искала себе ни мужа, ни защитника. Я жизни не боюсь… Разве она не открыта передо мной и теперь? Не жениха ждала я эти дни. Только грезу.
Он наклоняется и целует ее в губы.
С ликующим криком она обвивает руками его шею и прижимается к нему всем тонким, трепещущим телом. С такой нервной силой прижимается она, что сердце Штейнбаха начинает биться сильнее и кровь звенеть в ушах. Его руки бессознательно, судорожно, словно в каком-то отчаянии обхватывают ее тонкую фигурку и держат ее у груди. Она слышит, как стучит его сердце.
Долго молчат они, оба полные смятенья. Вдруг он слышит ее шепот как в бреду:
«Марк… Марк…»
Штейнбах разжимает ее руки. И встает.
– Куда вы? – жалобно срывается у нее.
– Я должен уйти, Лия. Я не смею возвращаться.
– Почему? Почему? Постойте, Марк! Что случилось?
Он молчит. Разве сможет он сказать? Но душа его кричит «Я лгу тебе. В каждом слове, в каждом поцелуе лгу. Не тебя целую я сейчас. Не ты сказала мне только что: „Марк“. Я слышал другой голос. Между мной и тобой стоит другая женщина. Я ничего не могу сделать с собой. Я отравлен…»
– Лия, – говорит он вслух, – вы так молоды, талантливы. И вы правы, что не боитесь жизни. Вы ее уже завоевали. Научитесь же ценить ее и себя! Вы стоите большего, чем этот бред. Он пройдет, и явится любовь. И вы узнаете счастье.
– Только с вами, – говорит она твердо и спокойно, кладя ему руки на плечи и удерживая с силой, какую он не подозревал в ней. – Будет ли это счастье, или гибель моя, все равно! Вы ничего уже не измените в моей судьбе. Я знаю, что меня вы не любите. Но почему вы здесь? Ответьте мне теперь! Почему вы здесь, а не с ней?
В стемневшей комнате он видит только белое пятно ее лица, темные провалы ее таинственных глаз. Но он слышит ее голос. Голос женщины, а не ребенка. И в этом голосе столько силы и значения. Разве это та самая хрупкая и болезненная девочка, достойная жалости? Впервые за странностями и истерической экзальтацией он чувствует силу ее индивидуальности. И, как всегда, сам безвольный и бесстрастный, под гипнозом чужой упорной воли, под напором чужого страстного стремления он теряется и отступает.
– Вы молчите? Тогда я скажу за вас. Вы идете ко мне, потому что душа ваша голодна. У вас есть все, но нет радости. Та, которую вы любите, вас разлюбила.
– Нет. Если б разлюбила, было бы легче. Но я ей нужен. Без моей любви она не проживет.
Лия стоит задумавшись. Потом, тряхнув головкой, говорит все так же спокойно и твердо:
– Моя жизнь в ваших руках. Если она нужна вам, возьмите ее. Ни обещаний, ни надежд, говорите вы? Хорошо. Вы не смотрите, что я кажусь ребенком. Я прекрасно понимаю значение каждого моего слова. И это не порыв… Я молила судьбу послать мне счастье, непохожее на жизнь кругом. И греза сбылась. Я знаю, грезы исчезают. Исчезнете и вы. Но я верю, что вы меня не забудете никогда. Моя любовь слишком хороша для земли…
– Лия… Лия… Замолчите! Вы терзаете мою душу.
Она доверчиво кладет голову на его плечо.
– Я хочу исцелить ее, Марк. Улыбнитесь мне. Неужели и со мною вам тяжело? Посмотрите в мои глаза. В них небо и вечность…
Маня ходит от окна к двери с тоской в душе и ломает пальцы.
Сколько дней она ждет его! Каждое утро она говорит себе: «Нынче». Лихорадочно одевается, старается причесаться к лицу. Едет на репетицию. «Сейчас… сейчас… – на обратном пути, говорит она себе, подъезжая к гостинице. – Он знает, что я свободна от четырех до семи». И она ждет. Каждая минута полна тревоги. Каждый шорох в коридоре, каждый голос, гул шагов дают сердцу толчок. Она кидается к двери.
Никого.
С разбитыми нервами едет она в театр. И как трудно взвинтить себя! Быть прежней Маней, для которой в творчестве тонули все печали.
Когда она засыпает, наконец, говорит себе:
«Завтра, завтра… Я не звала. Он обещал…»
Но и этот день проходит бесследно.
Стрелка на каминных часах показывает пять. Маня падает в кресло.
Чувство темное и больное, стихийное чувство заполнило ее душу. Что это? Страсть? Или ненависть? Слезы злобы и бессилия жгучим клубком подкатили к горлу. Если бы закричать. Дико, протяжно, как кричат животные.
«Что нужно тебе? – спрашивает она себя. – Гляди себе в душу. Будь честна и правдива! Сознавайся! Чего хочешь? Владеть им? Владеть всецело, как Марком? Владеть его помыслами, его жизнью, сделать его безгласным рабом? Да, да!» – громко говорит она, и тяжело падают эти слова.
«Хочешь его ласки? Хочешь видеть страсть в этих темных, запавших глазах? Хочешь разбудить в нем желание? Да, да. Но ведь он же сказал тебе, что сближение убьет иллюзии. Ты больше не хочешь быть его вдохновением?»
Несколько мгновений она сидит, стиснув губы, в полном оцепенении. И вдруг встает. И закидывает руки за голову в безграничном отчаянии. «Нет! Не я ему. Он должен служить мне! Его любовь должна вдохновлять меня. Его страсть должна питать мою душу. Я жалкая нищая без этой любви. Где мои силы? Моя гордость? Мое творчество?»
Она стоит так, стиснув руки, сдвинув брови, бледная и сосредоточенная. И столько трагизма и силы в этом осунувшемся, даже увядшем лице, столько упорства в ее сжатых губах, столько угрозы в глазах, что если б Гаральд, в эту секунду подымающийся по лестнице, мог видеть это лицо, он не отворил бы двери.
Легкий стук. Зрачки ее расширяются. Растянулись мгновенно и смягчились все линии лица. Легкая и порывистая, она кидается к портьере.
Гаральд с порога кланяется ей, держа в руке цилиндр.
Она хочет заговорить. Нет слов. Хочет улыбнуться. Нет сил. Ах… выдать себя теперь? Свою слабость? Свои страдания? Нет.
– Я не помешаю?
Она нервно смеется. И делает грациозный жест, прося войти.
Он идет за нею, глядя на шлейф ее платья. У двери кладет на кресло свой цилиндр и стягивает перчатки.
Она молча указывает ему место в кресле, напротив кушетки. Лицо ее в тени. Свет электрической лампы на высокой подставке смягчается палевым абажуром.
– Вы одна, Marion?
– Да, Гаральд. И я вас жду давно.
– А барон Штейнбах?
– Он все еще в Москве.
Гаральд вытягивает ноги и глядит на носки штиблет.
– Marion, я хочу задать вам один из трех вопросов, которые почему-то принято называть «нескромными». Вы выходите за него замуж?
Маня отвечает не сразу.
– Не знаю, что вам сказать, Гаральд. Я дала Марку слово в минуту отчаяния или усталости. Но сдержу ли я его? Слова не могут связать людей. Их связывает чувство.
– А скажите, вот этот эпизод в маскараде, вы его выяснили?
Кровь кидается ей в лицо.
– Почему вы меня об этом спрашиваете?
– Потому что отъезд барона совпал с нашим сближением.
– Что же вы хотите сказать? – спрашивает Маня, сдвигая брови.
– Из всех врагов самый опасный тот, кто великодушно уступает дорогу…
Она сощурившись смотрит в окно. Лицо ее опять темнеет.
Как она изменилась! Она страдает… Но ему не жаль ее. Нет! Зачем лицемерить с собой? Эта женщина не внушает ему нежности. Так страдают только сильные натуры, хищные и гордые, которые сожаления не ищут. Значит, он ошибся там, в маскараде? И верно было первое впечатление от ее портрета – инстинктивный страх перед стихийной силой, веющей от нее сейчас?
Она переходит комнату и бессознательно прислоняется спиной к кафелям печи, как будто ее знобит. И руки ее, которые она заложила за спиной, и пальцы, которыми она дотрагивается до печи, действительно совсем ледяные.
– Гаральд, – говорит она глубоким голосом, – в вашей коротенькой записке есть одна значительная фраза. Вы сказали, что у меня мужская душа. В этом много правды… Если б я была женственна, я завязала бы с вами заманчивую игру с прелюдией сближения, полную недомолвок, полутонов, с целой гаммой настроений. Я лгала бы и вам, и себе. Рисовалась бы своей загадочностью. Любовалась бы своей недоступностью. Если б вы холодно отвергли эту игру, я сумела бы утешиться флиртом с другим. Но я далека от этого пошлого кокетства. Я сознаюсь честно и смело: я люблю вас, Гаральд.







