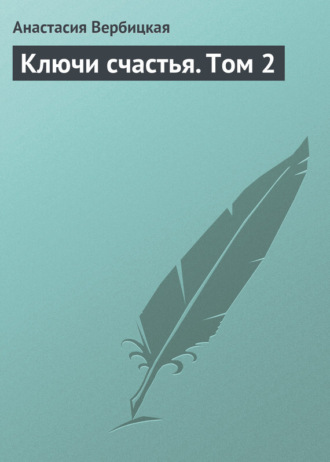
Анастасия Вербицкая
Ключи счастья. Том 2
Сегодня ему страшно. Вся нежность Лии бессильна заглушить его боль. Ему нужен угар. Ему нужно опьянение.
Он обнимает доверчиво прильнувшую к нему девушку с такой отчаянной силой, что ей становится страшно, хотя она наивна и неопытна. Что-то хищное в его взглядах, в его поцелуе, в движении его цепких холеных рук.
– Марк, что с вами?
– Я страдаю, Лия. Если бы найти забвение…
Он смолкает, стиснув зубы.
Она медленно бледнеет, опустив ресницы. Потом кладет руки ему на плечи и с померкшими глазами говорит:
– Что я должна делать? Скажите. Я сделаю все.
Он крепко прижимается головой к ее худенькой груди, и Лия чувствует трепет его тела.
– Тише, Лия. Это пройдет. Я возьму себя в руки.
– Я ничего не боюсь, Марк.
– Но я боюсь, Лия. Я боюсь себя.
После долгого молчания его объятия слабеют.
– Отойдите, Лия, – говорит он, не глядя на нее. – Сыграйте мне что-нибудь. Мне будет легче.
Она играет. Звуки нежные, тихие. В них настойчиво звучит вопрос, жалобный, робкий. И всякий раз Лия делает паузу. Штейнбах слышит это «Что? Что? Что?» Облокотившись на колени и подперев голову, он сидит в кресле. Согбенный, словно сломанный, разбитый борьбой.
Вдруг трагический, зловещий диссонанс омрачает нежную мелодию. Ai Он знает этот голос. Голос темного инстинкта, не считающегося ни с чем. Но он не уступит ему. Он не хочет страдания этого ребенка. Ему противна ложь.
Бьет девять Он встает. Она порывисто обнимает его.
– Вам не легче? Нет? Марк, что-то случилось. Ах, если б я была красавицей! – вдруг с тоской срывается у нее.
– Что это значит, Лия?
– Вы не ушли бы от меня, если б я была прекрасна. Ни любовь моя, ни молодость, ни талант не могут дать вам хотя б минутку счастья. Я это знаю. Я это чувствую.
– Лия! Не говорите так. Я люблю вас. Вы сами это знаете.
Она горько смеется, глядя ему в глаза.
– Если б вы любили меня, вы остались бы. Разве я не сказала вам, что сделаю все, все, что бы вы ни потребовали?
– Я не смею требовать.
– Почему? – страстно вскрикивает она. – Почему? Вот я здесь, перед вами, с моей беззаветной любовью. Я ждала вас долгие годы. И вы пришли.
– Я связан с другою.
– Нет! – исступленно кричит Лия. Он не узнает ее голоса, ее преобразившегося лица. – Нет! Молчите о другой. Я не знаю о ней ничего. Я ничего у нее не отнимаю. Я ничего от вас. не требую. И в этот великий, в этот священный миг нас только двое здесь. Двое во всем мире. Я вижу только ваше лицо. Ваши глаза зовут меня. И я иду. Куда? На гибель, на счастье – все равно. Ведите меня! Я иду.
Потрясенный, он глядит в эти сверкающие глаза женщины, которая вдруг в ней проснулась и не хочет уступать своего счастья.
– Вы пожалеете, Лия… потом, – говорит он чуть слышно.
– Я? – Она кидается к корзине цветов, срывает розу, вдыхает, закрыв глаза, ее запах. Потом рвет на клочки цветок, и белые лепестки падают к его ногам.
– Вот мой ответ.
Штейнбах бледнеет.
Она подходит к двери, ведущей в переднюю, и, широко раскинув руки, как распятая рабыня, загораживает ему путь.
С шапкой в руках он замер недвижно.
Она через комнату глядит на него горящими глазами, высоко подняв голову, полная решимости.
Он проводит рукой по лицу. Стало душно… душно…
– Лия… – срывается у него стон.
– Вы не уйдете отсюда к другой, – отчетливо и твердо говорит она.
Он бросает шапку, шатаясь подходит к креслу и падает в него. Лицо спрятано в спинке. Судорожно вцепились пальцы в подлокотники. Плечи вздрагивают конвульсивно от истерических рыданий, тяжелых рыданий без слез.
Она глядит издали, оцепенев от страха и неожиданности. Что это за звуки? Странные! Страшные. Он плачет? Он, который…
В одно мгновение она у ног его и целует эти бледные, страстно любимые руки. Боже мой! Как страшно. Что она сделала? Безумная, дерзкая…
– Простите, – срывается у нее отчаянная мольба.
Он оглядывается. Он обхватил ее руками, прижал к груди ее головку. И целует ее лоб, ресницы, волосы.
– Простите, Марк.
– Лия… Лия… Это ты должна простить меня. Такой прекрасный дар. И я не могу его принять. Ты встретишь другого потом, молодого и любящего. Отдай ему сокровища, которые теперь ты кидаешь мне под ноги так безрассудно. О, благодарю тебя за твой порыв, за эту дивную готовность! И этого мига, Лия, я не забуду никогда. Мы связаны с тобой этой минутой моего отчаяния и твоего сострадания.
– Это не сострадание, Марк. Это счастье, о котором я вас молю.
– Нет, Лия. Нет. Я никогда не был обольстителем. И верь мне, моя маленькая девочка. – Он берет ее за подбородок и поднимает ее головку. Загадочно глядят на него темные, бездонные зрачки ее. – Если б я не любил тебя нежно и благодарно, я ни минуты не поколебался бы. Но потом я все равно ушел бы, Лия. Разве не говорил я тебе, что я жалкий раб моей страсти и только жду зова, чтоб уйти? Что получила бы ты взамен этой жертвы? Ты прокляла бы меня, бедная девочка. Нет, не качай головкой. Ты не знаешь еще ужаса того, что люди зовут счастьем, того ада ревности, что идет на смену беззаветной жажде самопожертвования. Пусть минет тебя эта чаша! Во всяком случае, не я поднесу ее тебе, которая мне помогла пережить отчаяние. Знаешь ли ты, Лия, что я одну минуту готов был… Не бойся! Это у нас в крови. Но я умею бороться с голосами мертвых. Пока я еще кому-нибудь нужен, я буду жить. А теперь обними меня, дитя мое. И будем молчать. Пусть твои ручки гладят мое лицо. Вот так… мои глаза. О, благодарю. Лия, какое счастье, что ты со мною, что я не один сейчас!
– Вы очень страдаете, Марк? – еле шелестит ее голос.
– Да, Лия, да. Но боюсь, что я еще не достиг предела страданий.
Фрау Кеслер к Мане
Безумная женщина, если ты не хочешь потерять своего Марка, возвращайся немедленно. Я сама видела его с какой-то девчонкой. Он ежедневно встречается с нею на бульваре и исчезает на целый вечер. Неужели искусство для тебя так дорого, что ты своими руками разбиваешь свое будущее? Тороплюсь отослать. Он вернулся. Не выдавай меня. Нина была больна. Теперь поправилась. Он не хотел, чтоб тебе писали.
Агата.
Получив это письмо, Маня смотрит перед собою долгим, неподвижным взглядом.
Бедный Марк! Если он утешился хотя бы немного, тем лучше! Соперница ей не страшна. И напрасно Агата бьет тревогу. Разве его любви к ней могут угрожать эти маленькие развлечения, которые он ищет, чтоб заглушить тоску?
Конечно, я никогда не дерзну намекнуть ему на эту девушку.
Но одеваясь, чтоб ехать в театр, Маня впервые при мысли о Штейнбахе чувствует легкость на душе.
Всю дорогу она улыбается. Теперь жить стало легче.
Гаральд сидит у стола, стараясь сосредоточиться. В мысли нет привычной гибкости. Из-под пера выходят только бледные и банальные слова. Нет главного: аналогий и символов. Так писать может только ремесленник. Он не унизится до этого.
Он бросает перо и откидывается в кресле. Лицо его осунулось. Глаза запали глубже.
Одна неделя. Одна неделя праздности и угара. И он уже выбит из колеи и не может найти себя.
Разве он не предвидел этого, избегая Marion? В его жизнь она ворвалась, как буря. И как буря смяла цветы, взлелеенные им. И тщетно, как пастух в его «Сказке», ищет он теперь облетевшие лепестки. Не собрать. Все погибло.
Но так длиться не может. Он должен восторжествовать в этом поединке, в который ринулся так отважно, чтобы чувственностью убить свою страсть. Это верный путь. Он это знает. И недаром мужская, смелая душа Marion инстинктивно пошла по той же дороге. Чтобы освободить душу, надо утолить жажду тела. Через это надо перешагнуть, если хочешь творить спокойно. С лихорадкой в крови нельзя работать.
И он уже видит, как редеет чаща заколдованного леса. Скорей бы на простор! Вздохнуть полной грудью. Опять узнать радость одиночества. Радость тишины за этим столом, в четырех стенах молчаливой комнаты.
Он придвигается к столу и берет перо.
Взгляд его падает на часы. Вздох срывается у него.
Она ждет завтракать. Она вырвала у него это обещание вчера, не считаясь с тем, что ему надо закончить рассказ. «Разве считается она с чем-нибудь?» – горько думает он. Она хочет видеть его не только в театре, но и на репетициях. Она постоянно ждет его то к завтраку, то к обеду. После театра она везет его к себе, как триумфатор добычу, не оставляя ему ни одной свободной минуты, распоряжаясь им, как вещью. Обольстительная, вечно новая, жизнерадостная Далила.[36]
И в ее комнате, под ее смех или страстный шепот, под лаской ее дивных рук, среди запаха ее опьяняющих духов, он чувствует, как растворяется его личность, как тонет его Я под гипнозом чужой воли.
Любовь ли это – то темное и стихийное влечение, полное жестокости, так похожее на ненависть, что сливает их тела в судорожном объятии? Только тела. Не души. Рознь эта, так пугавшая Гаральда, так привлекавшая Marion, не исчезает никогда. И глядит из их глаз с тайной угрозой в самые интимные, в самые священные минуты.
Да, эта женщина умеет опьянять. Она похожа на стихию, внушающую трепет, таящую гибель. А быть может, возрождение? Она не знает ни одного банального слова, ни одного пошлого жеста. Лицо ее в эти минуты полно мистической тайны, как лицо древней жрицы. И она прекрасна тогда! О, как она прекрасна! Когда-нибудь потом, когда все уляжется в душе, он знает, что это лицо подарит его таким подъемом творчества, таким богатством образов, каких он не знал доныне. Если только он победит и уйдет. Если только он вырвется на простор.
Лишь вдали от нее он может протестовать, возмущаться. Он может ненавидеть ее за это постоянное насилие над ним, за это бесцеремонное вторжение в его жизнь. Что это? Презрение к его личности или же бессознательная стихийность ее души?
«Разорвать… и скорее!» – властно говорит голос рассудка. И он замирает, прислушиваясь к нему.
Никогда уже жизнь не подарит ему такой красоты. Как пошлы и бледны пред нею все женщины!
И все-таки, все-таки он ее покинет.
Сзади зашелестел шелк, и, прежде чем он успел оглянуться, душистая ручка, еще пахнущая кожей перчатки, закрывает ему глаза. За спиной слышится нежный смех.
– Чем ты так занят? Я два раза стучала. Здравствуй!
Он берет ее руку и целует в ладонь. С ней в комнату вошла струя свежего воздуха. Запах знакомых духов напоминает о том времени, которое надо забыть – если хочешь идти вперед.
Он откидывается в кресле, держа ее за руки, и смотрит на нее снизу вверх. Глаза ее искрятся, щеки алеют, сверкают зубы. Левая брось поднялась. Лукаво улыбаются свежие губы. Это жизнь. Сама жизнь ворвалась к нему. Торжествующая, беспощадная, самодовлеющая.
Но ей не место здесь, в комнате поэта, стоящего выше жизни.
– Что ты так глядишь, Гаральд? Что ты хочешь сказать? Едем, едем скорее завтракать. Меня задержали на репетиции. И как хорошо, что я догадалась заехать!
– Мне некогда, Маня. Я должен писать.
Она звонко смеется и разбрасывает рукописи по столу.
– Какой вздор! Разве это не успеется?
– Это работа к сроку, – кратко и печально отвечает он. – Это хлеб мой.
Ее взгляд падает на конверт: «Боруху Исааковичу Менделю».
Удивленно приподняв брови, она смотрит то на лоб его, то на конверт.
– Как твое имя, Гаральд? – упавшим голосом спрашивает она.
Он с усмешкой подвигает ей конверт. Ее левая бровь напряженно застыла в капризном изломе.
– Тебя зовут Борис? – настойчиво спрашивает она.
– Нет, не Борис, а Борух.
– Борис Александрович? – капризно повышает она голос.
Он смеется. Это так неожиданно, что она роняет муфту.
– Меня зовут Борух Исаакович Мендель, – говорит он отчетливо.
И вдруг перестает смеяться.
– Первое разочарование? – спрашивает он после паузы, глядя в ее застывшее лицо.
И, как это ни странно, ухо ее только сейчас впервые явственно слышит его акцент, от которого морщился Штейнбах, над которым смеялся Нилье.
Она смотрит на него большими и прозрачными глазами.
– Но я никогда и не выдавал себя за русского, – говорит он холодно, играя костяным ножом. – Я выбрал себе псевдоним, потому что он звучит красиво и отгораживает меня от толпы и ее любопытства. Но в частной жизни я не хочу быть самозванцем. Почему Борух хуже Бориса? А если и хуже, это все-таки мое имя. С этим придется мириться и вам.
Она слушает уже не слова его, не голос, а его акцент. Холодными, пытливыми глазами она окидывает эту комнату, эти памятные ей стены. Почему они точно сдвинулись сегодня? И эта волшебная комната стала тесной?
– Мы едем, Гаральд? – спрашивает она, надевая перчатку. И в голосе ее звучит холодок.
Но он понял ее, услыхав этот голос. Так она еще никогда не говорила с ним. И слишком выразительно ее лицо.
С чувством невольного отчуждения и горечи под маской светской любезности он идет за нею, захватив со стола перчатки и цилиндр, бледный, стиснув твердые губы, упрямо и враждебно глядя на шлейф ее платья.
На вернисаже выставки модернистов Маня ходит под руку с Гаральдом.
Публика перестала глядеть на картины и следит за каждым движением знаменитой босоножки. Мужчины смотрят на ее лицо. Женщины разглядывают ее туалет.
Вдруг Гаральд видит Дору в десяти шагах от себя, рядом с Зиной Липенко.
– Pardon! – говорит он Мане, отходя.
Гневно сверкнули ее глаза. И он это заметил.
Злая обида поднимается в душе Гаральда.
– A! – насмешливо приветствует его Дора. – Куда вы пропали, Гаральд? Мы не виделись целую вечность. Впрочем, вы как раб прикованы к триумфальной колеснице Marion. Ступайте, ступайте. Вон как гневно глядит она на меня! С видом оскорбленной королевы.
– Я скоро уезжаю, Дэзи, – спокойно перебивает он.
– За нею едете? В ее свите?
– Не говорите пошлостей, Дэзи. Это вам не идет. Я уезжаю домой. Умер дядя и оставил мне маленькое наследство.
– Какие прекрасные люди эти дядюшки еще со времен Онегина! – смеется Зина. – Жаль, что у меня одни тетки. И надолго едете? Вы очень изменились, Гаральд. И счастливым не выглядите.
– Мне необходимо закончить рассказ, принятый в журнал. А работа не спорится. Быть может, в провинции я найду лучшие условия. Я буду у вас послезавтра, в пять часов, как всегда.
– Кто эта дама с вами? – спрашивает Зина, щуря близорукие глаза. – Неужели Marion?
Дора смеется, качая головой.
– Вот кстати. А я к ней собиралась. Представьте меня!
Втроем они подходят к Мане.
Та смотрит на картину и не видит ее. Совсем не видит. В сердце почти физическая боль. Прощай, радость! Она была недолгой. «Хоть час да мой!» – говорила она себе. Безумная! Разве страсть не всегда одинакова? Она готова убить эту проклятую Дези. Если б сейчас дать себе волю, она схватила бы Гаральда за руку, и, как собачку на цепочке, потащила бы его за собой. Боже, Боже! Какой ужас!
Затуманенными глазами глядит она на пейзаж.
Голос Гаральда заставляет ее обернуться. Лицо у нее неестественное, жалкое от усилия скрыть свои чувства.
Дора улыбается с холодным презрением.
Маня это видит. Она пробует улыбнуться Зине. Ничего не выходит. Одна гримаса. Не стоит притворяться! Это унизительно.
Не дослушав того, что говорит ей Зина, она вдруг оборачивается к Доре и спрашивает, дерзко улыбаясь:
– Вы Дэзи? Я вас читаю иногда.
– Вы ведь не любите ни сатиры, ни юмористики, Marion? – быстро перебивает Гаральд, чуя недоброе в ее тоне. – Они чужды вашей романтической душе.
Его поспешность, его тон еще больше разжигают гнев Мани.
– Вы ошибаетесь, Гаральд. Я люблю и Диккенса, и Щедрина. Но вы, современные юмористы, вы слишком упростили свою задачу, – продолжает Маня, любуясь эффектом слов, от которых меняется надменное лицо Доры. – Чтобы смеяться, надо иметь в душе то, что выше смеха. А вы? Во имя чего вы смеетесь? Кто вы? Во что верите? Кому молитесь?
– Вы хотите сказать… – говорит Дора, побледнев.
– Я хочу сказать, – стремительно перебивает Маня, – что за вашим смехом я не вижу вашего лица. А для писателя, если только вы себя причисляете к ним, это убийственно.
– Это интересно, – подхватывает Зина. – Мне нравится то, что вы говорите. Вы, значит, думаете…
– Я думаю, что наша юмористика так же далека от литературы, как оперетка от оперы или фарс от драмы. Юморист без миросозерцания – ничто. Он меньше клоуна в цирке. Потому что клоуны бывают талантливы и умны. Простите мое мнение. Я, конечно, только публика. Но ведь вы пишете для нас.
И Маня любезно оборачивается к Зине. Она уже совсем овладела собой:
– О чем хотели вы меня просить?
Дора отступает, бледная и растерянная. Насильственно улыбаясь, она невпопад отвечает что-то Гаральду.
Зина передает Мане просьбу. Надо устроить вечер на ее имя, на имя Marion, с танцами, конечно, и с участием Нильса.
– А цель?
Зина колеблется минуту.
– Позвольте прийти к вам послезавтра, в пять. Можно?
«У меня обедает Гаральд. Как это скучно! – думает Маня с жестокостью влюбленной женщины. – Но делать нечего…»
– Я буду вас ждать, – любезно улыбается она. С Дорой она прощается издали, коротким кивком головы, и глаза ее все так же искрятся и смеются. Гаральд в передней особенно тщательно застегивает ее манто, но она чувствует его раздражание.
– Вы будете у меня вечером? – сухо спрашивает она, когда дверца автомобиля захлопывается за ними.
– Нет, – бесстрастно отвечает он, избегая встречаться с ее напряженным взглядом. – У меня спешная работа. Будьте любезны остановиться на Моховой. Меня ждут в редакции.
Ноздри ее вздрагивают, и глаза темнеют.
– Вы мне мстите за вашу Дору? – вскрикивает она.
Он оборачивается. Его лицо печально.
– Вы были жестоки. И мне больно. Не за нее. За вас.
– Я ненавижу ее, Гаральд! Я страдаю, я с ума схожу. Почему я одна виновата? Ведь она тоже меня ненавидит!
– Я никогда не слыхал от нее ни одного намека на это.
Она отодвигается, пораженная. Ее нисколько не трогает это великодушие соперницы.
– Значит ты еще ходишь к ней? Ты продолжаешь с ней свои отношения?
– У меня нет причины порывать со старыми друзьями.
Она молчит с глазами, полными ужаса. Потом берет руку Гаральда и прижимается лицом к его плечу.
– Гаральд, подари мне этот день! Если ты любишь меня хоть немного, если ты способен заглянуть в мою душу. Боже мой! Точно яма раскрылась под ногами у меня. Черная, бездонная яма, и я сейчас упаду в нее. Удержи меня. Побудь со мной, Гаральд…
– Простите, Marion, я очень занят, – мягко говорит он. И звонит шоферу. Автомобиль останавливается.
– Я сойду здесь, Marion. Редакция недалеко. У меня деловое свидание.
– Не лгите! – перебивает она, и глаза ее точно дрожат от охватившего ее бешенства. – Ни одному слову не верю. Нет ни редакции, ни работы. Ступайте к вашей возлюбленной…
Гаральд захлопывает дверцу.
Автомобиль уносит Маню. Жалкое лицо ее искажается рыданиями.
«Что я сделала, безумная! Что я сделала! Своими руками я рою могилу моему счастью. Ах! Но где же оно, это счастье? Где? Он не простит мне этого оскорбления. Никогда не простит. Мне остается только умереть…»
Маня лихорадочно мечется по комнате.
Вот уже сутки, как его нет. Не был вчера в театре. Не приехал к завтраку, хотя обещал.
Оскорблен? Быть может, работает? Разве он забыл, что через две недели ее уже не будет здесь, а работа останется с ним всегда? Неужели он не может ей простить эту Дору?
Она бежит к столу. Лицо ее горит от негодования. Она пишет:
«ГАРАЛЬД, Я ЖДУ ВАС. М».
Она звонит и велит Полине отвезти эту записку по адресу.
– Возьмите мой автомобиль.
Она садится у камина вся дрожа, как в ознобе, чувствуя себя вдруг обессилевшей, разбитой физически и нравственно. Что может быть хуже ожидания?
«Он не любит меня, – с горечью говорит она вслух. – А если и любил когда-то, я сама убила это нежное чувство. Потому что свергнуть иго страсти мне было важнее, чем сохранить его любовь. Но чего же я добилась? Освободила ли я мою душу? Не впала ли я в новое рабство? Да и люблю ли я его сама?»
Она вспоминает его глаза, его губы. Потом лицо Марка.
«Нет. Я не люблю Гаральда. Моя страсть умрет. Я уже вижу впереди тот день, когда она умрет. И мы расстанемся спокойно. Но сейчас? Зачем эти страдания? Эта ненависть? Эти слезы? Такие ядовитые слезы? Они старят душу, как и лицо…»
Она смахивает их. И, подперев рукою голову, закрывает глаза.
И вдруг она видит себя идущей ночью по коридору. Она слышит стук в дверь, легкий, но твердый и настойчивый.
Неужели это была она? Она пришла сама, без зова? Да, пришла. Была невменяема. Кто-то велел идти. Ослушаться не могла… Ах, эти шаги за дверью, от звука которых останавливалось ее сердце! Дверь распахнулась.
Что прочла она тогда в его глазах? Ненависть. О, это она помнит! Она никогда не забудет этого взгляда. Он говорил ей:
«Ты, чужая мне и враждебная, вторглась в мою жизнь. И я буду бороться с тобой, как с врагом…»
И все-таки, все-таки… Страсть победила. Она сорвала все преграды, как срывает плотину наводнение…
Но вода схлынет. И страсть уйдет.
«Тем лучше, тем лучше, – думает Маня. – Скорее бы только стряхнуть с себя эти цепи! Скорей!»
Она лежит с закрытыми глазами. Почему-то вспомнилась ей одна сцена из далекого детства. Темный, дикий, глухой лес. А вдали, за деревьями, розовая полоска зари.
Ей было всего пять лет, когда мать, уезжая гостить в имение одного из своих поклонников, взяла с собой Маню.
В первый раз тогда девочка увидела лес, поля, васильки, рожь, речку. В первый раз почувствовала красоту вечерней зари и священную тишину темнеющих полей. И безумная любовь к природе впервые вспыхнула в ее душе. Никто не следил за Маней. Она была предоставлена самой себе.
И вот однажды, убежав в лес, она заблудилась.
Целый час она топталась среди хмурых великанов, ища дорогу. Забралась в какую-то чащу. И бессильно плакала, вся исцарапанная, в разорванном платье. Взрослому человеку ничего не стоило бы выбраться на простор. Но она была такая маленькая.
Вдруг между деревьев блеснула полоска зари. Девочка радостно вскрикнула. Недалеко была опушка. Надо опять идти.
И когда, вся истерзанная и запыхавшаяся, она выбежала из леса и увидала мирное поле и алеющее небо, слезы освобождения и счастья хлынули из ее глаз.
«Чаща редеет, – подумала Маня, отдаваясь сладкому оцепенению усталости. – Скоро увижу поле и зарю…»
Полина входит неожиданно. В руке у нее записка.
Маня, как разбуженная, смотрит, не понимая. Губы ее бледнеют.
«Я не приду, Marion, ни нынче, ни завтра. Простите, что забыл предупредить. Меня захватила работа. И я дорожу своим настроением. Ваш Гаральд…»
С разлившимися зрачками смотрит она на эти строки. Потом бешено рвет записку и топчет ее ногами.
Но злоба гаснет. И Маня падает в кресло, истерически рыдая.
Какой маленькой, какой жалкой чувствует она себя под тяжелой рукой, опустившейся на ее голову! Он освободился. Он вырвался из лап хищника. И раны его заживут. А она еще бьется в когтях зверя, истекая кровью. И когда же конец? Чем убить эту жгучую тоску? Это влечение, ядовитое, больное, как укус? Неутолимое, как жажда умирающего?
«Боже, Боже! Дай мне силы не унизиться, не выдать своих мук, не молить о ласке. Дай мне силы пережить эти минуты!»
Дышать нечем!
Она кидается к форточке, распахивает ее настежь. И, закрыв глаза, стоит под морозной струей, охватывающей ее тело ледяным поясом.
Только два часа дня. Декабрьское солнце, побродив где-то за домами и бросив бледно-алый отблеск на верхушки зданий, уже снова спускается к горизонту. Мороз. И петербуржцы, обрадованные погожим днем, наводнили Невский.
«Какой чудный день!» – думает Гаральд, подходя к окну. Взглянув на зеленоватое небо, он опускает шторы и зажигает лампу. Писать, писать, пока не иссяк этот дивный ключ, вдруг забивший в его душе.
Это начиналось два дня назад.
Точно кто-то толкнул его к столу, и он писал всю ночь.
Давно, давно он не чувствовал такого прилива творческих сил. За эти две недели праздности и чувственного угара в его мозгу зрел бессознательный процесс творчества, как ручей в недрах земли, незримо пробивая себе путь. И когда вчера он проснулся – а спал он всего три часа – и когда сел за стол, его рука не поспевала за теснившимися образами, за строфами, звучавшими в его ушах еще во сне под утро, готовыми и законченными, как будто он работал над ними резцом. Он забыл, что его ждет Маня. Он забыл, что обещал Доре зайти к ней. Даже голода не чувствовал он весь день. И очнулся только в одиннадцать вечера.
Тогда он вышел на улицу, поужинал у Палкина и пошел бродить по набережной, где он часто обдумывал свои замыслы.
Он любит эту набережную и на закате, и ночью; ее пустынность, дремлющие громады дворцов, черную, зловещую воду Канавки с ее мостом, напоминающим Венецию. Любит цепь огоньков по другую сторону Невы и вдали грозный, таинственный силуэт Петропавловской крепости; и Зимний дворец, весь овеянный легендами прошлого, мрачный и много знающий, с его неподражаемой окраской.
Он ни разу вчера не вспомнил о Мане. Как будто ее не было. Он думал только о своей новой новелле. Там были он и она. С теми же глазами, с той же улыбкой. Но он любил не Маню, которая его ждет и ревнует, а женщину его рассказа. Только ею, этой грезой, полон он теперь. Чувственные ласки, поцелуи… О, как все это далеко сейчас! Как не нужно.
Стук в дверь. Гаральд поднимает голову. «Неужели она?» С глухой враждебностью он стискивает губы. Встает и идет навстречу.
Как она бледна! В лице ее он видит только одни огромные глаза «раненой лани». И ему вспоминается девушка «Сказки», идущая на смерть.
Она откидывает вуаль. Он целует ее руку.
– Ты пишешь? – кротко спрашивает она и садится, точно ослабев.
Лицо у нее больное, осунувшееся. Губы пересохли. Под глазами синие тени.
– Да. Я рад, что могу закончить свой труд до отъезда.
– Разве ты уезжаешь?
– Завтра вечером. У меня умер дядя. Мать зовет меня.
– Боже мой! – срывается у нее. Но, стиснув руки, она спрашивает почти спокойно: – А потом?
– Потом я думаю проехать в Египет. Я давно мечтаю о Востоке. Да и доктор советует ехать. Я надорвался немного. И легкие ослабели.
– Легкие? – переспрашивает она в ужасе. – Разве ты когда-нибудь болел?
– У меня два раза уже было воспаление. Я прожил одну зиму в Давосе. Мне запрещено работать через силу, волноваться, любить. – Грустная улыбка пробегает в его глазах и гаснет: – Я хрупкий сосуд, Marion. Моя внешность обманчива.
Она протягивает горячую руку и нежно жмет его пальцы.
– Не говори так. Я чувствую себя преступницей.
Она прижимает его руку к своей щеке. Таким милым детским жестом. Потом целует ее.
Он вздрагивает, точно от ожога. Вся кровь прилила к сердцу. Вдруг он чувствует, что незнакомая сладость нежности могучей волной поднимается в его сердце. И оно бьется, огромное, тревожное, счастливое.
– Что ты делаешь, Marion? Милая Marion…
– Оставь! Мне хорошо так. Сядь со мной рядом! Обними. Вот так… И помолчим немножко. О, как отрадно быть вдвоем! Гаральд, отчего мы раньше не знали таких минут?
– Ты больна, бедная Marion? – после долгой и странно сладкой паузы спрашивает он, поглаживая ее щеку и руку, бессильно упавшую на его колени.
Ее губы дрожат.
– А… счастливый, Гаральд!
Он слышит слезы в этом голосе. Это так ново, так… И вся она такая тихая и печальная. Ему жаль ее. Какое страшное, обессиливающее чувство! О, только не поддаться ему! Тогда все пропало.
– Почему ты несчастна, Marion?
Она кладет ему руки на плечи и долго изучает его лицо.
«Точно прощается», – думает он.
– Продолжай. Что же ты замолчал, Гаральд? Скажи так: «Ведь ты сама этого хотела, я тебя предупреждал. Я любил тебя, как грезу. Ты сама разбила счастье». Знаю, Гаральд, знаю. Но разве я могла поступить иначе? Волна захлестнула меня с головою и понесла. Я не противилась. Я знала, что она вынесет меня на берег. Но ты доплыл туда раньше меня. Ты уже освободился, Гаральд. Вот ты сидишь за письменным столом, счастливый и гордый. А я еще борюсь с волнами.
– Доплывешь и ты, Marion. Такие, как ты, не гибнут.
– Спасибо тебе за эти слова! Я все-таки враг, достойный уважения. И ты не должен с презрением думать обо мне, когда мы разойдемся. И если, повинуясь этой темной силе, я еще раз дойду до унижения, ты все-таки сумеешь разобраться в этом, Гаральд? Даешь слово?
Не отвечая, он берет в обе руки ее голову и целует ее глаза. Ее он никогда не целовал так. Только Дору. Но что для него Дора теперь, перед этой женщиной, прекрасной и сильной, как сама Жизнь? Никогда душа его не звучала, как теперь.
Она подходит к столу и пробегает глазами строки поэмы.
Он вдумчиво следит за нею запавшими глазами. Еще яснее, чем тогда, перед портретом, он сознает стихийную силу этой женщины, умеющей одной слезой, одной лаской гасить его враждебность и подчинять себе его мятежный дух. Вдруг он слышит ее глубокий трепетный голос:
– Вот где твоя сила, Гаральд. Вот что выделяет тебя из толпы. И с чем я, безумная, хотела бороться.
Ее голос срывается. Она вынимает платок.
– Ты плачешь, Marion? – вскрикивает он.
Она смахнула слезы и опять улыбается нежно и печально, чарующей улыбкой, которой он не знал.
– Нет, это светлые слезы. Они облегчают. Я с благоговением гляжу на эти строки. И мне стыдно. Мне больно, что я мешала тебе работать.
– Не говори так, Marion! Два дня работы вознаградили меня за все. Кто знает? Быть может, эта пауза, этот угар были необходимы мне, были ценны.
Она сияющими глазами глядит на него.
– Ты можешь еще сомневаться в этом? Ах, Гаральд, я знаю, что моя страсть обогатила тебя! Помнишь мое письмо из Тироля? Помнишь, чем ты был для моего творчества? Теперь я расплатилась с тобой. И это мирит меня со всеми страданиями последних дней. Страдания забудутся. А твои стихи будут жить.
Она берет со стола бумагу и целует ее.
– Marion. Что это значит? – взволнованно спрашивает он.
– Здесь все-таки я! – гордо говорит она, ударяя рукой по рукописи. – И ты меня не забудешь.
Она опускает вуалетку и идет к двери.
«В своей печали ты еще прекраснее, чем в своей страсти, – думает он. – И если меня опять потянет к тебе, я погиб…»
Но – совсем неожиданно для себя – он спрашивает ее:
– Ты будешь нынче вечером дома? Она молча наклоняет голову.
– Но ты меня не зовешь, Marion? – тревожно срывается у него.
– Нет, Гаральд, не зову. Ты придешь сам теперь. Но я готова ко всему после той ночи, что я пережила тогда. Даже твой скорый отъезд не удивляет меня. Я и это знала. И я ничего не чувствую. Умерло что-то в моей душе.
– Это победа, Marion.
– Победа Пирра, – говорит она с горькой улыбкой.
Он провожает ее до лестницы. «Это будет последнее свидание. Это будет последняя слабость», – думает он.
Он возвращается в номер. И тоже вдруг чувствует стены, которых не замечал раньше. В них душно, тесно.
Он садится к столу. Холодно белеет бумага. Не тянет писать. Мысль бежит вслед за женщиной, оставившей здесь запах своих духов и частицу своей душа Они соприкоснулись сейчас, их души, не видевшие друг друга за слепым и душным покровом страсти. Они открыли наконец печальные лица. И сердце Гаральда замерло, когда он почувствовал внезапно красоту этой сложной и мятежной души.







