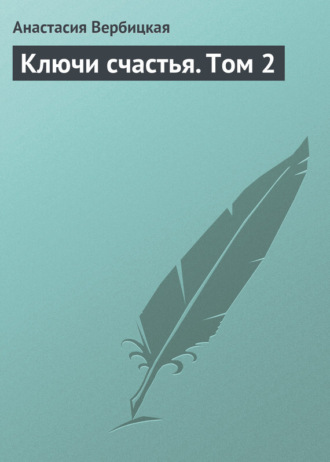
Анастасия Вербицкая
Ключи счастья. Том 2
«Не думать, не думать об этом! – говорит он себе, берясь за перо. – Это ловушка врага, который не дремлет. О, как нужно быть осторожным, чтобы враг не напал врасплох!»
Он пишет. Но вдруг бросает перо и встает.
Все кончено. Настроение нарушено. Цепь порвалась. Нанизываются вялые слова. А час назад он низал жемчуг. Голова пуста. Вся кровь прилила к сердцу, впервые пожалевшему ту, кого он боялся.
«Она – красота! – говорит кто-то отчетливо и сурово. – Она – красота и жизнь. А ты отрекаешься от нее…»
«А я отрекаюсь, – думает Гаральд. – Во имя высшей цели я отрекаюсь от счастья…»
Но впервые эта жертва кажется ему огромной.
Бьет четыре. Он решительно прячет рукопись в стол, берет цилиндр и выходит.
Она свободна до семи. Когда он войдет, она улыбнется. Ах, эта улыбка! Как часто он видел ее во сне с этой печальной, кроткой улыбкой! Но никогда в действительности, до этого дня.
«А я еще думал, что исчерпал ее всю…»
Сердце его бьется, когда он идет по коридору гостиницы, где живет Маня. «Если это любовь, я погиб», – говорит он себе.
Он бледнеет, отворяя дверь. Он даже забыл постучаться, так сильно и ново волнение, охватившее его.
Она стоит у камина, печальная, одинокая.
– Гаральд! – кричит она, кидаясь ему навстречу.
Как долго потом он слышал этот крик.
И он говорит ей дрожащим голосом, каким ни с кем не говорил в жизни; говорит те слова, которых так долго и тщетно ждала Маня; вкладывая в них значение, которого не знал до этого дня:
– Я люблю тебя, Marion.
Проводив Маню в этот вечер из театра домой, Гаральд остается у нее.
В четвертом часу утра, крадучись по слабо озаренному коридору, мимо молчаливых комнат, Маня провожает Гаральда. На ней манто и капор.
На лестнице они останавливаются. С робкой непривычной нежностью берет он в свои руки ее лицо, глядит в него мгновение. Маня невольно закрывает глаза.
«Запомни, запомни этот миг! – говорит она себе. – Этот взгляд его, это новое выражение. Только ты его видела. И не увидит больше ни одна женщина…»
То, что они пережили в эту ночь, было так прекрасно, полно и высоко, что слова кажутся ничтожными, ненужными. Впервые слились не только тела их, но и души. И этот миг был грозен и священен, как молния, пронесшаяся над землей. Миг, когда люди становятся богами. Он исчез. Но отблеск вечности еще остался в их зрачках.
«Он не повторится, – думает Маня. – Все потом будет ниже и бледнее».
Он страстно целует ее ресницы.
– Уедем, Marion? – шепчет он.
Она молча наклоняет голову.
– Ты подождешь меня? Через десять дней я вернусь.
– Да, Гаральд. Да.
Они выходят вместе. Весь длинный переезд они держат друг друга за руки. И оба молчат, не замечая молчания.
У грязного памятного ей двора он сходит и, сняв ее перчатку до половины, целует розовую горячую ладонь.
– До скорого свидания, Marion!
Она смотрит ему вслед, пока он идет по двору.
Вот остановился под навесом. Снял цилиндр. И красивым жестом, которому не выучишься, взмахнул им в знак прощания. Скрылся.
Словно просыпаясь, Маня проводит рукой по лицу.
Она едет обратно по грязному пустынному переулку.
– Послушайте, извозчик, где ночной телеграф? Далеко? Все равно. Везите меня туда.
Телеграмма Мани к Штейнбаху.
«МАРК, ВЕРНИСЬ!»
Получив эту телеграмму в десять утра, Штейнбах долго лежит с закрытыми глазами, дожидаясь, когда стихнут мучительные перебои в сердце.
Она зовет. Что-то случилось. Он ей нужен? Или это…
Несколько раз он хватается за телеграмму и смотрит на эти два слова, заключающие в себе целый мир для него. Или же готовящие ему, быть может, жестокий удар? «Марк, вернись!» – говорит он вслух, стараясь представить себе ее лицо.
Вдруг он видит служебную пометку: «Принята в три часа ночи». Он садится на постели, судорожно смяв бумагу. Ему чудится крик отчаяния.
Скорей! Скорей! Она зовет его. Она страдает.
Он лихорадочно поспешно одевается, отдает наскоро приказания камердинеру. На сколько он едет? Неизвестно. Что сказать господам, которые придут завтра? Сказать, что выехал внезапно. Пусть подождут! Приема нынче не будет.
– Ни души, Андрей, никого!
– А с письмами как, Марк Александрович?
– Все посылайте по петербургскому адресу. Еду курьерским. Сейчас отправляйтесь за билетом. Вы останетесь дома, с дядей. Телеграфируйте мне каждый день.
«Лия»… – вдруг вспоминает он. И сердце как будто останавливается на миг. Он ни разу не вспомнил о ней до часу дня, пока разбирал и жег письма, накопившиеся за эти дни; пока совещался с фрау Кеслер о хозяйстве, о Ниночке, о дяде; пока завтракал и говорил по телефону с десятками лиц.
Скоро два. Он обещал встретить ее в три на бульваре. Ах, он забыл о той, кто любит его, для той, кто вычеркнул его из своей жизни за эти три недели! Один только призрак страдания на лице Мани заслонил перед ним Лию и ее любовь.
Небывалая бодрость овладевает им вновь. Маня зовет его. Маня нуждается в нем. Еще не все утрачено. Есть для чего жить. Надо опять быть сильным, находчивым, терпеливым.
Он едет в цветочный магазин, выбирает роскошную корзину одних только белых цветов и велит немедленно отослать по адресу Лии. Потом едет в банк.
В четвертом часу на бульваре он видит Лию, сидящую на скамье.
Мороз усилился. Выпал снег. Беззвучно скользят сани. Опять все деревья в инее, как в первый день их встречи. Алые отблески зари словно заблудились на земле, горят в куполах церквей и как тени падают на заиндевевшие деревья, на стены домов и лица прохожих. Чудный день! Невольно радость крадется в душу. Смутная, но живучая надежда на что-то впереди. Это логика страсти, которая не рассуждает, которой факты не страшны.
Но когда он подходит к скамейке и видит съежившуюся, озябшую, всю поникшую фигурку, сердце его сжимается опять. Он вдруг с раскаянием вспоминает, что вчера еще обещал Лии прокатиться с нею нынче до заката в Петровский парк.
– Дорогая. Простите… Вы давно ждете меня?
– Это ничего! – говорит она.
Но он видит, что она вся дрожит.
– Поедемте скорее кататься, – просит она. – Вот только жалко, что солнце село.
Ах, жалобный голосок! Как больно его слушать! Ей нужно было так мало. А Маня потребовала всю его жизнь…
– Простите, – говорит он, прижимая к себе ее руку и идя с нею вперед. – Меня задержали важные дела. Я уезжаю.
Она останавливается.
– Но я скоро вернусь. Очень скоро. Завтра я вам телеграфирую. Вы будете в точности знать о дне приезда.
– Вы едете к ней? – перебивает она холодно и покорно.
– Да, она зовет меня. Быть может, больна? Шаги ее все замедляются.
– Вы вернетесь вместе?
– По всей вероятности, к Рождеству или раньше. Да, конечно, раньше. Я вернусь к вашему концерту. Оставьте мне почетный билет. Я покупаю весь первый ряд.
Штейнбах берет ее портмоне и кладет в него деньги.
– Куда вы его кладете! В муфту? Спрячьте в карман.
Она смотрит пристально в его лицо. И опускает ресницы.
– Боже мой, как вы грустны!
Забыв о прохожих, презрев осторожность, он целует ее ручку и прижимает ее к груди. Он готов плакать от жалости.
– Лия, тебе больно?
– Нет, нет. Вы счастливы. Я никогда не видала вас таким счастливым. Это хорошо. Пойдемте скорей, скорей.
– Но ты дрожишь. Ты озябла. Пойдем лучше к тебе!
– А кататься? – жалобно срывается у нее.
– В другой раз. Жизнь перед нами. Она тихо и странно качает головой.
– Да, Лия, да. Будут еще такие же прекрасные дни. И такие же закаты. И тот же иней на ветвях, когда я вернусь. Не надо жалеть, Лия. Ведь я не изменюсь. Это главное. А теперь надо согреться. Вот ты опять кашляешь. Посидим у камина.
– В последний раз, – подсказывает она.
Он делает вид, что не слышит.
Когда они садятся в санки, Штейнбах обнимает ее талию. Ее глаза закрываются. Странно усталое и худое у нее личико. Она словно похудела за эти полчаса. Или это ему кажется?
В передней она останавливается с глухим восклицанием. Цветы призрачно белеют и словно плывут на нее из темноты.
– Марк! – слабо и благодарно говорит она, пожимая его руку.
Но, когда она зажигает лампу и подходит к корзине, Штейнбах поражен ее выражением.
– Дитя мое, тебе не нравятся эти цветы?
– Белые… Все белые… Ни одного живого тона.
– Это стильно и красиво.
– Это цветы смерти, Марк.
– Замолчи! Мне больно слушать. И не поддавайся сама такому настроению! Поди сюда. Сядь рядом! Я согрею твои ручки.
Они молча сидят, обнявшись, у огня. Он чувствует, как озноб пробегает по ее телу.
Вдруг странный свет падает на ее лицо, и она открывает глаза. Точно кто-то позвал ее. Она оглядывается.
– Луна, – говорит она. – Луна и снег. Поедемте, поедемте скорей!
– Ты простудишься, милая девочка.
– Ах, все равно! Если нельзя кататься на закате, покажите мне лес при луне. Вы уедете, а я буду этим жить.
Через четверть часа они мчатся к заставе.
Когда они въезжают в парк, почти полная луна уже высоко поднялась на небе и все заворожила вокруг. Заколоченные дачи кажутся городом мертвых. И лента шоссе ведет куда-то, в Бесконечность. К новой жизни. К неведомому счастью.
Поле таинственно серебрится вдали. Молчаливо раздвигаются перед ними аллеи. Вон мелькнула, вся белая, дача, словно мраморная вилла.
Если ты проходил здесь когда-нибудь, не ищи знакомой дороги. Все изменилось. В загадочном трепете светотени затерялись знакомые тропинки. В волшебном синем сиянии утонуло обычное. Гляди на серебряный иней берез, на черные силуэты мохнатых елей, согбенных под снегом. Смерть прошла здесь. И лес заснул. Она смежила очи всему, что жило недавно и радовалось, потушила огни, задушила голоса и послала миру серебряные сны. Сны холодные и чистые, без грез и надежд. Ты слышишь эту тишину, звеняющую серебром?
«Ах, заснуть бы! Заснуть и мне! – думает Лия. – В синем сказочном царстве, как этот лес. И Ты недалеко… Я слышу Твои шаги, хотя Ты идешь беззвучно. Возьми и меня с собой, Ты, несущая забвение!»
– Пора домой, Лия, – говорит Штейнбах. – Холодно! Ты простудишься.
Он нежно прижимает ее к себе. Она кладет голову ему на грудь, закрывает глаза и покорно отдает ему обе рука.
У подъезда она спрашивает:
– Вы не зайдете больше?
– Нет, милая, нет. Я должен скоро ехать.
Все-таки он поднимается на лестницу. Они входят в переднюю. Он крепко прижимает Лию к груди.
– До свидания! Жди меня. Я никогда не забуду, чем была ты для меня, дорогая Лия, весь этот ужасный месяц. Если я пережил его, то только благодаря твоей любви. Мы будем встречаться по-прежнему. Да, да. Почему ты мне не веришь? Я буду вести двойную жизнь, полную обмана. Но я иду на это, я сам этого хочу. Ты вошла в мою душу, ты стала участницей моей собственной жизни. Ах, Лия! Не терзай меня недоверием! Я не заслужил его. Я не могу отказаться от тебя и твоего чувства. Я знаю, что это дар судьбы.
Он целует ее глаза, ее руки.
Она стоит недвижно в передней. Дверь затворяется за ним.
Ушел. Опять одна.
Из комнаты, где во мраке белеют высокие лилии, плывут волны аромата. Тяжелые, белые волны. Это цветы смерти зовут ее.
Боже, как страшно! Почему так страшно стало вдруг? Почему так жутко войти? Кто ждет ее там, притаившись, во мраке?
Кто вошел в этот дом вместе с нею? Вошел беззвучными шагами. И ждет ее там, Безликий, неумолимый.
Письмо Мани к Гаральду
Ты сказал мне нынче, что любишь меня. И душа моя задрожала от ужаса. Но понял ли ты вчера, видя мои слезы, что и в мое сердце, побеждая желание, попирая чувственность, вошла Любовь? И перед этой светлой силой побледнело все, что искажало до этого дня лицо моей души.
Ты зовешь меня? Ты хочешь новой встречи? Если б я била прежней Маней, с каким восторгом кинулась бы я к тебе! Каким раем казалась бы мне эта поездка в Египет, о котором я грезила с детства! Но я отказываюсь от рая, Гаральд. Потому что я люблю мою любовь к тебе и хочу сохранить твою. Знаю, что жизнь бистро стерла бы грани дивного алмаза и чувство потускнело бы. Мы расстались бы пресыщенные, уставшие, отравленные горечью. Разве не этим кончается земная любовь? Хочу, чтоб в твоей памяти вечно жили не омраченные ничем эти последние прекрасные часы нашего счастья. Все дальнейшее будет ниже их. Я это знаю.
Гаральд, это великая жертва. И ты поймешь меня. Не говори теперь, что мне не дороги ценности, созданные и отвоеванные мною. Не говори, что я игнорирую твою душу, твой труд, твои великие цели. Мы оба художники. Наш бог – творчество. Выше краткого счастья с тобой ставлю я его. Выше радости взаимности, от которой отрекаюсь. Искусство даст мне силу взглянуть в лицо моему одиночеству. Оно не обманет, не изменит, не унизит моей души.
Гаральд, не странно ли, не дико ли, что за эти две недели мы только обнимались в страстной жажде разрушения, но ни разу не спросили себя, что чувствуют наши молчаливые души, полураздавленные в этом бешеном поединке, в этой злобной борьбе полов, которая, по какому-то недоразумению, зовется любовью? Только сейчас ночью, расставшись с тобой, я поняла, что мы никогда не знали друг друга. Как можем мы идти дальше, рука об руку, мы – случайно встретившиеся на перепутье? У меня один спутник – Марк. С ним встречала я солнце в горах. И я не из тех, которые покидают товарищей «в ущелье жизни».
Ты считал меня только чувственной, Гаральд. Но чувственность лишь тень моей души. А света ты еще не видел. Вся жизнь моя с детства была страстным стремлением ввысь. Не раз падала я, изнемогая на крутых путях. Не раз в отчаянии говорила себе: «не дойти». Старые чувства, с которыми так трудно бороться, как вериги, тянули меня назад. Надо было освободиться от них, чтоб легкой и бездумной идти к цели. О, Гаральд! Только женщина поймет, как трудно нам не подчиняться голосу сердца! Ты – трагедия моей жизни. В тот момент, когда я поднялась наверх и передо мной развернулась, играя всеми красками, многогранная жизнь, которую женщины видят только из узкой щели маленького счастья, – ты стал на моей дороге. И горизонт сомкнулся снова.
Твое лицо скрыло от меня развернувшиеся дали. Сойди с моей дороги, Гаральд!
Знаю теперь: ты победитель. Ключи счастья в твоих руках. Ты наполнил жизнь борьбой и стремлением к вечному. Тебе не страшна измена. Тебе незнакома ревность. Не все ль тебе равно, кого обнимешь ты, полный желания? Твоя цель – творчество. А мы с нашей любовью лишь средство. Когда костер горит, кто думает о сучьях, поддерживающих пламя? Пусть пылает ярче! А мы сгорим в нем, непонятие, отвергнутые или исчерпанные до дна. Мы все утоляем твою жажду новизны и тайны. По душе нашей, топча ее лучшие цветы, ты идешь к своему алтарю. И в любви ты полон собою. И в любви ты носишь в себе самом целый мир. В один прекрасный день ты просыпаешься, забыв о той, кого ласкал вчера, и только душа твоя трепещет от творчества. В наших ласках искал ты его, этот таинственный путь ввысь. Всегда ввысь. Любовь для тебя била только красками мира, а не миром, как для нас.
Видишь? Я поняла тебя. Пусть мне больно! Боль пройдет. Ты дал мне понять впервые то, что я смутно угадывала в словах другого, которые я заучила наизусть. Но мертво звучат эти слова для тех, кто – как я – страшатся любви и видят в ней роковую силу, побеждающую женщину. Умом я постигаю сущность слов. Душа моя кричит: «Жажду вечности!» Но этой вечности ты мне не дашь.
Прощай, Гаральд. Благословляю тебя за все, что ты дал мне: за слезы и страдания, за бессонные ночи, за эту борьбу с собой, за этот долгий путь во тьме. Я вышла на свет. Я вижу свою дорогу впереди. Иди один. Наши пути не встретятся. Но ты меня не забудешь. Я обогатила твой мир. Я нежданно подарила тебе сокровище, которое ты тщетно просил у других женщин. Из моего чувства ты сделаешь звучный сонет, быть может поэму. И я прочту ее когда-нибудь, с печальной улыбкой, вдали от тебя. Прощай. Ты поймешь, почему я хочу расстаться с тобой именно сейчас, не охладев, а полюбив тебя. И я не забуду тебя, Гаральд! В минуты отчаяния и усталости (их много будет впереди, и это знаю) я буду вспоминать твой упорный профиль, твою суровую душу, твою великую любовь к тому, что вечно и недоступно, как гори. Пусть поддержит память о тебе, если снова, побежденная жизнью и этой проклятой любовью, я буду лежать, как сейчас, на земле, жалкая и раздавленная!
Прощай!
Из груди моей невольно рвется крик:
Ave Caesar! Morituri te salutet![37]
Когда автомобиль останавливается у ворот, Штейнбах не может сразу выйти. У него потемнело в глазах, голова кружится. Дыхание перехватило… Он должен тут же раскрыть свой саквояж, выпить капли и отдышаться.
Весь разбитый, поднимается он в лифте. По коридору идет, замедляя шаги, тяжелой, не своей, походкой. И, остановившись у дверей Мани, медлит одно мгновенье. Потом стучит.
– Войдите, – слышит он чужой, монотонный голос.
Но он помнит его хорошо. Слишком хорошо.
Он глядит с порога.
Маня у камина сидит вполуоборот, почти спиной к двери. Она даже не оглянулась. Ее согнувшиеся плечи, упавшие на колени руки, ее поникшая голова – все говорит о катастрофе, о борьбе и поражении.
– Маня, – тихо зовет он.
Она медленно встала. Но не кинулась навстречу, не бросилась ему на грудь (он так именно по дороге сюда рисовал себе эту встречу). Она глядит на него через комнату, держась за спинку кресла. И в этом бледном лице холод и усталость.
– Здравствуй, Марк! Спасибо, что приехал.
– Ты позвала меня. Как я мог не приехать?
Он берет в обе руки ее голову, долго-долго глядит в ее мрачные глаза. Потом целует ее лоб и ресницы. Она бесстрастно принимает эту ласку.
– Разве ты все тот же, Марк? – спрашивает она.
– Да, Маня. Я все тот же.
Она думает о чем-то… Кладет ему руки на плечи.
– Несмотря ни на что?
– Несмотря ни на что. Есть только одно страдание, которого я не вынесу. Это разлука с тобой. Остальное уже отболело.
Она жмет его руки и, отвернувшись, глядит в окно.
– Ты угадал и на этот раз. Я хотела вернуть тебе свободу.
– Мне свободу? Зачем?
– Если ты, – она переводит на него свой взгляд, такой пустой и далекий взгляд, – увлекся в свою очередь кем-нибудь.
– Я?
– Ну да, разве это так невозможно?
Она ждет мгновение, глядя в окно. Он молчит, пронизывая ее острым взором. «Она знает что-то», – мелькает догадка.
Маня чувствует, как холодеют его пальцы в ее руках.
– Я все тот же, Маня, – тихо говорит он наконец. – Ничто, даже страсть твоя к другому, даже то, что принято называть изменой, не поколебало ни на одно мгновение, понимаешь? Ни на одно мгновение моего чувства. Я остался тебе верен. И об одном молю тебя; все предай забвенью. Пусть это будет сон.
Пока он это говорит, она смотрит напряженно в его зрачки. Словно силится разглядеть истинное лицо его души. Вольная улыбка растягивает ее напряженные черты.
– Разденься, Марк! Потом приди сюда. Нам надо говорить серьезно.
Когда он возвращается через двадцать минут, она сидит на кушетке, обхватив руками колени, вся склонившись вперед, задумчиво глядя перед собой. На ней плюшевый капот цвета мха, с воротником из венецианских кружев. Волосы собраны в греческий узел на затылке. Видна полная небрежность в туалете и прическе. Ему кажется даже, что она подурнела, что она состарилась.
Его трясет. Он подходит к печке и прислоняется к кафелю, заложив одну руку за борт пиджака, чтобы Маня не могла заметить его дрожи.
– Разве ты свободна нынче, Маня? Нет репетиций?
– Я послала вчера записку в дирекцию, что больна. Все спектакли с моими ролями отменены на время. Здесь были все. И Нильс… Я никого не приняла.
Голос ее пугает Штейнбаха еще больше, чем лицо. Так мало в нем жизни. Вспоминается невольно разрыв ее с Нелидовым. Такая же маска. Те же деревянные звуки.
– Марк, это ты был в маскараде… тогда?
– Странно, что ты узнала меня! Мне казалось, что ты была вне времени и пространства.
– А как ты догадался, что мы встретимся?
– Очень просто: твою телеграмму к Гаральду я перехватил в швейцарской, куда ее отнесла Полина. И сам отправил ее.
Маня поднимает голову.
– Зачем ты это сделал?
Он пожимает плечами.
– Разве у меня был выбор? Но я должен был видеть вас вместе. Цель оправдывает средства.
– Я разве виню тебя? Я только удивляюсь. Он бледно улыбается.
– Почему я рисовал себе иначе нашу встречу? Я ждал, что ты кинешься мне на грудь, словно прося защиты и забвенья всего, что разделяло нас. Сознаюсь, мне больно разочароваться.
– Прости, Марк. Я устала. Я точно вся парализована.
– Так, – говорит он после паузы. – Но почему твоя телеграмма показалась мне криком отчаяния? И это тоже было ошибкой?
– Нет. Ты не ошибся. Мне было страшно остаться одной.
– А где же Гаральд?
– Уехал. Мы никогда больше не увидимся. И это решила я.
Последняя фраза поражает Штейнбаха. Несколько раз он пытается заговорить. Губы его дрожат.
Не замечая его волнения, далекая и беззвучная, она по-прежнему сидит, обхватив руками колени, и смотрит на ковер.
– Я знал, что будет так, и что в своем увлечении ты дойдешь до конца.
– Зачем же ты ушел, если знал? – бесстрастно спрашивает она.
– А разве ты не была благодарна за это? Загляни в свое сердце и ответь. Сможешь ли ты за это упрекнуть меня? Не надо ответа! Я и так знаю все. Но Гаральда я не боялся, Маня. Хочешь, скажу правду? Я его не боялся. Я знал, что ты вернешься ко мне, измученная и неудовлетворенная. Да. Тебе – такой, как ты сейчас, – господина не надо. Тебе нужен раб.
Она поднимает голову. Горечь его тона достигает ее сознания. Но он тотчас овладевает собой.
– У тебя не женская душа, Маня. Ты не создана для ярма, как тысячи средних женщин. Тебе нужна власть, свобода. Ты требуешь обожания, подчинения. Ты к нему привыкла. Последние годы твоя жизнь была борьбой за признание, за свое место в мире. Все это плохие условия для развития женственного начала твоей души. И этот враг твой, самый страшный враг талантливой личности – женственность – еще дремлет. Ей не пришло время проснуться и сломать твою жизнь.
Теперь Маня внимательно глядит на Штейнбаха. То, что он говорит и как он это говорит, невольно гонит ее душевное оцепенение.
– Так ты предполагаешь, что она все-таки проснется?
– Нет! Боже оборони! Я этого не думаю. Я ничего не предрешаю. Иногда у меня срываются слова. Не обращай внимания! Мои нервы немного расстроены.
Она ждет чего-то, вся насторожившись.
– Мне вспоминается твой роман с Нелидовым.
«Я знала, что ты заговоришь об этом», – думает Маня, опуская глаза.
– Твоя страсть к нему не была случайностью. Нет. Она фатальна. Надо глубоко заглянуть, чтоб понять тайну твоего влечения к нему, твою жажду рабства перед ним.
– Я поняла, – тихо срывается у Мани.
Он зорко смотрит на нее издали.
– Знаешь, я много думал о прошлом весь этот месяц.
Он смолкает внезапно.
– Ты боишься, Марк, что если мы встретимся когда-нибудь…
Она хочет улыбнуться. Выходит гримаса. С мгновенно исказившимся от боли лицом он перебивает:
– Напротив, я глубоко верю, что, найдя себя в творчестве и постоянно работая над собою в этом направлении, ты наконец восторжествуешь как личность. Женщина в тебе незаметно умрет, та женщина, которой нужен господин, которая жаждет жертвы и подчинения. Для такой любви у тебя есть Нина. И вся эта история с Гаральдом только подтверждает мои слова. Он был… как бы это сказать? Он был скалой, о которую разбилась волна твоего чувства, твоей страсти. Ты инстинктом поняла, что будешь для него не целью, как для меня, а средством, что он извлечет из тебя все, что нужно ему. И, пресытившись, пойдет дальше, не оставив тебе ни одного уголка в своей душе. Душе гордой и холодной. Словом, он поступил бы с тобой так, как ты поступаешь со всеми, кто тебя любит. Разве это неправда? Разве я не сразу оценил и взвесил все, чем мне грозит твое увлечение? Моя борьба за тебя была только в покорности, в терпении и в выдержке. Ты не должна была знать о моих страданиях и ревности. Таких, как ты, это только ожесточает. Я знал, что делаю, устраняясь с твоей дороги. Уходя, я выигрывал. Оставаясь здесь, я терял все.
– Я никогда не переставала любить тебя, Марк, – говорит она, и матовый звук ее голоса словно согревается.
– Я очень тронут, – с усмешкой отвечает он. И опять кладет зябнущую руку за борт пиджака.
– И могу я задавать вопросы, Маня? – после короткой паузы спрашивает он.
Она молча наклоняет голову.
– Почему ты несчастна?
В долгой напряженной тишине слышен треск распадающихся углей. У Штейнбаха вдруг слабеют ноги. Он садится в кресло, у камина.
– Разве ты не достигла всего, к чему стремилась? Твой счастливый голос, твой смех, когда ты говорила по телефону, не обманули меня. Я верил, что, удовлетворив свой каприз, ты, как все художники, почерпнешь в этой страсти новые силы и блеск, что твоему таланту и темпераменту нужно, как огню, вечно питаться этими прямыми ощущениями. Я все это передумал. И понял. Ты не одна такая. Все артисты, если они не мещане по натуре, нуждаются в нервном возбуждении. Что же случилось? Почему ты больна и измучена? И опять охладела к искусству? Или ты еще увлечена Гаральдом? Тогда зачем ты решила расстаться? Маня, отвечай, ради Бога! Я тоже весь измучен. И неизвестность хуже всего. Она поднимает голову, не меняя позы.
– Это не было капризом или увлечением. Это была любовь.
Его тело, все напрягшееся в ожидании ответа, бессильно опускается в кресле. Наступает тишина. Но Маня не хочет ее прервать. Все замерло в ее душе. И даже жалости нет к тому, кто там, у камина, сжался в раздавленный комок.
– Ты удивлен, Марк? Я это чувствую. Для меня самой это было ударом. В ту минуту, когда я, казалось, излечилась уже от моей страсти, пришло то, чего я боялась всего больше в мире: нежность, жалость, потребность жертвы – словом, любовь. И я позвала тебя, Марк. Ты верно понял. Это был крик утопающего. Потому что для таких, как я, любовь и гибель – одно.
– Слушаю, и все кажется, что это сон. Страшный, но прекрасный сон. И это говорит та самая Маня, которая когда-то, страдая от любви, только в смерти видела исход? Чувствуешь ли ты сама, как ты выросла за эти годы? Понимаешь ли ты значение этой победы? Это была последняя ступень башни. Теперь ты наверху. Мир перед тобой.
Она горько качает головой.
– Жалки такие победители.
– Все вернется, Маня. Будь мужественна! Теперь, скажу откровенно, теперь я уже не боюсь за тебя.
Штейнбах встает и ходит по комнате.
– Здесь есть все-таки что-то, чего я не понял. Ты полюбила. А он?
– Да, это странно. И у него из ненависти родилась любовь, которой он так боялся. И, заметь, он полюбил меня такою, как я есть, без иллюзий, со всеми моими слабостями, возмущавшими его раньше. Меня, меня, а не свою фантазию. Это было прекрасно и страшно. Страшно потому, что я еще хочу жить. Хочу бороться, работать, а не исчезнуть в Гаральде, не раствориться в моем чувстве. Должно быть, инстинкт самосохранения заговорил во мне. И я решила разорвать.
– Но как мог он отказаться от тебя?!
– Он уехал, ничего не зная о моем решении. Когда вернется, я буду уже далеко. О, я отлично понимаю, что и Гаральду нужна раба, нужна весталка, обязанная день и ночь поддерживать священный огонь. Эта роль, Марк, не по мне. У меня есть свое призвание. Он зовет меня к новой жизни. Но мое прошлое богаче и полнее того, что он мне обещает. Что в этой новой жизни может сравниться с красотой моей борьбы и достижений? Скажи, что? Любовь? О, да! Это счастье. Но долго ли оно продлится? И я ее уже знала. Испытать вновь ревность? Вновь терять иллюзии? Вновь пройти весь этот скорбный путь? Нет! Не могу больше! Не могу…
– Ты его никогда не любила! – убежденно срывается у Штейнбаха. – Не возражай! Не спорь. Это головное чувство. Настоящая любовь, назовем ее, пожалуй, «органической», – не рассуждает, не взвешивает, не боится жертв. Она их просто не замечает. Ты по-настоящему любила только Нелидова.
Слабая усмешка дрожит в ее лице.
– Не помню кто сказал, что головные страсти самые сильные.
Штейнбах словно замирает на другом конце комнаты.
– Но, видишь ли, Марк? Я уже не верю в любовь. «Все или ничего!» – вот был мой девиз когда-то. Я и теперь жажду того же. Но это крик сердца. А разум говорит другое Я уже не девочка, Марк. Я состарилась душой. Я созрела. Любя, как сейчас, я уже вижу впереди конец. Точно степь ночью, и в ней костер. Он так красив и так ярко греет стынущую душу. Но ведь я знаю, что погаснет костер. И опять ночь жадно обнимет меня и задушит. Вот эта ночь, Марк. Я до сих пор не забыла ее немого лица. Помнишь тогда, когда я одиноко уходила в Вечность…
– Молчи! Ради Бога, молчи!
В одно мгновение он рядом и держит ее холодные руки.
– А теперь, после моего признания, как будем мы с тобой дальше, Марк? – печально улыбаясь, спрашивает она.
Он отодвигается невольно.
– Не понимаю твоего вопроса.
– Каковы твои решения?
– Ты смеешься надо мною! Какие могут быть решения у меня? Разве не отказался я давно от своей воли? Я хочу одного: остаться рядом с тобой, все равно, в качестве кого. Другом, братом, любовником, – хочет он сказать, но смолкает. Импресарио твоим, наконец, или мажордомом…
– К чему горечь, Марк?
Он встает, схватившись за голову.
– Какая тут горечь! Я вижу совершенно ясно: без тебя и Нины нет жизни, нет цели. Быть может, ты презираешь меня за это? Я и сам презираю себя. Ты думаешь, что я не мечтал сорвать с себя эти цепи? Не пробовал забыть тебя?
Она ниже склоняет голову, чтоб он не мог видеть ее лица.
– Напрасный труд! Что бы ты ни делала, как бы ты ни унижала меня, если бы даже ты каждый день отдавалась другому, все равно! Вне тебя нет смысла жизни. Я околдован…
Она поднимает лицо. Все оцепенение исчезло.
– И ты ни разу не стремился сам начать новую жизнь?
Она видит, что он вздрогнул.
– Никогда, – через мгновение отвечает он твердо. – Без тебя? Никогда. Лучше горе, но с тобой, чем радость без тебя!
О, как легко ей от этих слов, от этого голоса! Душа ее, измученная одиночеством, ожесточившаяся в борьбе, вдруг смягчается. И торжествующая радость словно распахивает настежь дверь и окна в мрачном, наглухо заколоченном доме, навстречу теплу и свету. Наконец! Наконец! Он не разлюбил ее. Не разлюбит никогда. Все останется по-старому.
Но это длится один миг. Лицо ее гаснет. Усталость растягивает напряженные мышцы. С вздохом облегчения она ложится на кушетке, обняв подушку, прижавшись к ней щекой.
Обессиливающее безразличие обнимает вновь ее душу, обволакивает сознание. Но это отрадно. Заснуть бы теперь! У нее нет иных желаний. Только чтоб голос Марка баюкал ее. Этот вкрадчивый, сдержанно-страстный, богатый голос, всегда волновавший ее, всегда подчинявший.
Штейнбах подходит тихонько и садится рядом. Не открывая таз, она протягивает руки и обнимает его голову.
Он приникает к ней, как ребенок, измученный наказанием, когда жестокая, но любимая рука вдруг погладила его по голове. Сердце Мани бьется. Он это слышит. Для кого бьется оно сейчас?







