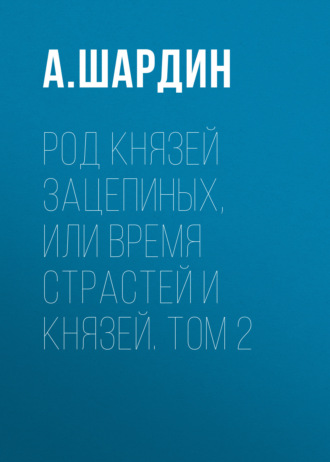
А. Шардин
Род князей Зацепиных, или Время страстей и князей. Том 2
Андрей Васильевич встал уже на эту почву антирусского аристократизма; стал на ту почву феодального презрения ко всему, не имеющему феодальных прав, которые столь несообразно отождествляло любимое народом русское боярство, и дружинников древних русских князей, образовавшихся из их преемственных заслуг русскому народу, с теми подавляющими и ненавидимыми народом началами европейского феодализма, которые произошли из условий победы одной расы над другой и гнета, наложенного победителями на побежденных. Он забыл, как в русской жизни нижегородский мещанин и родовой князь Пожарский, тоже Рюрикович, дружно стали на защиту родной земли; забыл, что князь, тоже Рюрикович и первый боярин царской думы, а потом и царь, Василий Иванович Шуйский дружески относился к купцу Коневу, рассуждая о бедствиях и нуждах отечества во время первого самозванца; забыл, что самый предок предков их Ярослав Мудрый слушал советы именитого гражданина Великого Новгорода Вадима Гостомысловича!..
А становясь на такую почву отрицания преданий русской жизни и исторической преемственности русских родовых начал и начиная отвергать свою солидарность с условиями нашей народности, князь Андрей Васильевич, опять незаметно для самого себя, изменял и чувству общечеловечности. Впадая в космополитизм, он, естественно, отказывался от того, что присуще человеку как человеку. Незаметно для самого себя, каким-то неотразимым притяжением событий, он вдавался в то проходимство, от которого он вздрогнул с ужасом и омерзением, когда дядя говорил ему об отношениях Бирона и Левенвольда, рассказывая, что они милость покровительствующей им женщины разыграли между собою в карты. Вот и теперь он ехал в Зимний дворец, чтобы затмить, вытеснить соперника, и занялся исключительно своими честолюбивыми надеждами, забывая, что в то же время тихое и скромное дитя, когда-то составлявшее идеал его мечты и с такою доверчивой преданностью готовое отдать ему всю себя, – дитя, разбитое и материально и нравственно, увозилось куда-то под конвоем неумолимых тюремщиков и под гнетом не любивших ее воспитателей, которые тяжесть своих страданий грубо перекладывали на нее. Он забыл Гедвигу Бирон, не отвел ей уголка даже в мечте своей, даже в своих честолюбивых надеждах. Он даже не подумал, что вот когда я буду на месте Бирона, то облегчу ее страдания. Он вовсе не думал о ней, забыл о ее существовании. На сердечное письмо ее он не послал ни одного слова утешения. Да и когда тут было писать, среди придворной суеты, среди положения, вызывающего невольное волнение… А бедная девушка плакала, упрекая в глубине души тюремщиков и думая, что только их жестокость лишила ее утешения хотя бы в одном слове участия…
Он вошел в Зимний дворец, но его не ждали. Никто не говорил, что правительница два раза выходила и спрашивала его, что Менгден хотела посылать и прочее. Он приписал это тому обстоятельству, что приехал раньше обыкновенного, и спросил, кто у принцессы. Ему отвечали, что польско-саксонский посланник граф Линар; что он обедал сегодня у правительницы; что за обедом, кроме принца Антона и баронессы-наперсницы, никто не был; но что теперь принца Антона нет, а они сидят втроем с графом Линаром. Андрея Васильевича эти слова передернули, но в ту же минуту он самонадеянно подумал: «Тем лучше, тем лучше, по крайней мере, встретимся лицом к лицу».
Имея право по вечерам входить к правительнице без доклада, он вошел.
Правительница и Менгден сидели на маленьком диване подле столика; напротив них сидел граф Линар и что-то читал.
Правительница сидела прямо против входных дверей и, разумеется, не могла не заметить входа Андрея Васильевича и его нежно-дипломатического, почтительного поклона, сделанного по всем правилам хореографии, как требовалось модою того времени. Но мысли Анны Леопольдовны были, видимо, слишком далеко от того, что было у нее перед глазами, и она безмолвно кивнула ему головой. Менгден тоже ограничилась только движением головы, сделав знак рукой, чтобы он не шумел.
«Эге, – подумал Андрей Васильевич, – да дело-то выходит хуже, чем я думал. Бывало, даже в пылу игры она находила возможным оторваться для милостивого и доброго слова».
Граф Линар окончил чтение, но Анна Леопольдовна не изменила своего холодного тона, хотя и пригласила его присоединиться к их кружку и представила его и графа Линара друг другу, проговорив с своим обычным, задумчивым видом:
– Граф, это один из моих молодых друзей, князь Андрей Васильевич Зацепин, потомок одного из знаменитейших родов русских, а это – посол короля польского и курфюрста саксонского граф Линар.
Они отдали взаимно друг другу церемонные поклоны и заняли места вокруг столика, причем Андрею Васильевичу досталось сидеть подле правительницы, но от этого ему лучше не было, потому что внимание Анны Леопольдовны, видимо, сосредоточилось на графе Линаре. Менгден тоже была занята исключительно им.
Он взглянул на графа Линара, и его поразила та строгая, правильная, нежная и вместе с тем мужественная красота, которой отличался граф. Очерк лица графа и тонкие черные, почти союзные брови действительно несколько походили на его собственные, как с первого взгляда заметили Менгден и правительница, но какая разница в выражении, в силе. Темно-карие глаза графа то бросали искры, то покрывались матовой нежностью под влиянием впечатлений, исходивших из предметов, которых касался разговор, или принимали глубоко спокойное выражение мысли, разума, анализа и потом опять сверкали страстью. Тонкие, черные, вьющиеся кверху усы польско-саксонского гусара, представляя резкое отличие тогдашнему обычаю, оттеняли нежное, свежее лицо уже совершеннолетнего и в цвете красоты мужчины и придавали лицу его выражение мужественности, энергии, силы; улыбка, необыкновенно приятная и делающая ямочку на правой щеке, вызывая симпатию, располагала и объясняла тот необыкновенный успех, которым пользовался граф Линар в обществе.
Притом граф Линар был высок, строен, изящен и ловок до чрезвычайности. По изяществу, благородству приемов и движений в целом Петербурге он мог сравниться только с дядею Андрея Васильевича, князем Андреем Дмитриевичем, но имел, разумеется, перед ним преимущество молодости и свежести. Голос графа был мелодический, нежный и выработанный до совершенства. Андрей Васильевич не слыхал, пел ли когда граф Линар, но при первых звуках его голоса он угадал, что таким образом выработать голос можно, только обучаясь пению и декламации с детства. Своим голосом он принимал и умел передавать самые тонкие оттенки мысли, вместе с тем его голос был звучен, силен, способен на все изгибы и, видимо, мог увлекать. Притом граф Линар обладал еще достоинством, весьма редким у нас даже до сих пор: уменьем слушать. Он не пропускал ни одного, даже самого ничтожного замечания, не выслушав его с той спокойной и приятной улыбкой, которая заставляет видеть, что ваши слова ценят, вашим мнением интересуются и хотят его усвоить. А это делало разговор графа Линара весьма приятным для всех, даже для тех, кто не мог понять ни его высокого образования, ни обширной эрудиции и далеко не дюжинного красноречия, умеряемого светской сдержанностью и любезностью.
Разговор шел о предчувствиях. Граф Линар доказывал возможность предчувствий и их несомненную верность путем исторических примеров и аналитического рассмотрения физических условий их появления. Невозможно себе представить того фейерверка остроумия и той увлекательности, с которыми он поддерживал свои странные и парадоксальные положения, стараясь доказать, что человек может сам в себе вызвать способность предвидения и что в такой способности нет ничего сверхъестественного, но что, напротив, она имеет свою научную почву в современных открытиях. Высокая образованность графа и ловкая диалектика его в этих объяснениях, можно сказать, били ключом. Перед входом Андрея Васильевича он читал отрывки из Метастазио, где поэт говорит, что он предчувствовал появление любимой им девушки, так как в ней находилась часть его души. Эти слова поэта он применял к себе, объясняя, что в самый день своего отозвания из Петербурга по требованию покойной императрицы почти шесть лет назад он предчувствовал свое сегодняшнее свидание. Разумеется, Анна Леопольдовна должна была опустить глаза свои долу. Затем он перешел к характеру понятий о предчувствии древних, к их аллегорическим представлениям души, из свойств которой они выводили естественность предчувствия; говорил о религиях греков и римлян, о элевзинских таинствах египтян, из которых Пифагор заимствовал свое учение о переселении душ, а Платон – о их взаимном сродстве и симпатии. Все это граф пересыпал солью остроумия, множеством анекдотов и самой легкой, светской любезностью. Не заслушаться его было невозможно.
Андрей Васильевич видел, что Анна Леопольдовна и Менгден его не только заслушивались, но, можно сказать, что, слушая его, они таяли от восторга.
И он сам слушал графа с большим удовольствием, хотя многого и очень многого не понимал, тем более что Линар часто от французского языка обращался к итальянскому, читая итальянских поэтов в подлиннике, а по-итальянски Андрей Васильевич только начал учиться и весьма еще мало понимал, еще менее понимал он цитаты из Вергилия, Овидия и Плавта. Когда же Линар перешел к научным объяснениям, стал говорить о каком-то электричестве, опытах какого-то Винклера, с которым граф был знаком лично, о мнении, что электричество было известно египетским жрецам и составляло одно из таинств элевзинских верований, так как среди обрядов египетского богослужения были приемы, доказывающие знакомство жрецов с этой силой, посредством которой, по опытам Винклера, можно, пожалуй, будет разговаривать друг с другом за сотню верст, – то Андрей Васильевич почувствовал, что он не понимает ничего, не понимает даже того, о чем идет речь. Какая такая может быть сила, которая делает ничтожным пространство в сотни верст?.. Не морочит ли уж он их всех?..
Тут он понял сущность разницы между действительной образованностью и только ее внешней стороной; понял, что можно носить французский кафтан и манжеты, пить шампанское, говорить по-французски и быть в то же время не только полуобразованным, но и вовсе необразованным человеком. Например, что такое он сам, с приобретенным им лоском светскости, французским и немецким языками и убогими знаниями кое-чего из истории Франции и крестовых походов, из французской литературы, преимущественно Золотого века, то есть царствования Людовика XIV, и из кое-каких общих мест моральной философии и мифологии? Между тем образование требует знания положительного, фундаментального знания жизни и природы. А из исторической жизни он не знает почти ничего, о природе же никогда и не думал… Он видел, что и правительница, и Менгден слушают графа, как говорят, разинув рот. Но все же они могут понимать его, стало быть, по образованию настолько выше его, родового князя Зацепина, насколько знание выше невежества. Что же значит он против этого блестящего графа, блестящего не костюмом только и манерами, но умом, знанием, остроумием, – что он? Полуобразованный мальчик, и больше ничего!
Несмотря, однако ж, на то, что граф Линар решительно приковал к себе внимание как правительницы, так и Менгден, Андрей Васильевич нашел случай напомнить Анне Леопольдовне вчерашнее приказание ему явиться пораньше. Но на это Анна Леопольдовна ответила ему как-то неохотно:
– Ах да! Точно! Только извините, князь, я позабыла совсем, что вчера хотела вам сказать… – Потом, помолчав немного, она прибавила: – А не правда ли, граф Линар очень умен?
И она опять отошла слушать своего графа.
«Нет, этого мне из седла не выбить!» – подумал Андрей Васильевич. А как в это время начали уже съезжаться для игры, приехал гофмейстер правительницы Миних-сын с своей женой, родной сестрой Менгден, приехал английский посланник Финч и австрийский – маркиз де Ботта, то Андрей Васильевич счел за лучшее исчезнуть.
«Если она вспомнит обо мне, то пришлет, а нет – то насильно мил не будешь!» – думал он. Но самолюбие его сильно страдало, страдало так, что ему уже казалось, что он был страстно влюблен в правительницу и что любовь его приняла печальный исход…
«Постой, – сказал он себе, – не поеду несколько дней. Пришлют ли, заметят ли?»
И как ни скучно, как ни досадно было, но он не поехал. Но за ним не прислали и его не заметили!
Когда назначенный им себе срок прошел, он снова явился во дворец, но – увы! – только для того, чтобы убедиться, что о нем совершенно забыли. Правительница сидела за картами, когда он вошел, и сказала ему только:
– А! Это вы, князь!
Менгден, которая не была ничем занята, встретила его подобным же замечанием.
– Вот и вы, – сказала она, – а мы все это время были заняты нашим графом; не правда ли – умный и красивый господин?
– Да, нельзя не отдать ему справедливости, – скрепя сердце должен был отвечать Андрей Васильевич. – Весьма приятный собеседник!
– И как он знает все, сколько он видел, читал… Его слушаешь и не видишь, как время идет. Вчера, помните?
– Меня вчера здесь не было.
– Не было? Я и не заметила! Вчера, представьте, он рассказывал о влиянии грома на рыб. Жаль, что вас не было, вы бы послушали, это так интересно. А послезавтра у нас будет торжественная аудиенция. Анюта будет под балдахином стоять; приходите посмотреть!
Андрей Васильевич не сказал ни слова. Он уехал из дворца, не замеченный никем, как незамечен был, когда и приехал; только принц Антон подошел к нему перед отъездом и сказал:
– Что это вы нынче так бледны, князь? Я бы советовал вам приобрести гарлемских капель. Чудо как помогают от всякого расстройства.
По приезде домой Андрей Васильевич сейчас же послал доложить дяде о том, что он просит позволения его видеть. Князь Андрей Дмитриевич приказал его звать.
– Представь себе, Андрей, – сказал ему дядя, как только он к нему вошел, – я сию минуту чуть не был свидетелем страшного изуверства; могу даже сказать, что это изуверство не совершилось только благодаря моему присутствию. И главное, странно, что тут замешаны твои люди! Нужно тебе сказать, что здесь открылась весьма опасная беспоповская секта хлыстов. Эта секта не признает брака. Она доводит свое учение о равенстве прав человека до таких пределов, что ставит человека на степень животного. Они говорят, что у Бога нет ни красивых, ни безобразных, ни старых, ни молодых, ни бедных, ни богатых, – что все равны, все одинаковы, поэтому все должны пользоваться одинаковыми благами. «За что же, – говорят они, – одному достанется жена старая и безобразная, а другому – молодая и красивая? Точно так же за что одной достанется муж молодой, здоровый и красивый, а другой – ледащий, хворый и старый? Находятся и такие, которые целую жизнь изживут, а себе мужа не достанут, особенно бедные и некрасивые…» Поэтому они и решили между собой, что все принадлежит всем: кому когда что Бог даст. Коноводом этой секты Ермил Карпыч, помнишь, тот, у кого мы с тобой занимали деньги. Ну, он, разумеется, не из таковских, чтобы его можно было на софизмах ловить; но как тут дело оказалось нежданно выгодным, так что самый капитал его, может быть, образовался благодаря этому сектаторству, то он и принимает в нем горячее участие. Я эту секту давно знаю; но как я не генерал-губернатор, не начальник полиции и не управляющий Тайной канцелярией, то молчу. Пользуюсь, как грешный человек, этой сектой втихомолку, когда случается там что-нибудь особое и мне по вкусу. Ну да дело не в том!
Одной из начетчиц была у них Фекла, из крепостных твоего отца, та самая, которую, помнишь, ты посылал ходить за принцессой Гедвигой, когда Бироны были уже арестованы, и которой еще, по твоему приказу, в конторе выдали двести рублей, и она до того обрадовалась, что в конторе же было запела свою раденную песню. Эта Фекла, когда еще жила с мужем в Зацепине, была в связи с твоим кучером Елпидифором, тогда почти мальчишкой. Ну связь эта, разумеется, прекратилась, когда она уехала. Только как ты с Елпидифором приехал, они встретились и сошлись. Нужно сказать, что у них правило: живи со всеми и для всех, а на сторону или по уговору с кем, хотя бы из своих, – ни-ни! Первый раз епитимию тяжкую наложат, второй раз в присутствии всех больно, чуть не до полусмерти, высекут, а на третий раз – смертная казнь. Выкупают, как есть в платье, в смоле, привяжут к столбу да и зажгут, а сами свое раденье начнут. Не то окуп за себя вноси, и большой окуп, и из их компании изгоняешься навсегда… Если же виновная, правильнее подозреваемая, не признается, то производится испытание огнем: насыплют в пригоршню горячих угольев и держи, твердя молитву: «Господи Исусе Христе, помилуй нас», пока Ермил Карпыч не скажет «аминь». Не выдержишь, бросишь, стало быть, виновата, и дело с концом. Может быть, никто бы ничего и не знал о том, что Фекле захотелось старинку вспомнить, и, верно, никто бы не подозревал, так как она уже стара и никакого подозрения не могло быть в том, что к ней земляки и она к землякам заходит, да, дура, сама на духу Ермилу Карпычу сказала, после того как первый-то раз свиделись; думала, что выдержит. Ну на нее и наложили тяжелую епитимию, что-то двести поклонов утром да двести вечером и целую неделю в молчании на всю братию хлебы печь. Выполнила, но за ней уже наблюдать начали. После первого же раза, как твой кучер зашел к ней, ее и потребовали к исповеди. Она, вспомнив, что теперь уж не поклоны, а розги будут, да какие розги – самые изуверские, заперлась. Ну вот ей огненное испытание и предстояло…
– И Елпидифору тоже?
– Нет! Он в секту еще принят не был, клятвы не давал. Его обязали только молчать обо всем, что знает и видел, и не показываться к ним под угрозой, что будет из-за угла убит как собака.
– Так я его поскорей в деревню отправлю, попрошу другого на перемену прислать, хотя и жаль – хороший кучер! А что же Фекла? Неужели выдержала испытание?
– Что ты! В моем-то присутствии? Это была бы уголовщина, черт знает что такое! После второго раза ведь был бы третий. Нет, я таких вещей не люблю! Вот пошалить, позабавиться, стариной тряхнуть, это дело особого рода, а чтобы к уголовщине припутаться – нет! Слуга покорный! Я шепнул слово Ермилу Карпычу, а ей велел скорей признаваться да просить назначить окуп на выход. Впрочем, мне и настаивать на этом не приходилось. Как принесли жаровню, так она так испугалась, что если бы и точно ничего не было, так на себя бы налгала. Окупу назначили триста рублей. Она двести сейчас же внесла, что ты ей дал, а, делать было нечего, ста рублями я помог! Все дело тем и кончилось. Главное, чем я доволен, что, кроме Ермила Карпыча, никто не узнал, что, по своей вечной страсти к молодости, авантюрам и красоте, фигурировал в их шайке неприступный и блестящий князь Зацепин, вице-адмирал и андреевский кавалер. За одно это можно было и не сто рублей пожертвовать!
– Так что, мои денежки вместо бедной женщины к тому же богачу Ермилу Карпычу попались?
– Как быть, друг мой! Капитал – что большая река, принимает в себя все ручьи и маленькие речки!
– Да, вот тут и рассуждайте о труде! Так или иначе, а капитал все себе забирает… Дядюшка, я хотел с вами поговорить. Мне бы хотелось ехать в Париж поучиться!
– А что, разве наши честолюбивые замыслы не выгорают?
– Не то что не выгорают, они пошли было…
– Да это-то я знаю, что пошли было, но…
– Приезд этого…
– Это тебе Остерман подсахарил. Он заметил, что ты ближе к Минихам, чем к нему, и…
– А я чувствую, что в том виде, как есть, я не в силах сбить соперника с позиции. Поэтому лучше уступить и явиться в новом виде, чтобы сражаться равным оружием.
– В тебе столько практической сметки, что не могу не высказать моего одобрения. Точно, оставаясь здесь, ты можешь наделать глупостей, а уехав и возвратясь, можешь представить прелесть новизны, тогда как твой соперник, пожалуй, успеет надоесть как горькая редька. Разделяю твой взгляд, Андрей, и, знаешь, еду с тобой, чтобы, как сказал какой-то поэт, «утренней зарей молодости осветить свой вечерний закат»! Едем, друг! Я там помогу тебе, представлю кому следует, введу в общество. Хотя, разумеется, многих нет, да все же кто-нибудь и остался из моих прежних друзей!
– Я завтра же подам прошение о дозволении…
– Нам это все устроит Остерман. Он будет так рад спровадить нас обоих, что, пожалуй, сделает антраша от радости на своих пухлых ногах.
– Я надеюсь за то отблагодарить его по возвращении.
– Не загадывай, друг, так далеко вперед! В жизни пользуйся настоящим, а не напирай на будущее.
И дядя с племянником расстались до завтра.



