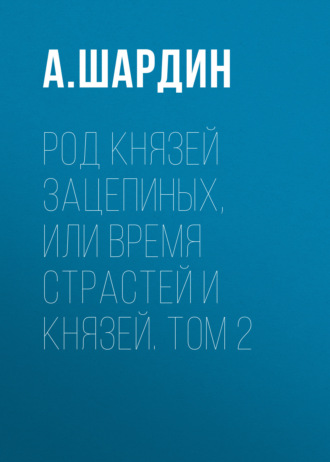
А. Шардин
Род князей Зацепиных, или Время страстей и князей. Том 2
Приди, котик, ночевать,
Приди Ванечку качать!
Я за то тебе, коту,
За работу заплачу!
Дам кувшинчик молока
И кусочек пирога!
Приди, котик, не стучи
И Ванюшу не буди!
Ваня станет подрастать,
Будет царством управлять.
В тот же день вечером слышалась другая колыбельная песня. За оградой Невского монастыря, в тесной и душной келье из двух комнат, со сводами и с железными решетками в окнах, – келье, замкнутой наглухо и окруженной строгим караулом, больная, разбитая, с поврежденным позвоночником, вся в пластырях и перевязках, сидела в креслах принцесса Гедвига перед своими назваными отцом и матерью и старалась их утешить.
Подле кресла Гедвиги стояла арфа, пяльцы и столик с рабочим несессером, книгами, нотами и некоторыми мелкими вещами, присланными ей, с дозволения правительницы, цесаревной Елизаветою Петровной. Одна из книг была раскрыта. Гедвига перед тем только что читала ее, чтобы чем-нибудь рассеять, чем-нибудь развлечь пораженного и расстроенного ее воспитателя.
Выбор чтения был как нельзя удачнее. Это была легенда, хроника, сказание об одном благородном рыцаре, бывшем графе и владельце имения, которое герцог недавно купил в Силезии, Конраде Вартенбергском и его славных подвигах на защиту христианства и распространение слова Божия.
Действие происходило во времена саксонского герцога Генриха Льва и его борьбы с вендскими и славянскими городами.
Гедвига читала эту хронику своим задушевным голоском в надежде обратить печальные мысли своего воспитателя в другую сторону, возбудить в нем надежду на лучшее будущее и охранить от того ожесточенного отчаяния, в котором он находился. Побеждая чувствуемую ею боль и свои личные материальные и нравственные страдания, она старалась вызвать в нем чувство снисходительности, терпения и покорности судьбе, с какими Конрад Вартенбергский переносил свои страдания. Бирон молчал. Он слушал, прерывая иногда чтение малодушным стоном, чувствуя боль от ушибов и ссадин, полученных им в драке с арестовавшими его солдатами. Эти ушибы и ссадины он примачивал, натирал разными мазями и прикладывал к ним компрессы. Вдруг, в ту самую минуту, когда Гедвига читала описание великодушных чувств Конрада, прощающего своих врагов, Бирон изо всей силы ударил кулаком по столу, так что в келье все задрожало.
– Точно, точно, я виноват! – вскричал он. – Я был слишком мягок, слишком снисходителен! Всех бы их колесовать нужно было, начиная с Ушакова и Остермана; всех следовало бы на виселицу!.. Тогда бы они боялись, тогда бы не смели!.. Пусть теперь попадут в руки, я им покажу! Я сделаю…
Потом он стал говорить о своих заслугах, о пользе, которую он принес. Послушать его, так Россия не умерла с голоду только благодаря ему; наконец, не сгибла от беспорядков и неурядицы только потому, что он принимал против того надлежащие меры… И вот, несмотря на эти заслуги, вследствие его снисходительности, он схвачен, он арестован. О Миних! Мало было его колесовать, его нужно было живым сжечь, на мелкие куски изрубить, а он… Теперь я в их власти. Что они со мною сделают? Что сделают? И он плакал от страха при мысли, что будет с ним завтра.
В то же время его бесцветная супруга, его Бенигна, всегда хвалившаяся перед мужем своей бескорыстной преданностью, теперь рассыпалась в жалобах и стенаниях. Она теперь валила все вины на него, во всем был виноват он! И она тоже стонала и плакала.
– Всю жизнь мою я пожертвовала тебе! – говорила она. – Разве я не могла выйти замуж действительно? Разве я не могла кого-нибудь полюбить и быть счастливой? Нет, я от всего отказалась, всю себя отдала тебе, оберегала тебя. И вот за то в награду тюрьма, ссылка, а может быть, еще пытка, мучения, казнь! За что? За что?
И она уже упрекала его, и угадает ли читатель, за что? За излишнюю снисходительность и слишком нежное сердце.
А в глубине картины, в углу, стояла, повязанная платочком и до некоторой степени прифранченная, известная нам Фекла Яковлевна, бывшая подруга Елпидифора, начетчица и сектантка, допущенная находиться при больной принцессе по настоянию доктора Листениуса и по ходатайству князя Андрея Дмитриевича, та самая Фекла Яковлевна, которая говорила про себя, что она ничья, а Божья!
III
Граф Линар
Время шло. Бирона со всем семейством перевели из монастыря в Шлиссельбургскую крепость. Над ним назначили суд, и он понимал, что вопросы, которые ему предлагают, представляют не более как только одну обрядность, он понимал, что судьба его предрешена без всякого суда. Но не радовался и Миних, не на пользу себе он устроил это дело. Правда, его сделали первым министром, всем управлять дали; но управление-то его было зависимое, подчиненное. Всякое предположение должна была утвердить правительница; а не любившая заниматься и не входившая ни во что правительница любила делать по-своему, а главное – любила слушать его врагов, которые, разумеется, во всем поперек шли. Это бы ничего, да в числе врагов его был всепреданнейший, покорнейший и всенижайший граф Андрей Иванович Остерман, который тонко, хитро и без шума умел подводить мины, да в таких местах, где никто и ожидать не мог! Поневоле нужно было держать ухо востро, быть всегда наготове ко всему. Какое же тут царство, когда все время дамоклов меч висит? Великая княгиня – так правительница велела величать себя – своего мужа не любила и не уважала, но она носила его имя; все же он был ее муж, и всякая обида, ему сделанная, неминуемо относилась к ней. А принц Антон беспрерывно жаловался на обиды, получаемые от первого министра, то по званию генералиссимуса, то по положению отца государя и мужа правительницы. Потом, кто же не знает, что у страха глаза велики; а враги Миниха успели представить правительнице дело таким образом, что он возбуждал страх. Если он, находясь почти вне управления, когда от него почти ничего не зависело, мог в несколько часов свергнуть Бирона, так что тот из самодержца стал арестантом, то кто помешает ему повторить ту же историю в то время, когда он первый министр, когда от него зависит все и он располагает силами целой империи. Это человек опасный, не бояться его нельзя. Неизмеримое честолюбие его заставляет всего ожидать от него… Вот он захворал.
«Хорошо, если умрет, – думает правительница, – а если выздоровеет? Быть под опекой такого человека, да это хуже, чем Бирон! Тот, правда, бранился, а этот молчит. Но зато он умнее, решительнее! С ним, пожалуй, и не увидишь, как попадешься в положение Бирона. А тут и чертушка жив, и цесаревна Елизавета в своем черном платье и гордой красоте является укором всему прошлому».
Миних выздоровел, но чувствовал, что почва уходит из-под его ног, что чувство благодарности, на которое он имел право рассчитывать от принцессы, слишком слабая опора для человека, против которого все.
«Нужно, чтобы кто-нибудь и мою сторону держал! – думал Миних. – Только кто же? Сын! Он гофмейстер правительницы, пользуется ее доверием и расположением, наконец, женат на родной сестре ее ближайшей подруги и наперсницы Юлианы Менгден; но сын… Он добрый, милый, послушный, честный, но он такой тюфяк, такой цирлих-манирлих, что решительно не может и сам себя держать на твердой ноге, не то что кого-нибудь поддерживать. У него, кажется, можно кофе из-под носа унести, и он не увидит; можно очки с носа снять, а он все будет философствовать. Вот недавно он меня уверял в беспредельной ко мне любви Остермана и благосклонности принца Антона. Не понимает он того, что Остерман от беспредельной своей любви меня бы в ложке утопил, если бы мог; а принц Антон, правда, с чужого голоса, но думает, что я у него свет из глаз отнял. Да! Непрактический человек мой сын, слишком немец, чтобы на что-нибудь годился!.. Вот разве брат, – продолжал рассуждать Миних. – Постоянный партнер правительницы, ее интимный собеседник… Но он, кажется, весь ушел в ломбер и мушку и даже думать о чем-нибудь забыл, кроме тех пятачков, которые он проигрывает или выигрывает в пустой домашней игре. Я как-то стал ему говорить о выгодах прусского союза и предложениях прусского короля, а он меня перебил тем, что вот раз ему пришел на руки король, дама, сам-третей… Нет, не рука!.. Разве Юлиана?.. Но и она нынче на меня что-то косо смотрит, будто кошка между нами пробежала. И почему? Разве принцесса сказала ей, что когда она хотела подарить ей пятьдесят тысяч на устройство подаренной ей мызы Обер-Пален, то я убедил ее ограничиться десятью… Вот разве молодой Зацепин, если ему удастся заставить забыть Линара, – этот ловок!
Он сумеет поставить себя, сумеет всякую махинацию разбить. И пожалуй, ему пока выгоднее держаться меня, зато потом… Ну, да что будет потом, мы увидим, а теперь нельзя не обратить на него внимания, очень, очень сближаться начал… И как это они не подумают, что ведь я их единственная опора, – рассуждал Миних, – что я все прикрою, все предотвращу. Уйду я, и они, пожалуй, года не продержатся. Тот же Бирон, если они не успеют ему голову снять, из-под земли явится и им шею свернет… Но что же делать? Насильно мил не будешь. Надоело их беречь да от них же и неприятности получать. Поеду к себе в Гостилицы сажать репу. Это лучше будет! Пусть себе сами повозятся, тогда увидят и, пожалуй, ко мне же кланяться придут!.. А на Зацепина нужно обратить внимание… большое внимание делать следует…» – заключил Миних, собираясь ехать к принцессе Анне Леопольдовне с докладом о своей отставке.
И точно, князь Андрей Васильевич, руководствуемый и напутствуемый советами дяди, которого Анна Леопольдовна без всякой церемонии величала своим дядюшкой, заставлял говорить, что «внимание делать следует». Он сближался с принцессой заметно. Она уже не называла его графом, которого, видимо, начинала забывать. Он был ежедневным гостем или у нее, или у Юлианы, и, видимо, гостем приятным. Когда он опаздывал, принцесса беспокоилась; когда он был на службе, она скучала. Семейство Миниха, окружавшее принцессу и Юлиану Менгден, видимо, его поддерживало. Приезд Линара не мог быть для них желателен, так как Линар, естественно, был бы горячим противником прусского союза, за который стоял фельдмаршал; стало быть, Линар неминуемо должен бы стать их врагом. Зацепин другое дело. Он пока не имел значения в политике, стало быть, отнесется к предположению о таком союзе совершенно безучастно. Косо смотрел на сближение с правительницей молодого князя Зацепина граф Андрей Иванович Остерман. Даже на праздник князя Андрея Дмитриевича не поехал, хотя Андрей Дмитриевич давал праздник в своем загородном доме на Аптекарском острове, по секрету от племянника, под таинственным наименованием «купанье нимф». Андрей Иванович куда как любил такого рода праздники Андрея Дмитриевича и никогда не манкировал ими. Бывало, полумертвым себя везти велит. Но теперь какой тут праздник, когда фавора добиваются, в Бироны лезут, с Минихами одну игру ведут! Положим – не дядя; да ведь черта в ступе не разберешь: дядя ли учит племянника или племянник мутит дядю? Черт все остается чертом, как его ни малюй. Войдет в фавор этот мальчишка, русские вперед полезут. Пойдут Белозерские да Вадбольские, как при блаженной памяти Петра II, когда Долгорукие силу взяли, пошли Голицыны да Головкины, а это нашим немцам не рука.
И точно, князь Андрей Васильевич становился к правительнице весьма близко. Заявляя, что он не любит карточной игры и садится играть исключительно, чтобы доставить удовольствие правительнице, когда недостает партнера, он имел неоспоримую выгоду передавать свою игру, как только являлся кто-нибудь, или, наконец, усаживать за себя Юлиану Менгден, как только принцесса не играла. На выигрыш или проигрыш он имел полную возможность не обращать внимания, так как игра была ничтожная. А освободясь от игры, он занимал Анну Леопольдовну, которая любила слушать его рассказы и всякий день все более и более увлекалась ими. Удивительно ли, что молодая женщина, которая до того не любила своего мужа, что запирала от него дверь своей спальни, увлеклась юношей, который настолько ловок, что даже французскую авантюристку умел заставить свернуть с намеченного ею пути?
Таким образом, успех сближения правительницы с молодым Зацепиным волновал и заботил все партии. Левенвольд, который жил и думал Остерманом, с ужасом вспоминал, что он имел неосторожность раскрыть этому мальчику все свои предположения и надежды.
Куракин готовился уже ехать в Париж, понимая, что для нового любимца будет необходимо придворное место. А как его давно уже, по наследству от отца, бывшего долгое время послом в Париже, предназначали туда, и он сам был не прочь туда ехать, то и нужно было каждый час ждать этого назначения. Вообще, все готовились к новому положению придворных партий. Да нельзя было и не готовиться. Вот сегодня Зацепина нет в Зимнем дворце, и, смотрите, правительница даже играть не села; видимо, беспокоится; раза два выходила из внутренних комнат в приемные залы; посылала даже узнать, не в карауле ли он. И прибавила, что она хочет князя Зацепина отчислить от полка и назначить адъютантом к генералиссимусу.
Начала было сомневаться: «Здоров ли он» – и успокоилась в этом отношении только тогда, когда Миних-сын сказал, что он сегодня утром видел его в манеже. «А если здоров, отчего же его нет? Уже девять часов!.. – Задавая себе этот вопрос, принцесса подумала – Неужели он к этой француженке поехал? – До ее сведения уже довели о связи, существовавшей между молодым Зацепиным и Леклер. – Не может быть! Он мне сказал, что всегда бросают мякинный хлеб, когда Бог пошлет счастие и судьба благословляет белым! Где же он? Юлиана посылала узнать: сказали, что его дома нет!»
Между тем Андрей Васильевич был дома. Он сидел в своих орлеанских комнатах в доме дяди, запершись от всех и приказав объявлять тем, кто его спросит, что его нет, что он уехал, исчез, умер. «Говорите, что хотите, только бы меня не беспокоили!» – сказал он Федору и не велел никого пускать.
Такое стремление к уединению было естественно. Он был слишком взволнован и слишком занят. Из Шлиссельбурга приехала Фекла и принесла ему вести о Гедвиге и письмо от нее. Двадцать раз по крайней мере перечитывал он это письмо, покрывая его поцелуями, и ему все казалось, что он его еще не прочитал, не понял, не усвоил, – и он начинал читать снова.
Он забыл все свои дела, забыл, что его ждут. Он все забыл! Он помнил только Гедвигу. Она мерещилась в его глазах… Разбитая, больная, лежит она в Летнем дворце на диване и говорит тихо, останавливая на нем свои добрые помутившиеся глазки: «Жизнь моя, душа моя… они твои, Андрей, они принадлежат тебе! Возьми их!»
Эти слова отзывались в его ушах, он вновь слышал их и снова перечитывал ее письмо.
В промежутках между чтением он или ходил по комнате большими шагами, или садился к столу и, опираясь на него локтями, о чем-то думал, опустив голову на руки. Потом вставал и начинал ходить снова.
Наконец, как ни старался он подражать дяде, как ни усваивал его понятия и взгляды, между прочим и ту недоступность к простым смертным, которой отличался князь Андрей Дмитриевич, до того даже, что не допускал себя никогда до разговора с прислугой, он не выдержал, велел позвать к себе Феклу и стал ее спрашивать подробно о том, что делала и как жила Гедвига.
Фекла, успевшая полюбить добрую больную, за которой ей пришлось ухаживать, охотно рассказала ему, как она, сама чуть живая, ходит за отцом и матерью, угождает им, развлекает, хоть те и мало обращают на это внимания, а все больше бранятся; говорила, как она услуживает им, читает, иногда поет. Вот для отца-то она по ночам сшила подушку из своего салопа, ему спать низко было; а матери связала кофту своими ручками; чтобы отцу не скучно было, выучилась в шашки играть, и как еще другая-то игра, что вместо шашек какие-то личины ставят. Потом Фекла поведала о ее доброте, терпении, говорила, что не жалуется она никогда ни на что, никогда не стонет, хоть и больно очень бывает, особенно когда на спину лубок накладывают. Но все с веселой улыбкой и ласковым словом переносит. «Ангел – не барышня, хоть кому скажу, – заключила Фекла, – да и ангелы такие на земле не бывают!»
А что в это время было с Бироном?
Услышав, что Миних теряет свой кредит при правительнице, он начинал понемногу успокаиваться. «Главного моего врага нет. Остерман, – думал он, – ну этот, разумеется, власти не уступит, но и не станет обременять себя бесполезным злодейством. Для него выгоднее меня постоянно в виде грозы держать! А что, если в самом деле именно в этих видах он решит меня в Курляндию отправить?»
И у него явилась надежда, слабая, конечно, но все же надежда. И он уже начинал создавать планы, как он будет управлять Курляндией, в случае если надежда его оправдается.
Раз вечером сидели они все вместе. Гедвига что-то вышивала, Бенигна роптала на судьбу, а Бирон высказывал свои предположения. Вдруг дверь отворилась, вошел Власьев.
– Вы должны приготовиться выслушать постановление суда! – сказал он. Все невольно побледнели.
Через несколько минут в их каземат вошел секретарь великой княгини-правительницы Семенов, с ним два ассистента и секретарь. Они заставили всех встать, а Бирона склонить свою голову и стали читать приговор.
– «По указу его императорского величества государя императора самодержца всероссийского Иоанна III комиссия верховного уголовного суда над бывшим герцогом курляндским и семигальским, регентом Российской империи Иоганном фон Бироном слушали…» – читал Семенов медленно и вялым голосом, останавливаясь на некоторых словах по недостаточной для его глаз разборчивости рукописи. В приговоре были прописаны все ответы Бирона, все возражения на эти ответы, показания посторонних лиц, объяснения и толкования, пока наконец дошло до заключительного «приказали», после коего началось то же изложение, только в сокращении.
Бироны стояли все ни живы ни мертвы. У герцога кровь то приливала к голове, то отливала к сердцу; он бледнел и краснел попеременно и весь дрожал. Семенов тем же монотонным голосом читал:
– «За таковые его продерзностнейшие и мерзкие поступки, небрежение к нашей особе, непристойную дерзкую похвальбу противу наших родителей и жестокие казни преданных нам людей приговаривается он…» – Семенов закашлял и остановился.
Все впали как бы в онемение; ждали лихорадочно последнего слова! У Бирона, казалось, остановилось биение сердца, в лице не было ни кровинки, руки дрожали… Но он стоял и ждал…
– «Приговаривается он, – откашлявшись, продолжал Семенов, – к смертной казни через четвертование!»
Гедвига и Бенигна вскрикнули. Бирон упал на месте без чувств.
Ни Семенов, ни Власьев, ни ассистенты не обратили на это ни малейшего внимания. Они ушли составлять свой протокол об объявлении приговора. Бенигна и Гедвига с герцогом остались одни.
Бенигна начала свой бесконечный ропот на свое злополучие, что, будучи ни женою, ни сестрою, ни другом, она должна теперь разделять несчастие чужого ей человека, воспитывать его детей, нести на себе всю тяжесть его участи. Она начала плакать, стонать, метаться и даже не подошла к своему омертвелому супругу.
Гедвиге пришлось возиться с отцом одной. Освежив его голову водой, она хотела было приподнять его, но не могла. Она расстегнула ворот его рубашки, сняла галстух, натерла спиртом виски. Пришла Фекла и позвала тюремного сторожа. Вместе они уложили его в постель.
Когда он опомнился и вспомнил приговор, с ним сделалась дрожь; его начала мучить лихорадка, зубы стучали один о другой, и, вне себя, он представлял себе подробности казни, которую будут над ним исполнять.
– Боже мой, – говорил он, – да как это мучительно, да как страшно!.. Я видел казнь Волынского, нарочно инкогнито ездил смотреть… ему рубили только одну руку и голову, а мне, боже мой! отрубят сперва левую руку, поднимут, покажут народу; потом отрубят ногу, опять поднимут, покажут; тогда станут рубить другую руку и только потом уже голову… Господи, и все это нужно перенести, нужно пережить!.. Ужасно, ужасно! Отрубленные члены будут биться, будут страдать, а народ… народ, пожалуй, радоваться будет… Меня свяжут, и я буду ждать… Нет, я не могу, – вдруг закричал он, – я не в силах! Помогите мне! Бенигна, Гедвига, помогите! Да сделайте же что-нибудь! Убейте меня!
Бенигна давно уже прекратила свой ропот и со страхом глядела на мужа, Гедвига упала на колени и молилась. Ни та ни другая не находили слов для ответа и утешения и молчали.
Пароксизм лихорадки проходил, Бирон начинал успокаиваться, засыпать. Но и во сне его мучили мрачные, кровавые сновидения, от которых он стонал, кричал, плакал, вскакивая иногда в ужасе, облитый холодным потом. Чаще всего ему виделась отрубленная голова Хрущова, как она, уже поднятая палачом, повела на него своими глазами. Вот и у него!.. Может быть, сегодня, может быть, сейчас!.. И он ждал, каждую минуту ждал. «Вот они идут, идут сейчас! Идут, чтобы вести на мучительную смерть!.. Я не хочу умирать! – вдруг вскрикивал он, падая головой на стол и заливаясь слезами. – Я еще не стар, здоров! Я хочу, я должен жить! Я поеду в Курляндию. Я там герцог! Кто смеет убить герцога?» Но через минуту он опять стонал, опять плакал. Потом вдруг приподнимался, начинал прислушиваться… «Идут, идут, – говорил он полушепотом. – Не отдавайте меня, ради бога, не отдавайте!» И он прятался в угол, будто в самом деле можно было куда-нибудь спрятаться… И опять ждал, каждую минуту ждал с ужасом.
Положение Бенигны и особенно Гедвиги во все это время было просто невыносимо. Они вытерпели в это время сотню смертей, по мере того как каждая из этих смертей представлялась в голове осужденного; а представлялись ему эти смерти ежеминутно и с осязательной ясностью представлений воображения маньяка. Он беспрерывно видел, как его ведут; как народ на него смотрит; как палач поднимает топор, рубит руку, ногу, опять руку и наконец голову. Он видел эту свою отрубленную голову, как она поводит глазами, смотрит на народ, который смеется, радуется, рукоплещет. Чему? Чему? «Моей смерти! Я не хочу умирать, не хочу! А они убьют меня!» И он опять плакал.
И так прошла целая неделя. Гедвига, вспоминая после эту неделю, с ужасом говорила, что она не понимает, как не сошла с ума.
Один вечер Бирон был несколько спокойнее. Ему пришло в голову, что, может быть, Курляндия станет ходатайствовать за своего герцога, и у него опять явилась надежда. Вошел Семенов, но без Власьева и ассистентов и объявил, что великая княгиня-правительница, несмотря на все вины и продерзости бывшего регента, заслужившего лютую смерть, по своему неизреченному милосердию облегчила казнь и приказала только «завтра отрубить ему голову».
Выслушав это объявление, Бирон безмолвно, вне себя, опустился на скамью. Бенигна зарыдала. Гедвига осталась без движения, не помня себя. Семенов улыбался ядовито, зло, видимо радуясь постигающей их каре.
Посмотрев на всех и полюбовавшись произведенным на всех ужасом, он вдруг засмеялся.
– Что, испугались? – сказал он. – Испугались! А не пугались, когда сами подписывали, сами на казнь отдавали? Ну, успокойтесь, пошутил, испугал нарочно. – Он позвал Власьева и ассистентов и прочитал другой приговор, которым Бирону со всем семейством назначалась ссылка и вечное заточение.
Все это было так неожиданно, шло так скоро один за другим, что сперва никто и не сообразил, что это такое. Но через минуту Гедвига опомнилась и начала горячо выговаривать Семенову за его неуместное пуганье, за жестокую шутку. Но Семенов не смутился от этих упреков. Он обратился к Гедвиге с своим тусклым взглядом и проговорил как-то медленно:
– Дорогая, милая моя барышня, вот вы упрекаете меня за жестокость, упрекаете, что я радуюсь вашему несчастию. Нет, хорошая барышня, вас-то мы все сожалеем, да делать-то нечего! А вашего батюшку и пожалеть грешно. Вот вы говорите: я жесток, шучу. А чем я жесток? Ведь вся и шутка-то только одни слова! А спросили бы вы, каково было мне, как он, тоже для шутки, велел мне кости ломать? Вон рука-то вывихнутая и теперь плетью висит! Это вот уже не слова были! Так, знаете, добрая барышня: какой мерой сам мерял, такой и отмеривается. Мы все обижены, что такому злодею милость оказали. Он не жалел наших голов, так и его головы жалеть было нечего. А вам, барышня, меня упрекать не в чем и не за что! У меня тоже есть дочь, и не одна, – живут моим трудом. Спросите, каково им было?.. Ну да дело не в том! Готовьтесь завтра к выезду. А тебе, красавица, больше здесь не место, – прибавил он, обращаясь к Фекле, которая стояла тут же. – Убирайся, пока цела!
С этими словами Семенов ушел, уведя с собой ассистентов и Власьева.
Бирон облокотился на стол и молчал. Слезы текли по его щекам. Он не замечал их. Местом ссылки его был назначен Пелым. Где это? Он знает, что где-то в Сибири, в Перми, на севере, в горах. Там он должен будет жить до смерти под надзором строгих тюремщиков. Миних своей рукой начертил план дома, назначенного ему вечной тюрьмой. Но все же он останется жив. Может быть, потом выпустят, может быть – убежит!..
Гедвига подошла к Фекле.
– Нас увозят, добрая Фекла, – сказала она тихо. – Ты уходишь от нас. Мне нечем тебя наградить. Но можешь ли ты взять от меня записку к князю? Он поблагодарит тебя, я в этом уверена.
– Пожалуйте, матушка, добрая княжна наша, да чтобы угодить вам, чего я не сделаю!
– Только как ему в руки доставить? Я не хочу, чтобы это письмо досталось нашим тюремщикам. А пожалуй, будут осматривать, найдут…
– Э, будьте покойны, матушка, спрячу туда, что и в жизнь им не добраться. Да и унтер-от тут из наших, так он и добираться-то очень не станет!
– Как из наших?
– Так! Уж это мое дело, матушка княжна, а вы уж будьте покойны, в действительности как есть князю Андрею Васильевичу предоставим!
– Так я приготовлю, а ты приди.
– Приду, приду! Чтобы угодить тебе, себя, кажись бы, не пожалела, а это что – наплевать! Не то Власьев, а хоть сам Ушаков приди, ничего не найдет!..
Это-то письмо и перечитывал много раз Андрей Васильевич. Оно было написано по-французски, но вот его буквальный перевод:
«Наша участь решена, нас ссылают, ссылают навечно! Куда, право, не знаю! Ведь карта для нас такая страшная контрабанда, что при одном слове моем о том, что я хотела бы взглянуть на карту, Власьев зажал уши. Да и не все ли равно?..
Пишу к вам наскоро, мой дорогой, бесценный друг, опираясь на обещание Феклы, что она доставит это письмо непременно вам в руки; хочу вам сказать… Но прежде я должна поблагодарить вас за вашу заботу о моем удобстве и спокойствии. Знаете, ваше внимание в минуты моего несчастия давало мне столько отрады, что, право, не знаю, захотела ли бы я променять свое несчастное положение на то, чтобы лишиться этой отрады!
Но теперь все решено. Мне жаль отца, который все же заботился обо мне. Теперь моя очередь заботиться о нем. Постараюсь, сколько хватит моих сил, их успокаивать и утешать. Посвящу на то пока жизнь мою.
Вы, может быть, скажете, мой дорогой, незабвенный друг, что мои слова идут в противоречие тому, что я обещала вам. Вы скажете, что я отдаю им то, что мне не принадлежит, – отдаю себя. На это я позволю себе возразить.
Ни на одну минуту я не думаю, что могу, хотя бы мысленно, отменить что-либо, на что предоставила вам право рассчитывать. Напротив, ваша нежная обо мне заботливость делает меня вашей вечной должницей. Я душою, мыслью, всем сердцем невольно обращаюсь к тому вашему слову, которое было моим счастием. Но мое положение в такой степени изменилось известными вам событиями, что я не считаю себя вправе признавать обязанностью для других в рассуждении меня то, что было принимаемо ими хотя и добровольно, но совершенно при других условиях. Теперь я бедная пленница, приговоренная к вечному заточению. Могу ли я рассчитывать на то, что относилось к принцессе курляндской и семигальской. Притом обязанность, о которой до того я не имела даже повода думать, заставляет меня сохранить мои отношения к воспитывавшему меня семейству. Бросить его теперь, в самую минуту падения, для меня невозможно. Если бы я это сделала, я бы презирала себя. Я должна посвятить себя им, по крайней мере, до тех пор, пока страшный перелом их жизни представляет жгучую, острую боль сердца, то есть пока этот перелом от времени не перейдет хотя в горькое, но спокойное воспоминание. Потом, я была здорова, а теперь буду ли я здорова когда-нибудь, знает один Бог.
Среди этих колебаний я решилась, не отказываясь сама ни от чего, что ставит меня в какую-либо зависимость, освободить других от всякой их зависимости от меня.
Последнее относится преимущественно к вам, мой дорогой, бесценный друг! Вы были один, зависимость от которого была мне отрадна. Веря вполне вашим словам, я считала себя счастливой, что могла обещать отдать вам всю жизнь мою, всю себя. Знать, что вы мой, а я ваша, было для меня такой радостью, перед которой бледнеют все мои несчастия. Но, ввиду изменения моего положения и здоровья, я признала себя обязанной сказать вам, что свято и с сердечной искренностью я сохраню вам все, что обещала, но предоставляю вам полную свободу забыть, что вы обещали мне. Я ваша всем сердцем, всею душой, всем существом моим до тех пор, пока словом или делом вы не покажете мне, что я вам не нужна, что я для вас чужая и что вы для меня чужой… От вас же я не требую ничего. Возвращаю вам все слова, все обещания ваши, предоставляю полную свободу вашему чувству в будущем… Об одном прошу: вспоминайте иногда беспредельную мою благодарность за вашу заботу, попечения и помощь, оказанные в минуты несчастия от всего сердца преданной
Гедвиге Елизавете.
Еще прощу наградить чем можно женщину, которая ходила за мной. Она так усердно заботилась обо мне от вашего имени, так берегла меня, наконец, с столь многими предметами ознакомила меня из русской жизни, о чем я не имела даже понятия, – между прочим, и с знаменитостью вашего славного рода князей Зацепиных, – что я считаю себя очень и очень ей обязанною, и я весьма бы желала доказать ей мою благодарность; но у бедной пленницы нет ничего, поэтому я поневоле должна прибегать к посторонней помощи».
«Так вот чем кончился суд! Вот чем кончилась та блестящая карьера, которая полушляхтича-проходимца возвела на ступень владетельного герцога, самодержавно управлявшего обширной империей! – раздумывал князь Андрей Васильевич. – Вот чем кончился и мой роман! Само собой разумеется, что Гедвиги я забыть не могу. Воспоминание о ней я сохраню целую мою жизнь. Я не могу забыть тех светлых и отрадных минут, когда она мне сказала, что мои чувства к ней встречают ответ в ее чувстве, что ни в ком она не надеется встретить такую опору своей жизни, какую видит во мне! Никогда не забуду, как она, милый ребенок, с слезинками на глазах, склонила свою головку на мою грудь и прошептала: «Не разлюбите меня, а я… я ваша, я никогда не разлюблю!» Это были минуты незабываемой радости, минуты, от которых и теперь разливается отрадное ощущение… Но вопрос не о любви! Я чувствую, что я люблю ее, что она мне дорога, как моя радость, как угаснувшая надежда… Но дело не в том, что мне дорого, что я люблю. Вопрос в возвышении и укреплении рода князей Зацепиных, в предоставлении ему политического положения, а для этого соединение с дочерью павшего временщика – вещь немыслимая. Только восходящее солнце дает надежду на светлый день, заходящее же может оставить только воспоминание. Но писать ей это, сказать – я не могу, я не в силах, – я еще слишком люблю ее!.. – И он снова начинал ходить, потом снова задумывался и снова читал. – Она нездорова, страдает… Бог знает чего бы я не дал, чтобы иметь право беречь ее теперь, ухаживать за ней! Но обязанность, долг, зависимость от отношений – все это должно быть выше желаний, выше чувства. Суд над ними, – но ведь это комедия!»



