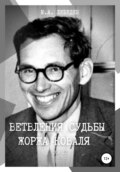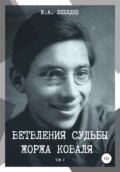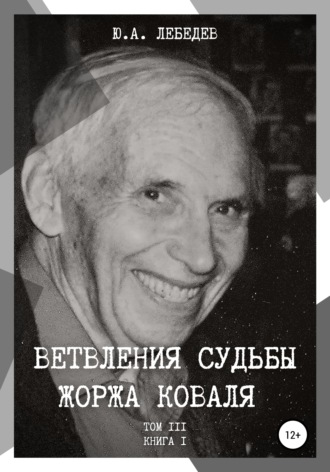
Юрий Александрович Лебедев
Ветвления судьбы Жоржа Коваля. Том III. Книга I
Беседа с Владимиром Ивановичем Царёвым, Руководителем Миусского комплекса РХТУ им. Д. И. Менделеева

16.89. В. И. Царёв в рабочем кабинете во время разговора 11.03.14.[328]
Беседа состоялась в рабочем кабинете Владимира Ивановича, без предварительного согласования времени и темы. Я просто «поймал» его на рабочем месте в обычный рабочий день, тем самым задержав на полчаса решение каких-то служебных вопросов, которые хотели обсудить с ним сотрудники, ожидавшие окончания нашей беседы в его приёмной.
Ю. Л. Где, когда, и при каких обстоятельствах ты узнал о существовании такого человека, как Жорж Абрамович Коваль?
В. Ц. И узнал, и познакомился я с ним на кафедре ОХТ. Я работал по распределению младшим научным сотрудником по теме конденсации паров серной кислоты, а он вёл курс автоматизации.
Ю. Л. А как студент, ты с ним не контактировал?
В. Ц. Нет, нам читал этот курс Семёнов Г. М.
Ю. Л. А до начала твоей работы ты ведь бывал на кафедре и наверняка что-то слышал о нём?
В. Ц. Конечно. Что-то я знал от общения с тогдашними сотрудниками – Жуковым А. П., Каграмановым Г. Г., с тобой – ты ведь тогда был на кафедре, с Шмульян И.К…
Ю. Л. Понятно… Но каково было твоё личное впечатление, как ты выделил из толпы преподавателей фигуру Жоржа?
В. Ц. Ну, конечно! Такое в памяти остаётся навсегда. Хотя я непосредственно с ним не работал, но мы ведь постоянно сталкивались, контачили, разговаривали. А человек он был неординарный, колоритная фигура – мощное телосложение, высокий, статный… А манера говорить, его акцент! Это всё незабываемые вещи… Никуда от этого не уйдёшь ☺.
Ю. Л. Фигура колоритная и притягивающая, это понятно. А где и от кого ты узнал, что он был разведчиком?
В. Ц. От каких-то разговоров сотрудников кафедры… По разным поводам ведь собирались Каграманов, ты, Гена Коваль… От Жукова много слышал… И разговоры на эту тему на кафедре шли и между другими сотрудниками…
Ю. Л. Понятно. Состояние было типично советское – было осознание, что Жорж – фигура, разведчик, но говорить об этом на собраниях не нужно. Так?
В. Ц. Ну, да, примерно так ☺.
Ю. Л. А всё-таки, хоть ты и не работал с ним по его тематике, но общался по рабочим вопросам. И каково твоё впечатление о нём как о сотруднике? Легко тебе было общаться с ним в этом плане, трудно…
В. Ц. Он, конечно, был человеком очень многознающим… Обладал фундаментальной базой и был компетентен во многих вопросах. На кафедре были четыре научных направления – Амелина, Фурмер, Малахова и Коваля, которые объединялись одним большим договором с Воскресенским химкомбинатом. Я частенько представлял нашу группу в поездках в Воскресенск (Амелин не очень любил туда ездить). И там я видел, как все эти качества Жоржа раскрываются в практической работе.
Ю. Л. В связи с этим вопрос. Нам с тобой понятны человеческие характеристики Фурмер, Малахова, их «напор»… И ты видел в Воскресенске и их и Жоржа, и можешь сравнивать их деловые манеры. И как ты считаешь, был ли Жорж в делах служебных и житейских смелым человеком?
В. Ц. Думаю, что да, безусловно! Эта его смелость подтверждается всей его жизнью.
Ю. Л. То, что жизнь бросала его в такие ситуации, в которых он выживал благодаря своей смелости, это понятно! Я немного о другом, о «житейском»… Вот приносят расписание, а там удобные и неудобные часы занятий…
В. Ц. А, в этом плане! Нет, конечно, в делах житейских он шёл на уступки другим людям. И в твоём примере он уступит женщине-коллеге удобную пару занятий… Помнишь, как они делили столы в той каморке, где сидели с Фурмер? Удобный стол достался Изабелле Эммануиловне… ☺ Но это не о смелости и напористости, это об уважительном отношении к людям…
Ю. Л. А вот такой вопрос… Он никогда о себе ничего не рассказывал. Но ты ведь общался с ним не один день, а многие годы…
В. Ц. Да, конечно…
Ю. Л. И вот за время вашего общения, он мог как-то «проговориться» и тогда твоё «тайное знание» что он – разведчик, получало живое подтверждение. Бывало такое?
В. Ц. Нет, при мне он ни разу не «прокололся» ☺.
Ю. Л. Но то, что он американец, родился и жил там, это же не было секретом?
В. Ц. Конечно, это было общеизвестно, он писал об этом во всех анкетах…
Ю. Л. И вот этот его «американизм» как-то ощущался в общении или проявлялся в его «житейском поведении»?
В. Ц. Нет. Я считаю, что он вел себя как обычный советский человек. Единственное, что выдавало его американизм, это, как он газовал, трогаясь с места на машине ☺. Садясь в машину, он резко давил на газ, что у нас было не принято – у нас плавно отжимаешь сцепление и потом газуешь. А он – сразу по газу, и с места срывался!.. Я видел это не раз – мы играли в футбол у Дворца Пионеров на Миусской площади, а он подъезжал с этой стороны к институту и видел нас, а мы – манеру его езды. А играли мы там, как ты знаешь, регулярно и много лет…
<Я вернулся к этому вопросу – об отношении Жоржа к спортивным пристрастиям сотрудников – через несколько дней, 01.04.14, при случайной встрече с Владимиром Ивановичем в ходе очередного визита в Менделеевку. И Владимир Иванович со всей определённостью заявил, что «он ко всем спортсменам относился положительно. И к футболистам тоже! Ни Федосеев, ни Гришин, ни Каграманов – постоянные участники футбольных мероприятий – никакого негатива от Жоржа по этому поводу не ощущали. И я не ощущал – однозначно!». Категоричность Владимира Ивановича была вызвана тем, что в институтском фольклоре бытует байка, будто бы Жорж недолюбливал, что играют в футбол в рабочее время. Во время этой встречи мы, кстати, припомнили, что однажды, во время очередного чемпионата мира по хоккею в Москве, на кафедре был организован тотализатор, в котором и Жорж и я приняли участие. Несмотря на «сильный состав спортсменов-любителей», победила девочка-лаборантка, ничего не понимавшая в хоккее и вряд ли знавшая, чем он отличается от футбола или керлинга ☺. Спортивный мир непредсказуем, здесь же важно то, что Жорж не был к нему равнодушен >.
Ю. Л. А ты не ездил с ним в качестве пассажира?
В. Ц. Нет, ни разу… А вот вспомнился один забавный случай с участием Жоржа. Однажды он принимал экзамен у студентки, которая имела грудного ребёнка. Принимал почему-то в лаборатории ОХТ, в которой в тот момент никого не было. И вот захожу я на кафедру и вижу картину: за столом сидит маленькая изящная студентка, перед ней экзаменационный лист, она что-то на нём пишет – готовится к ответу на экзамене! – а посреди лаборатории перед ней стоит этакая «скала» – Жорж Абрамович! – и держит на руках ребёнка.
Ю. Л. Так она с ребёнком пришла на экзамен?
В. Ц. Да! Она всё «просчитала» заранее – пришла на экзамен с младенцем, получила билет и села готовиться, а Жоржа попросила «подержать ребёнка» ☺. И Жорж стоял и держал, не знаю уж сколько – десять минут или двадцать, пока не вошёл я. А, увидев меня, Жорж растерянно как-то спрашивает: «Володья, што мне дэлать?», имея, вероятно, надежду на то, что я возьму младенца, а он начнёт экзаменовать студентку.
Я отвечаю: «Жорж Абрамович! А не проще ли поставить удовлетворительную оценку и вернуть ребёнка матери?».

16.90. В. И. Царёв, рассказ о студентке с ребёнком.[329]
Он на секунду задумался, и так серьёзно говорит: «Это хорошее решение!»… Оно было тут же реализовано и на этом экзамен закончился ☺…
Ю. Л. Да, это достойный упоминания эпизод, характеризующий ещё одно человеческое качество Жоржа – его житейскую наивность ☺…
<То, что Жорж серьёзно относился к работе с вечерниками (а студентка с ребёнком явно относилась к их числу), видно по фотографии, опубликованной в газете «Менделеевец» в 1965 году. Хотя это типичная «постановочная фотография» для газеты, и качество воспроизведения в институтской многотиражке демонстрирует сегодняшнему молодому читателю технический уровень типографии тогдашнего МХТИ, живую атмосферу экзамена можно прочувствовать по ясно видимой детали – изображению рук собеседников: уверенные и спокойные у Жоржа, и нервно сплетённые ладони у студентки. Строгости Жоржа явно побаивались! Но, как видно из рассказа В. И. Царёва, эта строгость не была догматичной ☺…
А вот такой вопрос – ты же был знаком с ним не один год – касающийся «дел военных». К праздникам – 23 февраля, 9 мая – ветераны войны на кафедре получали какие-то поощрения, а Жорж оказывался «в стороне».[331] Не чувствовал ли он какой-то ущемлённости по этому поводу?
В. Ц. Я, честно говоря, не замечал, что он бывал как-то ущемлён… Я, во всяком случае, такого не помню…
Ю. Л. А вот ещё один оценочный вопрос. Был один год, когда кафедральный треугольник имел три таких угла: административный – зав. кафедрой Амелин, партийный – парторг кафедры Коваль, профсоюзный – профорг кафедры Лебедев, то есть я ☺. Я плохо помню какие-то конкретные дела этого треугольника. А вот ты, как сотрудник, ощущал ли «партийный дух» партийного угла этого треугольника?
В. Ц. (после глубокой задумчивости). Нет, я этого духа не чувствовал… Никаких «партийных перегибов» у него не было. И относился он к делам сотрудников всегда сочувственно…
Ю. Л. Это, конечно, помню и я. Но значит, можно сказать, что «партийным фанатом» он не был?
В. Ц. Конечно! Мы ничего этого не ощущали. Он был «нормальным человеком», как и большинство сотрудников нашей кафедры. Можно сказать и пафоснее – он был достойным представителем тогдашнего нашего общества…
Ю. Л. Теперь ещё один момент – ты не помнишь обстоятельств его ухода с кафедры? Ты тогда там работал?
В. Ц. Нет, в то время я уже перешёл на кафедру ТНВ к Торочешникову. Но институтские события, конечно, помню. Уход Жоржа прошёл как-то тихо и незаметно… Если человека обижают, у него возникает защитная реакция, это заметно, а я ничего подобного не помню. Всё прошло как-то чинно и тихо…
Ю. Л. А теперь вопросы о «признании» Жоржа. Когда вышла книга Лоты в 2002 году, это как-то отразилось в университете?
В. Ц. Не помню… Настоящее признание произошло, конечно, когда он получил Героя в 2007 году. Он ведь был Ветераном ГРУ, но далеко не все ветераны даже этой организации носят звание Героев. Поэтому здесь, в Менделеевке, это событие было воспринято как очень значимое. Впечатление было очень сильное…
Ю. Л. А ты лично как психологически воспринял этот Указ № 1404 от 22 октября 2007 года?
В. Ц. Лично я воспринял очень хорошо! Я считал, что этот человек давно был достоин такого звания. Но надо награждать таких людей не посмертно, а при жизни…
Ю. Л. А!..
В. Ц. …Чтобы они могли хоть как-то ощутить то внимание, которое государство могло им уделить, пусть и в конце жизни…
Ю. Л. То есть ощутил ты «радость со слезами на глазах» в том смысле, что могли бы и пораньше…
В. Ц. Да, конечно! Ты же помнишь, что вопрос о награде возник уже на похоронах…
Ю. Л. Да, возник, но процесс этот оказался очень не простым, о чём я подробно напишу в своей книге… А ты скажи напоследок, чем же всё-таки объясняется притягательность личности Жоржа при общении с ним?
В. Ц. Ну, кроме потрясающего акцента ☺, он обладал удивительным качеством собеседника – так вести разговор, чтобы было интересно собеседнику. Он не «гнул свою линию», а обязательно включал собеседника и его доводы в нить разговора. Поэтому с ним всегда было интересно говорить!
Ю. Л. Спасибо!
13.03.14
Беседа с Закгеймом Александром Юделевичем, профессором Московского Государственного Университета Тонких Химических Технологий имени М. В. Ломоносова

16.92. А. Ю. Закгейм во время разговора 13.03.14.[332]
Беседа проходила в скромной квартире Александра Юделевича, отличительной особенностью которой является, пожалуй, только обилие книжных полок и шкафов. Домой к Александру Юделевичу я был любезно приглашён для беседы по моей просьбе. Так сложилось, что мы, будучи знакомыми уже много десятилетий, «пересекались» с ним в живых контактах очень редко. Но каждый такой контакт был для меня контактом с интеллигентным человеком и происходил на почве какого-то интеллектуального события. Поэтому я был очень рад возможности поговорить с ним о Жорже Абрамовиче, понимая, что в этом разговоре тема интеллигентности будет одной из главных…
Ю. Л. Мой первый стандартный вопрос – где, когда и при каких обстоятельствах вы узнали о существовании человека, которого зовут Жорж Абрамович Коваль?
А. З. Ответ такой. Это был 1949/1950 учебный год, не помню, осенью или зимой. Я узнал о нём, и познакомился с ним при одном и том же событии – он просто пришёл туда, где я его ждал. Так мы с ним познакомились. К сожалению, это было не очень удачное знакомство. Дело в том, что тогда была идея организовать студенческий научный кружок, и я хотел принять в нём участие. Жорж Абрамович пришёл посмотреть на меня и побеседовать по этому поводу. К сожалению, потом оказалось, что я для такого кружка не гожусь, так что это дело не пошло…
Ю. Л. Простите, что перебиваю Вас… Где это происходило?..
А. З. В Менделеевке! Я тогда был студентом второго курса, а Жорж Абрамович – аспирантом… И первое впечатлении – это, конечно, голос и произношение! Должен сказать, что за всю свою жизнь я слышал только двух человек с таким красивым и замечательно акцентированным голосом – это Жоржа Абрамовича и Пола Робсона. Я никогда не слышал, чтобы Жорж Абрамович пел, но если у него был музыкальный слух, то пел бы он очень хорошо…
Ю. Л. Нет, он не пел… Не было у него музыкального слуха… Вот у его брата, Гейби, по всем воспоминаниям, был замечательный слух! Но, конечно, я Вас прекрасно понимаю – это совершенно незабываемый…
А. З. И голос, и акцент!
Ю. Л. И тембр!
А. З. И вот что любопытно… Я познакомился с ним в 1949 или 1950 году, а закончил общение в 2003 году, и всё это время голос был абсолютно идентичен!
Ю. Л. Вот в Вашем случае «узнал о существовании» и «познакомился» слились в одно событие, поэтому мой следующий вопрос о дальнейших контактах.
А. З. Сначала контакты у нас были очень слабые. Он занимался системами автоматического регулирования, а я, работая в НИУИФе, занимался тематикой процессов и аппаратов химической технологии. Иногда, бывая по делам в Менделеевке, я заходил на кафедру и встречался с ним. Впечатление было постоянным – удивительно милый человек, человек удивительно скромный… Его скромность, при явно незаурядных способностях и к науке, и к педагогике, чувствовалась интуитивно, она не требовала подтверждения какими-то словами и фактами. А уж о его роли в разведке я, конечно, и не подозревал!..
Ю. Л. Спасибо, Александр Юделевич!.. Я теперь возвращаюсь к своим «плановым вопросам». Следующий из них звучит так: где, когда и как Вы узнали или догадались, что он был связан с разведкой?
А. З. Я не помню точно, но это было уже в 2000-е годы, когда об этом появились публикации…
Ю. Л. Книга Лоты «ГРУ и атомная бомба»?
А. З. Нет, с этой книгой я не знаком…
Ю. Л. Ну, значит, сказал кто-то из коллег?
А. З. К сожалению, я пытался вспомнить об этом, но не могу… Да, вероятно, кто-то из коллег, связанный с менделеевским институтом, рассказал, что вышла публикация о необыкновенных приключениях Жоржа Абрамовича… Но после этого я с ним уже не общался…
Ю. Л. То есть, в течение всего периода Вашего с ним общения эта сторона его жизни была полностью исключена из Вашего представления о нём?
А. З. Именно так, полностью исключена…
Ю. Л. Но пройдём полностью эту тему. А как Вы восприняли Указ президента в 2007 году о присвоении ему звания Героя России?
А. З. С грустью, что наше Высокое Руководство не догадалось сделать это хотя бы на 10 лет раньше…
Ю. Л. Ну, вот, список моих «плановых вопросов» исчерпан, теперь перейдём к вольным темам. Прежде всего, хочу уточнить время Вашего знакомства с Жоржем Абрамовичем. Это точно было в 1949 году?
А. З. Нет, могло быть и в 1950…
Ю. Л. Мне кажется, что это вернее. Он ведь восстановился в аспирантуре только в октябре 1949 года. И, кстати, есть молва, что в 1949 году он пришёл на кафедру чуть ли не в форме американского солдата. Но, судя по тому, что Вы сейчас рассказали, ничего экстравагантного в момент вашей первой встречи с ним в нём не было?
А. З. Не только при первом знакомстве, но вообще никогда. Мы общались всегда очень, я бы сказал, «стандартно». Но при этом ощущение очень умного и очень скромного человека было всегда просто интуитивно очень сильным.
Ю. Л. Теперь у меня есть вопросы, связанные не с фактической стороной вашего общения, а с Вашими оценками как современника некоторых событий его биографии. Прежде всего, я имею в виду 1953 год. Жорж Абрамович замечательно защитился в октябре 1952 года, но комиссия по распределению аспирантов ничего не решила. Его никуда не распределили…
А. З. Понятно… Я об этом слышал.
Ю. Л. Но, всё-таки, Жаворонков устроил его на ТНВ на установку по разделению воздуха, которая называлась забавно – ЖАК-60. Это не аббревиатура «Жорж Абрамович Коваль», а «жидкие азот и кислород»… Но он ею заведовал… до 23 февраля 1953 года, когда Отдел кадров официально уведомил его о том, что по истечение двух недель он будет уволен… После этого Жорж Абрамович был в очень подавленном состоянии.
А. З. Ещё бы!
Ю. Л. Всё это связывается с «делом врачей»… Но тут умирает Сталин. И сразу же после его смерти, 7 марта 1953 года, Жорж Абрамович пишет письмо в ГРУ, в котором просит помочь ему устроиться на работу. ГРУ ему действительно помогает… Мой вопрос сводится к следующему. Как Вам, современнику тех событий, видится психологическое состояние Жоржа Абрамовича в это время?
А. З. Понимаете в чём дело… Со мной тогда происходила печальная вещь… Я – мальчишка тогда! – всячески старался себя убедить, что на каком-то уровне то, что происходит – правильно! Есть такой феномен – когда человек попадает в ситуацию жуткой несправедливости, террора, он вдруг начинает убеждать себя, что это не так уж плохо. А у меня в это время моя матушка была в ссылке – вечной! – как официально было записано, поскольку отец был расстрелян в 1936 году… Так что моя личная ситуация была очень плохая и мне, честно говоря, было просто не до того, чтобы что-то понимать в происходящем вокруг… У меня никаких контактов с Жоржем Абрамовичем в эту эпоху не было, и ему, естественно, тоже было не до меня… Но, конечно же, эта эпоха была удивительно нестабильная, классическая ситуация потери устойчивости системы, когда одна сторона лютовала столько, сколько только возможно, а другая сторона, включавшая, подозреваю, даже таких деятелей, как Берия, была в ужасе и приходила к выводу, что необходимо хоть что-то изменить… И поэтому жить было очень плохо…
Ю. Л. Понимаю… И Вы искали хоть какой-то лучик света в этом море тьмы… И в этом смысле Вам могло казаться, что вдруг там что-то есть, в этих обвинениях врачей…
А. З. Да.
Ю. Л. Мне, конечно, очень трудно понять психологию людей в подобные времена… Я в такие, слава богу, не жил… Хотя какое-то слабое подобие было в 1968 году в связи с событиями в Чехословакии… Да и сейчас вполне возможно грядёт…
А. З. И чешские события, да и то, что грядёт сейчас, отличается от тех времён… В чешских событиях не было у огромной массы людей, у всех, кто мог вообще о чём-нибудь думать, ощущения того, что из-за непонятной и невероятной ерунды буквально каждый день ты можешь погибнуть. И погибнуть «закономерно», а не от кирпича, вдруг упавшего на голову… Ежедневная возможность гибели была «в порядке вещей». Это было тяжелейшее время, и, как мне представляется по тому, что Вы мне рассказали, Жоржу Абрамовичу стоило немалых усилий души – и это говорит о его незаурядном мужестве! – обратиться в ГРУ.
Ю. Л. И ещё один эпизод из жизни Жоржа Абрамовича, по которому я хотел бы услышать комментарии на основании Вашего жизненного опыта. Я имею в виду его увольнение из ГРУ в 1949 году. У меня сложилось впечатление, не подкреплённое, правда, впрямую никакими документами, хотя косвенных признаков очень много, что его просто вышвырнули из ГРУ. И это не было его решением оставить разведку и заняться чем-то другим. Ведь, казалось бы, он – «ценный кадр», 10 лет проработавший нелегалом и успешно вернувшийся, его и дальше нужно использовать! Но он получает военный билет солдата…
А. З. Да, я это помню…
Ю. Л. …с отметками, что в войне не участвовал и наград не имеет!
А. З. Но ведь медали у него были!
Ю. Л. А в военном билете написано, никаких наград у него не было! Так вот, после такого увольнения в 1949 году, ГРУ вдруг вспоминает о Жорже Абрамовиче в 1999 году! И вопрос к Вам – как бы Вы прокомментировали эту цепочку событий?
А. З. Мне приходят в голову вещи, которые к Жоржу Абрамовичу как таковому отношения не имеют. Мне кажется, что в конце 90-х годов где-то «наверху», на уровне гораздо выше, чем ГРУ, было принято решение, что наши разведданные, которые помогли нам создать атомную бомбу, это очень выигрышная вещь, и нужно активно об этом писать. Было решено, что нужно перестать стыдиться того, что у нас были шпионы.
Ю. Л. Я с Вами совершенно согласен. И автор, Владимир Лота, который впервые представил Жоржа Абрамовича Коваля публике под оперативным псевдонимом Дельмар, занимается именно «пиаром» других атомных разведчиков – Черняка, Урсулы и других. Но вот загадка той ситуации в том, что фигура Жоржа появляется в этом ряду как-то коряво… Что-то здесь не так… У меня есть версия, которую я излагаю в своей книге, которая должна вот-вот выйти в издательстве РХТУ, что сам факт «открытия» разведчика Коваля связан с одним его поступком в 1999 году, а именно – с обращением в американское посольство за положенной ему по американским законам пенсией. Там много «деталей», я о них подробно пишу, а к Вам у меня один вопрос – как Вы оцениваете сам факт того, что Жорж Абрамович обратился в американское посольство?
А. З. Это, конечно, очень тяжёлый вопрос… Все стандарты патриотизма, которым нас обучали, говорят, что это не очень хорошо. А с другой стороны – что ему было делать? Нет, я не берусь обсуждать этот вопрос. Здесь нужно знать очень тонкие детали…
Ю. Л. Спасибо! Мне очень важно то, что Вы сказали. Согласен с тем, что с моих слов сейчас давать какую-то оценку этому поступку нельзя, но важно вот что – в Вашей реакции высветилось: холодно и со стороны, без знания деталей, сам по себе этот факт «бросает тень»…
А. З. Может бросить тень, согласен… Это очень необычная ситуация… Вот что касается 1949 года, я хотел бы сказать два слова…
Ю. Л. Да, конечно!
А. З. С моей точки зрения, насколько я знаю ситуацию, могу сказать: то, что его «выбросили» из ГРУ, было великим везением,[333] поскольку в то время достаточно стандартным было такое развитие событий (мне приходилось видеть это) – человека, который возвращался из разведки в чужую страну, достаточно часто расстреливали или отправляли в лагерь. Но, конечно, бывало и по-другому. У нас, скажем, была одна знакомая, бывший, по-моему, подполковник разведки, которая благополучно сумела перейти к спокойной обывательской жизни. Но, может быть, с нею было то же самое, что и с Жоржем Абрамовичем… Люди, которые бывали в этой системе, не очень охотно о себе рассказывают…
Ю. Л. Да, это так… Последний вопрос – не припомните ли какого-нибудь яркого эпизода из Вашего общения с Жоржем Абрамовичем?
А. З. Нет, к сожалению… Я пытался вспомнить что-то подходящее, но не смог…
Ю. Л. Ну, что ж! Поговорили мы содержательно, Вы ответили на все мои вопросы и важно всё то, что Вы мне рассказали. Спасибо Вам за это!
14.05.14