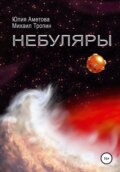Юлия Мидатовна Аметова
То, что помню
29. Что такое теодолит и как с ним бороться
Что такое теодолит – сразу скажу, если кто не знает. Это прибор для измерения углов на местности. Теперь они электронные, цифровые, просто чудо техники. А в те времена, когда я училась в институте, теодолиты были самые простые – механика да оптика, стоит на треноге над тем местом, где должна быть вершина угла. Вбиваешь в землю колышек, ставишь треногу так, чтобы отвес, обозначающий центр, был точно над центром колышка, и наводишь – на одну точку и на другую, чтобы измерить угол между этими направлениями. В реальной работе это нужно для обозначения места здания или дороги на земле, для точной разметки стен и осей, а главное – для разметки углов между стенами. В общем, это главная работа, которая делается перед строительством, до его начала. Выглядит это примерно вот так.

Вроде бы и бороться тут не с чем, все просто. Но это только если смотреть со стороны. Все, кто проходил геодезическую практику после первого курса МИСИ, знают, с чем именно надо сражаться.
Помимо всего прочего, с самим фактом практики – она же в Мытищах! Кому как, а мне туда надо было ехать два часа. К половине девятого утра. Когда у студентов-гуманитариев, да и у многих технарей, уже наступили законные каникулы. Там, в Мытищах, каждое утро надо было сначала выслушать вводную от руководительницы практики, получить задание на день, сдать сделанные накануне дома расчеты, а потом получить у лаборанта инструменты и бежать на полигон.
Полигоном это только называлось. На самом деле это был кусок леса, квадрат три на три километра, с одной стороны примыкавший к каким-то частным участкам с домами, а с другой – к дороге, проходившей по лесу. На полигоне все было как в обычном лесу – сосны, подлесок из орешника и кустов и еще комары.
Комары были совершенным бедствием – в июле их, как известно, еще много, а около теодолита надо было стоять неподвижно, чтобы не сбить отвес с центра и чтобы прицелиться точно. Вот тут все и начиналось! Стоило остановиться около теодолита, настроить его и замереть, аккуратно наводя прицел на точку, как в ноги (неважно, голые или в брюках, этим комарам любая ткань была нипочем), впивались разом штук десять мучителей. Прогнать не было никакой возможности – стоит взмахнуть рукой или дернуть ногой, чтобы согнать мерзкое насекомое, как теодолит дергался под рукой, и вся центровка и наводка сбивалась напрочь. Работали мы по несколько человек, и для меня нашелся выход – пока я устанавливала и наводила теодолит, моя приятельница Ирина била на мне комаров сломанной ореховой веткой. Иногда, правда, от избытка усердия, она хлопала мне по руке так сильно, что наводка все равно пропадала, но это все же было лучше, чем комары.
Другим нашим противником были кусты. Росли они как нарочно именно там, где нам надо было хорошо видеть точки, на которые мы наводим. Чего только мы с кустами не делали! Пригибали к земле, становились на них ногами, раздвигали и прижимали палками, один раз чуть с корнем не вырвали (но на это не хватило сил). И вот как-то с утра приходим слушать наставления на день, а преподавательница говорит:
– Товарищи, лесничество на вас жалуется. Говорят, помяли культуру. Признавайтесь, кто помял?
– Что-что помяли? – спрашиваем.
– Культуру. То есть растения, которые в лесу растут. Кусты, в общем, около сто двадцать пятого репера.
Репер – это геодезическая точка на местности с точно определенными координатами, в лесу они были, но их номеров мы конечно не помнили. Неужели тот орех, который мы вчера хотели выдернуть, был именно около сто двадцать пятого? Как бы это выяснить?
– А какие растения помяли? – спрашиваю.
– Можжевельник, – отвечает преподавательница.
У меня от сердца отлегло – за все дни мы не только не помяли, но даже не видели ни одного можжевельника.
А кто сломал можжевельник, так и осталось тайной. Еще бы кто признался!
Борьба с местной флорой плавно перешла в противостояние с фауной. В хороший день, когда мы работали с теодолитом на поляне рядом с дорогой, и Ирине почти не приходилось сгонять с меня кровопийц, произошло неожиданное. Кусты, от которых мы не ждали никакого подвоха, зашевелились, раздвинулись, и из них не спеша вышла рыжая корова. Она вздохнула, сосредоточенно посмотрела на меня и, наклонив голову, двинулась к моей треноге. Ирина спряталась где-то у меня за спиной, я замерла. Что делать? Хватать только что отцентрированный теодолит и бежать? Но тогда все придется центрировать заново, терять время. А корова подошла еще ближе и откровенно нацелилась рогом на теодолит. А если она скинет на землю ценный прибор и разобьет? Чувствую, кто-то меня сзади дергает за руку и что-то в нее сует.
– Держи, держи, отгони ее хворостиной! – страшным шепотом вдохновляет меня Ирка. Смотрю на то, что она дает мне – веточка, которой она только что гоняла комаров, сантиметров тридцать в длину! Да этим не то что корову, комара не испугаешь! Нет, сию минуту надо хватать теодолит и бегом!
Но схватить я не успела. Из кустов следом за коровой появился ее хозяин – небольшого роста, в старом пиджаке, в серой кепочке и с огромной орешиной метра в три длиной.
– А ну пошла отсюда! Пошла! Не мешай людям! – скомандовал он корове и шлепнул ее своей хворостиной размером с удочку. Корова тут же отвернула рог от теодолита и рысцой потрусила к тропинке. Вот какая должна быть хворостина!
Вот так и боролись мы с теодолитом и разными обстоятельствами. Под конец еще и с расчетами пришлось бороться, поскольку по неопытности наделали ошибок и в измерениях, и в самих расчетах. Но все-таки мы добрались до зачета, благополучно его сдали, и с тех пор я ни разу не имела дела с теодолитом.
30. Не все равно
Сейчас в большом городе трудно представить жизнь без мобильного телефона, а в восьмидесятых годах, когда я стала жить отдельно от родителей, телефона у меня не не только мобильного (который тогда еще не изобрели), но и городского не было года два, пока не построили новую АТС. Из-за этого все и получилось.
Родители как-то на октябрьские праздники приехали ко мне в гости, и мама заболела. Ну что делать, остались у меня пожить, пока ей не станет лучше. Я хожу на работу, живу нормально, и вдруг меня вызывают к главному инженеру отдела.
– Слушай, – говорит он. – Ты знаешь такого Иосифа Ефимовича Шайкевича?
Я знала, конечно, его с детства – сослуживец отца, сосед по дому и по гаражу, ну как не знать? Я так и ответила. А главный инженер не останавливается.
– Так вот, Шайкевич говорит, твои родители пропали. Он им и по телефону звонил, и в дверь в квартире, а их нет уже неделю. Он вот через знакомых добрался по телефону до меня, позвони ему скорее!
Ну, я объясняю ему, что никуда родители не пропали, просто они у меня и без телефона. Бегу звонить Шайкевичу, а сама ворчу в уме: что ж это такое, устроил переполох на полмосквы, как будто что-то ужасное происходит, ведь он и не родственник, и вообще положение неловкое получилось. Может, думаю, сказать ему, что зря беспокоился? Но пока добралась до телефона у нас в комнате, до меня дошло. Какая же я дура, что сержусь на человека за то, что он не остался равнодушным, когда не нашел на месте старого товарища и его жену? Ведь это же счастье, что есть на свете человек, которому не все равно, где его друзья!
Я позвонила ему, конечно, и первым делом сказала "спасибо", и на том все и кончилось. Но с тех пор вспоминаю эту историю очень часто, особенно, когда кто-то при мне говорит, что он взрослый свободный человек, и ни в чьих заботах не нуждается. Такой деятель просто еще не понял, что может настать в его жизни момент, когда не найдется никого, кому будет не все равно, жив свободный человек или пропал.
31. Дамский роман
Галя была очаровательна, как героиня переводного дамского романа, хотя в то время их еще не переводили на русский в таком количестве. Девятнадцать лет, личико сердечком, огромные голубые очи с длинными и густыми ресницами, пышная копна легких золотистых волос, изящные очертания фигуры – прелесть! Не помню, была ли она серьезна или остроумна, как она у нас работала (а она работала именно у нас в отделе), была ли хозяйственна – ничего больше не помню, только одно – что Галя была очаровательна. Но это было в ней главное, и она сама знала, что это главное.
Когда в гостях у каких-то общих случайных знакомых ее встретил Вукич, он тоже понял, что более очаровательной девушки еще не видел за свои тридцать пять лет холостой и весьма общительной жизни. Как его занесло в Москву, Галя не знала, да и не хотела знать. А вот то, что он был не обычный совок-работяга и не зануда-проектировщик – было видно невооруженным глазом. Он был энергичен, деловит, свободен в общении и на фоне московской нищеты завидно богат, настоящий хозяин. Еще бы – на пару с однокурсником-компаньоном он был владельцем небольшой гостиницы на морском побережье тогдашней Югославии. Солнце, море, отель на набережной, любовь, достаток, самостоятельность – у кого из женщин не дрогнет сердце от такого букета? У Гали оно дрогнуло, и через три месяца – ох уж эти совковые правила! – она уехала в город у моря, в гостиницу на набережной. Начиналась новая, свободная и богатая жизнь.
Все складывалось как нельзя лучше, о слякотной Москве и проектной работе можно было забыть, а через несколько месяцев Гале стало ясно, что у половины гостиницы скоро будет законный наследник, будущий хозяин, свободный и богатый. Дела в наследственном владении обстояли прекрасно, гостиничное хозяйство развивалось и росло, однако вместе с доходами росли и налоги. Вукич и его компаньон решили оптимизировать, как это принято теперь называть, налоговое бремя. Хозяйство должно было быть разделено, причем до размеров, при которых налоги сводились к минимуму. Такой размер достигался при делении предприятия на три части. Два владельца были: Вукич и его компаньон. А откуда взять третьего? Компаньон был человек доверчивый – он предложил своей жене перевод одной третьего? Да вот и третий – жена компаньона! Переписали треть предприятия на нее, а потом – фиктивный развод. Вукич не был столь доверчив, да и не получившая еще гражданства Галя была неподходящей кандидатурой в хозяйки.
Не успели компаньоны порадоваться удачно провернутому делу, как оно перестало быть удачным. Жена компаньона немедленно превратила фиктивный развод в подлинный, вышла замуж за кого-то, кто не имеет значения в этой истории, и потребовала через суд еще половину доли бывшего мужа, поскольку эта доля была нажита ими совместно. Суд ее требование удовлетворил, и Вукич с компаньоном остались только с половиной гостиницы. К тому же бывшая жена компаньона начала требовать, чтобы ее бывшая половина и Вукич уступили ей и ее теперешнему мужу их доли. Суды, расходы и продажа гостиницы подкосили благосостояние Вукича, а Галя к тому времени уже родила сына. Жить среди дрязг и судов, с вечно мрачным субъектом в качестве мужа и с ограниченными средствами становилось все противнее. Галя начала весьма деятельно присматриваться к освободившемуся от брачных уз компаньону Вукича, снова полагаясь на свое бесспорное и никуда не ушедшее очарование. Однако Вукич, у которого в условиях краха дел проявились худшие черты характера, проявил их самым решительным образом, в виде скандалов, ругани и рукоприкладства. Галя собрала вещи, сына и уехала в Москву.
Она появилась у нас на работе один раз, по-прежнему очаровательная, рассказав эту историю. Еще, насколько я помню, она зашла к начальнику нашего отдела насчет работы, и была очень убедительна и очаровательна, однако места как нарочно не оказалось. И больше мы ее не видели, и как у нее дальше сложилось, я не знаю.
Больше и сказать нечего. Ну, может быть только, как водится все в тех же романах – послесловие, хоть в одну фразу. Вот такую: все имена в этой истории изменены, события подлинные, совпадения отнюдь не случайны.
32. Поговорим о странностях любви
История эта произошла на самом деле, только имена в ней были другие. Времена это были уже не советские, но еще почти советские. Этим, может быть, и объясняются некоторые особенности персонажей и их действий.
Итак, двадцатилетний студент Дима влюбился. Таня была однокурсница, умница и просто красавица – высокая, пышная, цветущая, как южная роза. Дима был не слишком красив, да и душой общества не слыл – все силы уходили у него на ученье, а учился он очень хорошо. И вот Таня обратила на него внимание, да не просто обратила – ради него она рассталась со старостой группы, любимцем всех девушек их потока! Дима бросился ковать железо, пока горячо – он съездил с Таней в Кишинев к ее родителям и сделал официальное предложение, он уговорил свою маму прописать Таню в их с мамой квартире в центре Москвы, он сам организовал все, что надо для свадьбы. И вот уже они женаты и вполне счастливы.
Но судьба всегда старается устроить человеку что-нибудь скверное, как говорится, чтобы служба медом не казалась. Началась перестройка, жить в Советском Союзе становилось все интереснее и интереснее, многим уже захотелось от этой интересности уехать куда-нибудь подальше, благо выезд стал практически свободным.
Захотелось куда-нибудь подальше и родственникам Тани, происхождение подсказывало – в Израиль. Димино происхождение по материнской линии также тому не препятствовало, и молодая семья, окончив курсы иврита, но не окончив института, вместе со старшими родственниками отправилась на родину предков. Димина мама не стала рисковать.
В Израиле все сложилось очень и очень неплохо. Таня сразу же поступила в университет в Хайфе, куда в то время поступали все студенты из Советского Союза – в Хайфе было в то время преподавание на русском. Однако по сравнению с университетом в Тель-Авиве это был не особенно престижный ВУЗ, и Дима отправился учиться в Тель-Авив. Слушать лекции на иврите было трудновато, но Дима старался – учиться он всегда умел и хотел. Вот только жить пришлось в общежитии, и к Тане и ее родителям в Хайфу он приезжал только по выходным. Материально дела шли неплохо, однако через несколько месяцев Таня начала подрабатывать понемногу в антикварном магазине. Работала она там все больше и больше, очень старалась, и когда однажды, примерно через год, Дима приехал на выходные к семье в Хайфу, он обнаружил, что его жена просит у него развода, потому что выходит замуж за хозяина этого магазина. Сей господин был старше нее лет на пятнадцать, зато уже десять лет жил в Израиле и прочно пустил корни. Диме ничего не оставалось, как согласиться, тем более, что ни на что другое при тяжелой учебе на иврите у него не хватало сил.
Потом он пережил много разных злоключений, учился, работал, женился заново, и до сих пор живет где-то в Тель-Авиве. Таня тоже, как говорили, вполне счастлива в своей новой семейной жизни. Но речь, в общем-то, не о том, как они живут теперь, а вот о чем.
До сих пор меня удивляет, как не только юный Дима, но и его умная, взрослая мама решили, что если Таня бросила другого парня ради Димы, то она никогда не бросит Диму ради кого-то еще? Неужели не было ясно, что любовь ее держалась на вполне материальной основе? Почему всем всегда кажется, что если кто-то ради нас делает гадости окружающим, то нам-то он точно ничего плохого не сделает? Иная девушка с удовольствием смотрит, как ее парень толкает окружающих, чтобы удобно усадить ее в автобусе, не думая о том, что скоро он и ее так же оттолкнет. Этого не может быть, он же ее любит! А молодой человек, которого выбрала себе в спутники блестящая красавица, ни на секунду не сомневается, что причина ее выбора – исключительно в его высоких достоинствах. А как же иначе, она же его любит!
Друзья, любовь – великая сила, но рядом с ней к людям приложены очень много разных сил – честолюбие, материальная выгода, дурной характер, да и мало ли что еще! Ради бога, учитывайте их все, даже когда речь идет о любви!
33. Природа с доставкой на дом
В шестьдесят третьем году, когда мы только что переехали, Новогиреево еще во многом было пригородом. В трехстах метрах была Новогиреевская улица, на которой стояли шестиэтажные послевоенные дома и ходил троллейбус. А наш дом стоял среди одноэтажных частных домиков, за деревянными заборами кудахтали куры, хозяйки, не смущаясь, лили помои под забор, а однажды я видела, как по асфальтированной улице напротив кино какой-то хозяин гнал хворостиной свинью гигантских размеров. Вся эта сельская идиллия происходила рядом с Измайловским парком, среди садов с яблонями и вишнями, буйно растущих тополей и огромных старых дубов.
По вечерам из наших окон на втором этаже были видны черные шевелящиеся кроны под черным небом. Впереди – ни огонька, жители маленьких домов напротив ложились рано. Осенью темнело рано, я заканчивала уроки под зеленой настольной лампой, тогда считалось, что зеленый абажур полезнее для глаз. Общий свет в комнате погашен, впереди в окне темно, за спиной тоже, родители где-то в кухне, ощущение такое, что я одна на свете. И вдруг из темноты вырывается что-то серое, мохнатое и со всего размаху бьется в стекло с тупым стуком.
Я вскочила со стула и, видимо, завопила, потому что родители тут же прибежали из кухни. А мохнатое нечто завозилось снаружи на жестяном подоконнике и посмотрело на нас желтыми кошачьими глазами. Что это – хулиганы котенка нам в окно бросили, что ли? Размер вроде похож, но почему он не свалился с подоконника? Нет, кажется, это не котенок. Мохнатое серое существо расправило короткие пушистые крылья, захлопало ими, застучало по подоконнику когтями и улетело. Это был совенок, самый настоящий, не в книжке, не игрушечный, а живой. Видимо, прилетел из Измайловского парка и полетел на свет из любопытства.
Тогда мне было семь лет, а много лет спустя, в другое время и в другом месте, когда моему сыну было восемь, у нас на лоджии села маленькая хищная птица – коричнево-бежевые пестрые крылья, светлая грудка и желтые хищные глаза, а сама птица не больше голубя, только сидит иначе, выпрямившись вертикально. Мы не знали, кто это, и детские книги о природе нам не помогли. Интернета тогда еще не было, решили сходить в зоологический музей, там работала приятельница сестры моего мужа.
Приятельница эта была кандидат биологических наук, и мы возлагали на нее большие надежды. Однако, как выяснилось, темой ее кандидатской диссертации были глисты, а в музее их оказалось великое множество, они плавали в заспиртованном виде в больших пробирках. Она водила нас от пробирки к пробирке и почти до закрытия увлеченно рассказывала нам о глистах. Когда же дело все-таки дошло до птиц, выяснилось, что в музейной витрине чучела такой птицы нет, а по описанию она определить не смогла. Потом мы все-таки нашли в одном определителе птиц то, что надо – это был сокол-пустельга. Как он попал в Чертаново – непонятно. Впрочем, в девяностые годы еще не такое попадалось.
Примерно в то же время у нас на балконе поселились голуби. По всему фасаду у людей уже было остекление на лоджиях, а я тянула с этим до последнего, то есть как раз до голубей. Они сложили свое неаккуратное гнездо из палочек прямо на плитке балконного пола возле балконной двери и снесли два яйца. Я хотела все это выбросить, но и сын, и муж заявили, что я убийца, и что обижать неродившихся птичьих детей они не позволят. В результате балкон оказался запакощен до безобразия, с мужа было взято честное благородное слово, что он собственноручно отмоет балкон после вылета птенцов, а мы с сыном каждый день через балконную дверь наблюдали развитие голубиных детей. Напоминало съемку скрытой камерой из передачи «В мире животных»: вот они мокрые вылупились на свет, вот распушились, подросли, вот первые перышки пробились, вот начали взлетать. Когда они полетели, от родителей их уже почти невозможно было отличить: и размер, и окраска – все то же, только глаза не золотистые, а сероватые, и голос – не воркование, а писк вроде мышиного. Когда первая пара детей улетела, и мой муж отмыл балкон, мы хотели уже звать мастера, чтобы стеклить. Но тут появилось еще одно гнездо и еще два яйца тех же голубей-родителей. Мы ждали еще месяца два, пока выросли и эти дети, но потом все-таки был приглашен мастер.
С тех пор уже двадцать лет мы живем без птиц. Были собаки, имеются цветы, но птиц больше нет, хотя остекление мы закрываем очень редко.