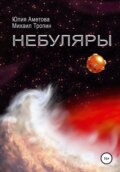Юлия Мидатовна Аметова
То, что помню
23. Друг детства
Вообще-то мои друзья – это люди. И вещи я помню только потому, что за ними стоят люди, когда-то ими владевшие. Но вот одна вещь – это самый настоящий мой друг детства. Я помню его столько, сколько саму себя, он моложе меня всего на полгода. Он – это холодильник. В моих первых воспоминаниях он стоит в коридоре общей квартиры (чтобы не урчал над ухом ночью в единственной комнате), он выше меня ростом, и надпись "Саратов" находится прямо напротив моих глаз. Я спрашивала у мамы, что это на нем за буквы, пыталась читать, но никак не могла понять, что за две палочки в кружочке под буквами (тогда серии оборудования почему-то обозначали римскими цифрами). Работал "Саратов" под напряжением 127 вольт, тогда все бытовые электросети были 127.
Потом мы переехали в новый дом, там было уже напряжение 220, и потребовался трансформатор – тяжеленный кубик, в руке не удержишь. Но менять холодильник мои родители не хотели – и денег маловато, и он же работал!
Еще несколько лет – решили купить все-таки новый холодильник, а "Саратов" вместе с трансформатором вывезли на дачу – он же хорошо работал! И все следующие сорок пять лет он пребывал в летней кухне на даче, где продолжал работать. Туда вывозили потом еще то ли два, то ли три холодильника, но их постигала странная судьба – у одного непонятно где замкнуло проводку, другой прогрызли мыши, у третьего отвалилась дверка морозилки и проржавели проволочные полочки. А "Саратов" только снаружи облез, и его пришлось подкрашивать белой нитроэмалью.
Я много раз грозилась его выбросить, но всегда останавливали даже не воспоминания детства, а то, что он работал и работает. Мои домашние предлагают мне сдать его в музей СССР или в музей Русский Дом, но я все не хочу. Во-первых, в музеях быта наверняка много таких холодильников, а во-вторых, он же работает!
Вот это мы с другом детства.

24. Она была Женей Бабич
Анна Ивановна преподавала у нас в школе биологию. Биологию во всех ее проявлениях – ботанику, зоологию, анатомию, а в десятом классе и генетику. Преподавала темпераментно и вдохновенно – ей самой было интересно, сколько ножек у паука, как делятся клетки гидры, какие кости в человеческом черепе. История развития земноводных превращалась у нее в нечто, соперничающее по увлекательности с Джеком Лондоном, инфузория-туфелька оказывалась интереснейшей частью природы и нашего собственного бытия. Анна Ивановна обожала то, о чем рассказывала. Рассказывая, она почти пела, взмахивала руками, будто дирижируя, встряхивала короткими кудрявыми волосами. Пылкость нрава распространялась и на нас. Отвечающий правильно, был "умницей" и "молодцом", и получить мог даже пятерку с плюсом размером в три клеточки дневника. Пренебрегающим биологией гражданам доставались прозвища "колышник", "единичник" и соответствующие, крупные единицы. Некоторые умельцы пытались переделать их в четверки.
В кабинете биологии у нее пышным цветом расцветали все растения, которые приносили для кабинета ученики. Наша соседка, любительница кактусов и довольно скупая дама, однажды отдала для кабинета свой кактус, который десять лет не желал у нее цвести. У Анны Ивановны он расцвел через месяц роскошной ярко-красной звездой, на которую посмотреть прибегали с других этажей.
На даче у Анны Ивановны, как я понимала по ее рассказам, хотя и не видела, тоже все росло самым пышным образом. Она рассказывала, что заставила георгины расцвести на месяц раньше, причем очень просто. Георгин родом из южных широт, поэтому медленно развивается при наших долгих июньских сумерках и светлых ночах. Анна Ивановна накрывала георгины темными тряпками в восемь вечера, каждый день, и они зацвели намного раньше.
Но главной ее любовью была генетика. В учебнике общей биологии 1972 года об этом была большая глава, но Анна Ивановна чуть ли не целую четверть рассказывала нам о Менделе и горохе, о мушках-дрозофиллах, белых, серых и пестрых мышатах, чье количество и цвет можно было вычислить по вполне доступным формулам. ДНК и РНК, кислоты и гены, все было нам рассказано. "И если вам кто-нибудь будет говорить, что растения можно воспитывать, и что приобретенные признаки может унаследовать второе поколение – не верьте этому никогда! Вот как наследуется! " – восклицала Анна Ивановна и писала очередную серию формул и распределений, по которым четко вычислялось количество дрозофилл с красными или серыми глазками.
Я еще тогда удивлялась – зачем эти научные вещи так подробно она рассказывала нам, – не только тем, кому было интересно, но и тем, кто не знал и не хотел знать генетики – ведь можно было бы и сжать эту тему. Но через двадцать лет, когда я читала "Белые одежды", я поняла, что она просто не могла по-другому. Трогательная и увлеченная наукой Женя Бабич будто списана была с Анны Ивановны. Наверное, их много было в сорок восьмом году, увлеченных и деятельных молодых биологов, кому испортили карьеру и жизнь идеологические глупости и интриги.
Скорее всего, Анна Ивановна тоже занималась в молодости генетикой, но когда генетические лаборатории разогнали, она не пала духом, не опустилась, а просто начала учить. Учить тому, что знала и умела. А еще – отношению к жизни. Когда я выйду на пенсию, обязательно буду в июне накрывать георгины в восемь вечера.
25. Он уважать себя заставил…
Во времена моей юности в последних классах школы преподавали в числе всего прочего и военное дело, В этот предмет входило все подряд – и как укрыться от атомного взрыва, и как копать окопы, и как устроен карабин, и даже стрелять учили, если было кому учить. Таким учителем был, как правило, бывший военный, носивший в просторечии название "военрук". Таким военруком у нас в школе много лет был пожилой ветеран войны, имевший прозвище "Седой" – ну, он и действительно был седым. Я его не знала вообще, только видела в коридоре изредка, но все, у кого он преподавал и у кого не преподавал, считали его замечательным человеком и очень любили. Авторитетный был человек! Разнимал драчливых мальчишек на переменах, давал советы, и все были с ним почтительны. Но как раз к тому времени, когда мы дошли до десятого, выпускного, класса и до военного дела, он ушел на пенсию, и вместо него появился майор Ковалев.
Как это часто бывает, нового преподавателя с ходу невзлюбили. И не за то, что особенно был плох, а за то, что не был прежним любимцем. Другой, и все тут!
Как нарочно, новым был не только он для нас, но и для него школа и ученики были делом совершенно новым и непонятным. Одно дело преподавать новичкам-солдатам, которые по долгу службы обязаны слушать и слушаться, а другое – иметь дело с сорока подростками, которые уже заранее тебя ненавидят.
Теперь-то я понимаю, что он боялся и стеснялся нас – нашего неприятия, ядовитых вопросов и хихиканья. Но тогда мы считали, что военрук просто глуп. Всё, что делал военрук, подвергалось осмеянию и осуждению. А как иначе, если человек путается в словах и говорит примерно следующее: "Мощность этого двигателя – один…одно… одна киловатта!"
К тому же программа военного дела была несколько расплывчатой, и майор рассказывал нам все, что знал и преподавал солдатам: двигатель внутреннего сгорания (он был танкистом), сборку и разборку карабина и даже военный устав. Кстати, про двигатель у него получалось понятно, да и карабин мы разбирали-собирали под его руководством довольно лихо, но это авторитета не прибавляло. Даже его грозный бас не вызывал у нас никакого уважения, хотя психологи говорят, что низкий тембр голоса придает авторитетности говорящему. А бас был весьма примечательный. Если майор вел урок у нас, а в соседнем классе шла литература или математика, то можно было не сомневаться – кто-нибудь непременно всунет голову в дверь и попросит: "Нельзя ли потише?". А однажды даже появилась староста соседнего класса и отрапортовала: "Лидия Сергеевна просила передать Ивану Павловичу, чтобы говорил потише, а то у нас по литературе кино про Пушкина не слышно!" Следуя традициям классической литературы, мы сочиняли на военрука эпиграммы на мотив "Жил-был Анри Четвертый" из "Гусарской баллады":
Устав он любит страшно
И важен как петух,
Когда рычит он в классе,
То слышно сразу в двух.
Так прошло у нас военное дело до третьей четверти, а потом было двадцать третье февраля. День советской армии тогда еще не был выходным, мы учились. Но венрук пришел на урок и сказал: "Сегодня праздник, поэтому я вам почитаю стихи." Мы удивились: как он, такой косноязычный, будет стихи читать? Для этого же надо быть культурным человеком, знатоком. А он начал читать "Василия Теркина". И начал с "Переправы".
Переправа, переправа,
Берег левый, берег правый…
И вроде ничего особенного он не делал, никакого "чтения с выражением" у него не было, просто выговаривал слова, будто показывал их нам: "Вот они, вот как это сказано, слушайте… ". Простой человеческой речью, обычным голосом, с нормальными человеческими интонациями, но от этого становилось страшно.
Люди теплые, живые,
Шли на дно, на дно, на дно…
Военрук больше не стеснялся и не боялся, он говорил не своими словами, а словами мудрых стихов, и становилось понятно многое – и о войне, и о "Василии Теркине". Закончил "Переправу", начал историю о том, как Теркин чинил часы у старика в деревне, потом еще что-то… Кажется, он знал "Теркина" наизусть полностью, от начала до конца. Он читал "Теркина" весь урок, сорок пять минут, и мы даже не сразу побежали на перемену, дослушали до конца очередную главу. И за все это время никто не хихикнул, не зашептался, мы слушали, почти не двигаясь с места.
И во время следующего урока мы старательно пытались разобрать маленький двигатель внутреннего сгорания (кажется, от мотоцикла), и почему-то сочинять эпиграммы больше не хотелось.
А еще через недели две, после учительского вечера в честь восьмого марта, наша классная руководительница с удивлением нам рассказала: "А вы знаете, Иван Павлович-то, оказывается, так стихи читает…". А мы с важностью ответили: " Мы это уже давно знаем!"
Вот и вся история.
26. Зависть
Была у нас в классе девочка Марина. Сколько ее помню, всегда она занималась каким-нибудь искусством. В подростковом возрасте даже отличники становятся несколько беспечными и неуправляемыми, а Марина даже тогда не просто склонность имела к поэзии, музыке и рисованию, а изо всех сил этому училась. Сначала, где-то классе в седьмом, она писала стихи. Да не эпиграммы на учителей и не поздравления с Новым годом для стенгазеты, а стихи страницы на две, целые поэмы – о Ленине, о революции, о любви к Родине. Кажется, даже в какой-то литературный кружок ходила. Стихи были такие серьезные, такие складные и такие длинные, что я даже не всегда могла их дочитать до конца – вроде бы мысль-то короткая (наподобие "революция – великое событие" или "люблю родные края"), а изложена раз пять подряд и каждый раз немного другими словами. Я не завидовала, хотя у меня самой более, чем на шесть строчек для стенгазеты, никогда мыслей не хватало.
Потом Марина начала рисовать. Листы из альбома с прекрасными женскими лицами, балеринами и цветами, заштрихованные "с тенями" в черно-белых тонах казались бесчисленными. Мы все смотрели, хвалили, одна девочка, впрочем, усомнилась – а правильно ли нарисованы ноги у балерины, очень уж они разной длины. "Правильно! – сказала Марина. – И вообще, что ты понимаешь? Ведь не ты учишься у художника, а я!" Та девочка обиделась, начался спор, переходящий на личности. Я попыталась отвлечь Марину, спросила – что за художник, можно ли увидеть где-нибудь и его картины. Однако Марина как-то замкнулась, и только после долгих расспросов выдала, что художник и сам еще учится в училище, но зато рисует ее саму очень красиво. Я и теперь не завидовала – в конце концов, учит ее всего лишь студент, а я по учебнику пластической анатомии и еще каким-то книжкам кое-чему научилась. Во всяком случае, половина школьного оформления – в вестибюле, на этажах, в классе – была моя.
Потом Марина ушла из нашей школы, поступила в училище и стала учиться на закройщика. Я не удивилась – у нее и мама, и тетя, и двоюродные сестры были закройщицами или швеями. В конце концов, с такими художественными дарованиями из нее определенно должен был вырасти знаменитый кутюрье, а я хотела быть проектировщиком.
Но вот через два года, когда мы были уже в десятом классе, она пришла к нам на новогодний вечер. Нарядная, веселая, рассказывала, какие нелепые фигуры у толстых заказчиц, которых она должна обшивать во время практики, и какой хороший у нее преподаватель пения – тоже студент, но очень талантливый и даже хочет на ней жениться. Стали выступать – кто с пением, кто с танцами, кто со стихами. Марина вышла и говорит: "Сейчас я спою вам песню, которую еще никому не исполняла! А вы со мной вместе хлопайте!" Ого, думаю, "никому не исполняла" – значит, сама же и сочинила ее? Вот это да! И она запела. Хорошо ли пела – не помню, но песню я запомнила с одного раза. Тогда были в моде антивоенные песни, такие неофициальные, веселые, но – за мир и против войны!
Я зарою свой меч и щит,
В землю свой меч и щит,
В землю свой меч и щит.
Я зарою свой меч и щит
Там, где ручей журчит.
Да, не хочу я воевать,
Войны не надо мне опять,
Я не желаю воевать!
Сама не заметила, как я начала хлопать в такт, и притоптывать и подпевать. Какая же песня! Все так просто, почти наивно, а так хорошо, так светло, так весело, что не оторваться! Не то, что прежние Маринины стихи! А там и другие куплеты пошли…
Я зарою стальной линкор
Возле высоких гор,
Возле высоких гор…
Допели мы уже все вместе, и вот тут я впервые позавидовала. Вот это да! Это же надо так написать! А я-то как начну что-то писать, так слова какие-то мутные идут, и так все нескладно получается, и нет той ясной простоты, которая всех сложностей стоит… Да, достигла Маринка, а я, наверное, никогда так не напишу…
И с тех пор я целых шесть лет, когда начинала что-то сочинять – стихи или рассказ – всегда вспоминала ту песню, и сравнивала с ней, и раз за разом завидовала. Ну как же у меня не выходит – ведь смогла же Марина, а я-то не могу. И ведь она такой же обыкновенный человек, как я, не Пушкин, не Маяковский, но у нее получилось, а у меня нет!
И горевала я таким образом, и переделывала раз за разом свои сочинения, пока не становились они простыми, но умными и выразительными – во всяком случае, насколько я могла их сделать простыми, умными и выразительными. А потом, уже работая в "Моспроекте", в тамошней библиотеке увидела сборник стихотворений современных американских авторов. Листаю, просматриваю, и вдруг, в самом конце вижу эту самую песню!
Да, не хочу я воевать,
Войны не надо мне опять,
Я не желаю воевать!
Так кто же ее все-таки написал? Ага, вот! Пит Сигер в переводе Сикорской. Я где стояла, там и села. Так вот кому я завидовала и до кого пыталась дотянуться столько лет! Прославленный автор-бард и не менее прославленная поэтесса-переводчица! До которых я даже не пыталась бы дотянуться, если бы знала, кто на самом деле автор песни! Вот необразованность!
А потом я пришла в себя и подумала, что не так все плохо и получилось, что я не знала, кому именно завидовала. А то бы даже не мечтала дотянуться и вообще опустила руки. А так – старалась, училась, и точно стала писать лучше. Хотя и не как Сигер или Сикорская. Не такое уж непродуктивное чувство – зависть.
Правильно говорят мудрые люди – если не хочешь взлететь, то и не подпрыгнешь.
27. Землетрясение
Я еще училась в институте, когда оно было. Собственно, в тот момент я даже не поняла, что это такое. Просто после спектакля мы с подругой выходили из театра Оперетты, и у меня ушла из-под ног земля. Будто провалилось подо мной что-то, я даже покачнулась. Потом все нормально стало. Ну, конечно, я решила, что это у меня голова от духоты в зале на секунду закружилась, хотя обычно со мной такого не бывало. Минуты через две – еще раз уходит асфальт подо мной вниз, и снова все спокойно. Ну ладно, думаю, не говорить же об этом вслух, трусихой изнеженной себя показывать.
А наутро по радио говорят – землетрясение в Бухаресте, какие-то запредельные баллы, а до Москвы дошло всего два балла. И время называют – как раз когда кончился спектакль. Отец как услышал – бросился одеваться, и в семь утра помчался на работу, потому что за полгода до этого организация, где он работал, сделала проект здания для ТЭЦ в Кагуле, почти на границе Молдавии и Румынии. И именно он делал расчеты конструкций на сейсмичность. Но с какими бы запасами ни делали расчеты, на такое землетрясение, как тогда, даже и не пытались считать. А до эпицентра землетрясения это здание оказалось совсем недалеко, и какие там были баллы, теперь даже подумать было страшно. С работы он позвонил в Кагул, там тоже все оказались на местах, несмотря на нерабочее время (разница во времени тогда была в три часа), и сказали, что несмотря ни на что, здание не только устояло, но даже и трещин не было. Видно все же хорошо построили!
А у нас в институте на первой паре все только и обменивались впечатлениями о том, какое было вечером землетрясение. Кто жил выше седьмого-восьмого этажа, рассказывали и о звенящей в шкафах посуде, и о ползающих по полкам чашках и тарелках. От пятого до восьмого этажа созерцали качающиеся люстры и предполагали какие-то военные бедствия – бесшумные, но от того еще более страшные.
И только моя подруга, с которой мы в театр ходили, как выяснилось, сразу поняла, в чем дело. Она-то выросла в Сочи, где землетрясения – нормальное явление природы. Когда у нее ушла из-под ног земля, она сразу подумала, что это землетрясение, но промолчала – в Москве же не бывает землетрясений, а трусихой себя лишний раз показывать не хотела. Ну, в общем, как и я – о-о-очень храбрая девушка…
28. Начерталка
Даже тот, кто в глаза не видал никакой начертательной геометрии, знает – нет ничего сложнее и страшнее начерталки. Где только ни обыгрывали страдания бедного студента перед экзаменом или зачетом по ней – и в литературе, и в кино, и в КВНе! Начерталка стала просто общим местом в описаниях ужасов студенческой жизни. Все должны ее бояться, зубрить и чертить ночи напролет, а любить этот ужас может только законченный извращенец. И вот я совершенно ответственно вам заявляю – все это ерунда. И вся наша институтская группа подтвердит даже сорок лет спустя: начерталка – это просто! Но для того, чтобы стало просто, нужен Борис Николаевич Фомичев – завкафедрой этой самой страшной науки, наш лектор и преподаватель нашей группы на "практике" (так назывались в то время семинары по предметам).
Сначала мы ему и не особенно поверили. Немолодой человек в неновом костюме, лысый и с брюшком, слегка пошмыгивая носом, вышел к нам на первой лекции и заявил: "Все, что я буду вам рассказывать, на самом деле очень просто. Так просто, что даже неловко говорить. Но я все-таки расскажу. " И начал рассказывать действительно очень простые вещи – построения на плоскости, построения трехмерные, построения теней. С каждой лекцией становилось все больше интересных вещей, но в них не было ничего сложного – все было абсолютно понятно, так что мне временами казалось, что действительно ничего не надо о них объяснять, ведь они абсолютно естественны, все в них получается логично, просто и как бы само собой. Действительно, даже неловко говорить в подробностях о таких простых вещах.
На «практике» повторялось то же самое – странноватого вида чертежи оказывались на поверку совсем простыми, главное рассмотреть в них элементарные закономерности, и все будет очень просто.
Временами я думала – ну, это только начало, дальше будет, наверное, что-то страшное, весь тот ужас, о котором приходилось слышать от старших. Но вот уже и сессия скоро, а все, что нам объясняет Фомичев, до сих пор начинается с его слов, что это до того просто, что даже неловко говорить. И мы спокойно всё чертим, и решаем.
И в сессию мы сдали начерталку так, как и мечтать не могли – причем сдавали не самому Фомичеву, а другим преподавателям – из двадцати пяти человек девятнадцать на пятерки. И ничего из себя не вымучивали, просто садились и всё понимали, и всё быстро решали. И не только мы – даже студенты-арабы, сыновья нефтяных и прочих шейхов, прилежанием в науках не отличающиеся, тоже сдавали рядом с нами начерталку вполне просто, а при упоминании Фомичева улыбались до ушей.
Фомичев умер год спустя после того, как отучил наш поток и нашу группу. Больше сорока лет уже нет человека на свете, а все вспоминается: "Это так просто, что даже неловко говорить"… Действительно всё будет просто, когда ты – мастер в своем деле. Мастер в начертательной геометрии, мастер в преподавании, мастер в любом деле. Надо только стать этим мастером.