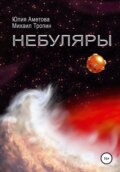Юлия Мидатовна Аметова
То, что помню
20. Патриотический курьёз
Если начать собирать московские курьёзы, мало не покажется. Граффити, к примеру, в центре попадаются довольно художественные. А иногда – идеологически выдержанные и даже патриотические. Вот что выросло в этом году на стене рядом с метро "Новослободская".

Всё есть – и хоккей, и флаг, и карта Крыма…Картинку эту давно закрасили. Сначала была реклама, потом вообще гладкая зеленая стена. Ну, пусть хоть здесь сохранится.
Часть 3. Где мы были, что мы делали
1. Давным-давно в Коктебеле
Теперь мало кто помнит, каков был Коктебель пятьдесят лет назад. Все там теперь по-другому, и название снова историческое, а тогда это было Планерское. Жили мы в пансионате для автомобилистов – так это тогда называлось. Вокруг было в полном смысле слова чистое поле, только на границе его виднелись невысокие горные гряды. Одна из них, если смотреть с шоссе, имела на торце характерную вертикальную ложбинку, за что получила у местных жителей прозвище «Мадам загорает». Среди низких гряд были две небольших горы. С первого взгляда казалось, что у их подножия рассыпаны круглые серые камни, но потом становилось ясно, что эти "камни" движутся, и что это – пасущиеся овцы.

Сам пансионат лежал на ровном месте, как на тарелке. Для автомобилей были мастерские и гаражи, а для людей – разное жилье. Были большие квадратные палатки, стоявшие рядами вдоль дорожек (отец говорил, что это военные, на десять солдат), были домики в специально посаженных садах, которые называли коттеджами (они на снимках на первом плане). Причем в садах действительно были и черешни, и яблони – совсем дачная жизнь.

Еще был новый пятиэтажный корпус (он стоял в ряду с двумя другими, но те принадлежали соседнему санаторию) и старый деревянный, куда нас и поселили. Корпус был, как я теперь понимаю, весьма старый и резьбой напоминал строение из фильма «Веселые ребята». Около него на фонарных столбах ночевали павлины. Они просыпались на рассвете и вопили дурными голосами. Вообще там было много живности. По газонам бродили павлины, между палаток жили голубые цапли.

Они были домашние – возможно, с подрезанными крыльями, и совершенно не боялись людей, только трогать себя не давали, что мне в семилетнем возрасте казалось жуткой несправедливостью – ну что, жалко им, что ли? А на пансионатской «главной площади» были клетки с другой живностью – обезьяной по имени Яшка,

вороной и белкой в колесе. Директор пансионата любил животных и держал их всех там круглый год. Фамилия его была, если не ошибаюсь, Досталь, отдыхающие острили: «Досталь все достал». Через пару лет его, как говорили, уволили – за какие-то бухгалтерские непорядки. А может, просто позавидовал ему кто-то, донес, уж очень хорошо шли дела в пансионате, даже мы приезжали два года подряд.
Ну и у самого моря, конечно, стояла слава и гордость Коктебеля – Карадаг, к которому мне было строго-настрого запрещено даже приближаться, рядом – заросшая лесом Святая гора и сбоку – голая острая скала Чертов Палец. Набережная была свободная и почти пустая. Были мы там в начале лета, и единственными признаками курортного места были торговцы с бусами из крашеных ракушек, палатка с воздушной кукурузой и другая – с блинчиками. Блинчики пеклись на глазах изумленной публики в специальной машине (как говорили, американской) – длинная лента теста выползала из подающего аппарата, резак нарезал ее квадратами, квадраты сваливались на горячую поверхность и там жарились. В море плавали морские велосипеды, тогда они были крупнее и тяжелее, чем теперь, но мы все же катались.

Однажды было событие – в Планерское пришел «Товарищ», учебный парусный корабль. Уже тогда он был не новый, но выглядел прямо-таки сказочно.

Многое, конечно, на снимки не попало – до сих пор об этом жалею. Если бы я была тогда взрослой, я, конечно, успела бы снять и мелких, сантиметров по пять в диаметре, крабов, которых местные мальчишки ловили и носили с моря в авоське. И птенцов скворца, которые жили под крышей домика-коттеджа (год спустя мы жили именно в домике). И Карадаг в тумане – он выглядел таким таинственным! Но с другой стороны, у меня все еще есть причина вернуться в Коктебель.
2. Вечер в Домском соборе
Был этот вечер в конце восьмидесятых годов в Риге, и это был не просто вечер, а литературное мероприятие – вечер памяти Яна Райниса в честь его 125-летия.
В Риге я с тех пор не была и город почти не помню. Лучше всего запомнила не европейские средневековые улочки и не милые кафе с крошечными пирожными, и даже не рыбный рынок, а незадолго до того открытый новый вантовый мост. Вот это красота – я до сих пор узнаю его на всех видах Риги.
Но, конечно, в Домском соборе не побывать было совершенно невозможно, а тут еще и подвернулись билеты на литературный вечер. Не все эту удачу оценили. Один попутчик из нашей туристической группы, правда, оживился, спросив, а будет ли на вечере сам виновник торжества, перепутав с Раймондом Паулсом. Но когда ему объяснили, что виновнику – 125, и он – автор никак не музыки, а стихов и пьес, попутчик утратил кураж.
Подруга, с которой я вместе приехала, идти на вечер тоже отказалась, но я все же нашла себе компанию. Эта дама из нашей группы была библиотекарем, работала в провинции и внешне характеризовалась одними "не" – немолодая, некрасивая, невысокая, неинтересная. Зато очень любящая литературу и свою библиотеку.
На вечере было много всего. Сначала официальное выступление какого-то чиновника – о значении поэзии Райниса для современных жителей Латвии. Потом, кажется, что-то вроде модного в то время в школах "литературного монтажа" из стихов Райниса.
А потом объявили выступление Вии Артмане. Мы все ее тогда хорошо знали – за несколько лет до того вышел фильм "Театр", Артмане появлялась в "Кинопанораме" и других передачах об искусстве. И вот вышла величавая светловолосая дама, встала на возвышении, которое было устроено вместо сцены – и как нарочно сдвинулась так, что с моего места ее стало совершенно не видно! Я завертелась, попыталась вытянуть шею, заглянуть как-нибудь сбоку… И тут она начала читать! Сначала по-латышски – я не понимала ни слова, но звук голоса был такой, что я забыла о том, что не вижу ее. Не речь, а музыка! И вот удивительно – в фильме, в записи этот голос как-то не казался чем-то особенным. А здесь… Чуть выше, чуть ниже, легкая смена темпа и высоты, гамма благороднейших интонаций – хорошо, что я не видела лица, а слушала только этот замечательный голос в великолепной акустике Домского собора! Она перешла на русский язык, и все повторилось снова – музыка звучного театрального голоса, не изуродованная ни малейшей фальшью. Потом я нашла в книге то, что она читала – монолог Спидолы из пьесы "Огонь и ночь":
Нет, Ригу я никому не отдам,
Она для тех, кто трудился в ней сам…
Ну, конечно, Вия Артмане была не менее опытной и умной актрисой, чем ее героиня в "Театре". Наверняка знала, где надо встать и как руководить своим голосом, чтобы произвести на слушателя наилучшее впечатление. Но каков был эффект! Потом она читала еще какие-то стихотворения Райниса на русском и на латышском, мы долго хлопали и не отпускали ее…
А потом выступал Евтушенко, читал свои стихи. Он, собственно, был, как теперь говорят, "приглашенной звездой" этого вечера, на него возлагались все надежды. Сначала он прочел что-то непримечательное, похоже, специально к юбилею сочиненное, потом "Идут белые снеги" – хорошо прочитал, будто пропел. А потом был, как мне показалось, отрывок из поэмы – о внешне непримечательной, немолодой и неинтересной, но очень хорошей и доброй героине, которую другие персонажи поэмы (и сам автор вместе с ними) называли "теть Марусь". Стихи были трогательные, умные, каждому становилось ясно, что под видом неинтересным, некрасивым и будничным может скрываться прекраснейшая душа, в высшей мере заслуживающая любви и уважения.
Ну а после всего Евтушенко давал автографы, его со всех сторон окружили люди, он со всеми разговаривал, улыбался, а особенно красивым молодым девушкам писал что-то в стихах. Я автографов никогда не просила принципиально – если известный человек захочет что-то мне написать или случайно мне в руки попадет написанная знаменитой рукой записка, тогда другое дело. А вот моя попутчица-библиотекарша взялась за дело решительно. "Возьму автограф хоть на билете! В библиотеке положу на видном месте, пусть все смотрят!" – и она рванулась в бой. Ввинтилась в толпу, нырнула, протиснулась – и вот она уже у самого локтя Евтушенко (он высокий, а она совсем невелика). И застряла. И так, и эдак подсовывает ему свой билет, даже ручку вытащила, а он никак ее не замечает! Она и окликает, и говорит что-то (мне издали плохо было слышно, что именно), а он ни в какую! Ну, в общем-то было неудивительно, как раз в этот момент его осаждали с другой стороны столь прекрасные светловолосые валькирии, что отвлечься от них ни один мужчина не смог бы. Ну что делать – я решила помочь, нырнула пару раз под чьи-то локти, продвинулась – и вот уже я за спиной моей попутчицы. А она совсем уже вошла в раж, окликает его, чуть не в ухо кричит: "Евгений Александрович, Евгений Александрович, подпишите мне, пожалуйста, мне для библиотеки надо!". Но, видно, совсем ему не хотелось отвлекаться от прекрасных рижских валькирий, он повернулся к библиотекарше и проворчал: "Да успокойтесь вы!". Она отодвинулась, ее тут же оттеснили, и меня тоже. Придя в себя, она снова бросилась на штурм, и минут через пять вернулась с победой – с кривой подписью синей шариковой ручкой поперек глянцевого билета.
Моя попутчица радовалась, а мне было как-то досадно. Понятно, конечно, что с милыми девушками поэту приятнее общаться, чем с немолодой и надоедливой особой, да и терпение у него не бесконечно. Но ведь это же о такой немолодой, некрасивой и незаметной "теть Марусь" он написал стихи, ведь именно к таким несовершенным людям вызвал сочувствие своими словами! А вот встретив "теть Марусь" лицом к лицу, он не узнал ее. Или узнал, но не захотел с ней связываться. Сочувствовать "теть Марусь" на расстоянии было легче. Как написал Кайсын Кулиев, "легко любить все человечество – соседа полюбить сумей".
3. Путешествие с приключением
Год был две тысячи второй, после чудес перестройки и дефолта мы только начали входить во вкус новой жизни. На работе не было ни работы, ни зарплаты, зато можно было наловить халтуры, частных заказов. Так вот я заработала на поездку в Прагу. Поехали с сыном, муж объявил, что в Праге был, она ему не нравится, и он лучше останется дома с собакой. До сих пор я уверена, что в основе этого "не нравится" был "режим экономии", но уговорить тогда его так и не удалось. Поехали, конечно, именно в том самом "режиме экономии", путевку взяли такую, чтобы не лететь самолетом, а ехать поездом.
На вокзале получили от сопровождающей в последний момент билеты и документы, сели в купе. Для начала оказалось, что купейные вагоны в поезде не российские, на четыре места в каждом купе, по два с каждой стороны, а европейские (кажется, делались такие в ГДР). В купе было по три места, причем все три с одной стороны, на противоположной стороне был, кажется, столик и одно откидное место, чтобы за столиком сидеть. Три лежачих места были удивительно неудобны для дневной поездки – если они были разложены, сидеть нельзя было ни на одном, только лежать или наклонять голову куда-нибудь на сторону, слишком низко. Ну, понятно, в нецивилизованной Росссии люди сутками живут в поезде, и сидят, и лежат, а в местах цивилизованных – либо едут несколько часов, либо летают.
К этому неудобству еще добавилось то, что мы с сыном попали в разные купе, я в одном на нижней полке, он – в соседнем, на третьей, самой верхней. Ну, думаю, человек он уже взрослый, пятнадцать лет, сам разберется, как ехать и что в дороге делать. Единственное, что я определенно от него потребовала – чтобы документы и деньги разложил по карманам жилетки, и не снимал ее вообще, да еще – чтобы не устраивал в купе беспорядок, и заложил свою дорожную сумку в верхнее отделение, над коридором, и мою тоже. Внизу я оставила только хозяйственную сумку с припасами в дорогу – булками и "Дошираком", – а сумочку с документами засунула под подушку. Мои соседи – молодая пара интеллигентного вида – тоже заложили вещи наверх, а соседи сына – пара совсем молодая, едущая в свадебное путешествие, наоборот, все оставили внизу. "Ну что вы, зачем убирать, – сказала новобрачная, – я всю жизнь с родителями переезжаю, у меня папа военный, я знаю, как надо, чтобы удобно было." Ну ладно, дело хозяйское, думаю.
Отстояли в Бресте четыре часа, переставили нас на другие колеса, и вот мы уже в Европе. Вообще-то разницы никакой мы не ощутили – все те же деревья, увешанные омелой, вдоль дороги, те же тыквенные грядки в полосе отчуждения, да и деревни в Польше немногим тогда отличались от белорусских. Таможенники в черных мундирах все как один хорошо говорили на русском и предупреждали (хотя мы и так знали), что выходить на станциях нам нельзя. До сих пор не знаю, всегда ли так делается, или они боялись, что мы, голодные и грязные, побежим милостыньку просить на польских и чешских вокзалах? Ну, мы особенно не обижались. Последних таможенников проводили уже в двенадцать ночи, проводник – невысокий худой молодой человек лет тридцати – сказал, что в Праге будем в семь утра по местному времени, мы перевели часы и легли спать. Перед сном еще немного поспорили – запирать ли дверь купе. В общем-то, незачем, ну кто нам что сделает, если дверь будет открыта – это же не Россия, а тихая, спокойная, добропорядочная Европа. Вроде даже и неловко свою необразованность и трусость проявлять. Но в конце концов решили все-таки запереть – просто чтобы никто не ошибся дверью.
Проснулась я часа в два ночи. Поезд стоял, мои соседи тихо сопели на своих полках, в окно был виден темный вокзал с крупной светящейся надписью: OSTRAVA. Название города знакомое – вроде бы, Острава – это Моравия. Кажется, должны быть горы, но ни одной горы видно не было. И вообще ничего не было толком видно, только пустой перрон. Двадцать минут прошло, полчаса, почти уже час. Сколько же поезд должен стоять в Остраве? По расписанию получалось минут двадцать, не больше. Стало быть, мы опаздываем. А если поезд опоздает в Прагу, будет ли тамошний сопровождающий с машиной нас ждать? Сотовые телефоны тогда еще не у всех были. А если не будет, как объяснить таксисту, куда ехать? Ну, адрес гостиницы у меня есть, можно будет показать бумажку. А если он нас, оккупантов, не захочет везти? Как купить карту города, чтобы добраться? А где сумка с документами? Ага, вот она, я на ней лежу… Пока я размышляла на все эти беспокойные темы, спать вообще расхотелось, зато поезд, наконец, тронулся.
Не успела я внушить себе, что в любом случае от меня ничего не зависит, и заснуть, как в замке двери зашевелился ключ, и дверь открылась. Интересно, думаю, как это закрытую изнутри дверь открыли? Впрочем, у проводников всегда есть такой специальный ключ, который открывает все купе. Но вошел вовсе не проводник, а рослый, крупный человек в черной куртке на поясе. Это еще кто? Снова таможенник? Вроде куртка похожа. Но почему он не зажигает свет, а садится на корточки и начинает возиться руками в моей хозяйственной сумке? Лапша сушеная шуршит, человек ворчит что-то… Да что это за безобразие, они что, думают, что если мы из тоталитарной России, так в наших вещах можно рыться без спросу? "Вы что тут делаете? – спрашиваю. Он бурчит что-то, языка не понимаю, но интонация ругательная. "Вы кто такой?" Он опять рычит что-то, я от возмущения во весь голос ору: "Выйдите отсюда и оставьте вещи!". Мои соседи проснулись. "Что случилось, кто это?" Он вскакивает на ноги, открывает дверь, а в коридоре светло и стоят еще трое таких же здоровенных субъектов в черных кожаных куртках. "Ага, думаю, это точно не таможенники, у тех куртки саржевые." Но если не таможенники, то кто? А из-за их спин высовывается проводник и говорит: "Это ничего, ничего, вы сидите тихо, они сейчас уйдут…" Задвигают дверь, снова становится темно, и тут до меня доходит – это грабители, самые настоящие, а проводник сам отдал им служебный ключ! И они намерены тут всех обобрать! Но ведь сын-то в соседнем купе, ему пятнадцать, и он насмотрелся приключенческих фильмов, как бы в драку не полез! Ведь любой из этих громил его одной левой убьет! Надо предупредить!
Открываю дверь, грабитель кричит и с грохотом задвигает снова. Мой сосед сверху шепчет: "Вы куда, они же грабители! Заприте дверь!" Я уже в злости, рычу на него: "Запритесь, когда я выйду! А я к сыну!". Его жена укоризненно сверху: "Ну что ты, в самом деле…" Снова открываю дверь, выскакиваю в коридор, грабитель на меня опять что-то рычит, я только отмахиваюсь – некогда разговаривать! Сосед захлопывает за мной дверь, а в соседнем купе дверь уже открыта. Внизу сидит один из грабителей в черной куртке и роется в вещах молодоженов, а мой потомок выглядывает сверху. "Мам, это что тут?" Я ору: "Запритесь и не открывайте никому!". Субъект в черном вылетает из купе и бежит в конец вагона.
А там еще один его приятель схватился с пассажиром из первого купе – тот только что проснулся, в одних красно-черных полосатых трусах, и кричит: "Ты, подлец, деньги бери, а документы отдай! Отдай, говорю, документы! " Вижу, они друг у друга сумочку дамскую дергают, вырвать из рук пытаются. Наконец, грабитель сунул руку внутрь, вытащил сотовый и кошелек, отпустил сумку – и бегом в тамбур. А там их уже трое, и все ростом под метр девяносто. Парень в полосатых трусах прыгнул в свое купе и с грохотом задвинул дверь.
А в довершение всего из последнего купе высунулась аккуратнейшая, хотя и полусонная, дамочка в халате и с сумочкой в руке, и спросила на весь вагон: " Ой, это уже Прага? Мы приехали?" Никто ей не ответил, потому что грабители убрались в другой тамбур, хлопнув в очередной раз дверью, а проводник исчез.
Тут уже мне стало страшно, я подергала свою дверь – оказалась не заперта, сосед все-таки не стал особо паниковать. Кинулась под подушку, сумка на месте, документы целы, все в порядке. Заперла дверь и сразу же заснула.
Наутро предатель-проводник не показывался, все сами проснулись часов в шесть, и тут же началось обсуждение. Как грабили, у кого что пропало, и можно ли на вокзале в Праге написать заявление на грабителей из Остравы. Отдельно обсуждалось, кому жаловаться на проводника, который явно был с грабителями в доле, но пришли к выводу, что доказать его вину будет трудно. Выяснилось, что всерьез ограбили только молодоженов, которые хоть и знали, как надо ездить, но умудрились в одну и ту же сумку с вещами положить видеокамеру и все деньги, да еще выставили ее на проходе. Грабитель успел их обобрать как раз перед тем, как я всунулась и крикнула: " Запритесь!". В моей сумке была только лапша, а жена парня в красных трусах (это ее сумочку он отнял у грабителя) пострадала только на двести долларов и сотовый телефон. В остальные купе грабители не полезли, слишком много получилось шума, могло быть и сопротивление, а даже самый тупой грабитель понимает, что обчищенные сумки – это одно, а членовредительство – это уже другое. В нашем случае, как, должно быть, и во всех других, у них и был расчет на относительно небольшой убыток. Как мы ни были злы, но увидев, что поезд прибыл в Прагу вовремя (как это удалось машинистам, не знаю), сопровождающий с машиной нас уже ждет, а погода прекрасная, тратить драгоценное время отдыха на заявление мы не стали.
На обратном пути мы ехали в другом вагоне, пожилая проводница в открытую предупредила, что могут грабить, и посоветовала изнутри не только запираться, а еще закладывать дверную ручку чем-нибудь. В нашем купе заложили отвинченной от лесенки металлической планкой, а в соседнем – пляжной туфлей на толстой резиновой подошве. Впрочем, грабителей больше мы не встречали нигде – ни в Европе, ни в России. Такое не часто бывает. Но и сказочных мест, где все идеально, спокойно и добропорядочно, тоже на свете немного.