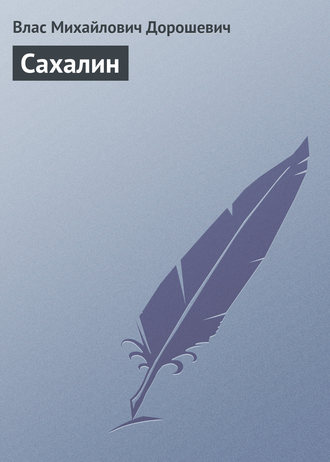
Влас Дорошевич
Сахалин
Преступники и преступления
I
– Чувствуют ли они раскаяние?
Все лица, близко соприкасающиеся с каторгой, к которым я обращался с этим вопросом, отвечали – кто со злобой, кто с искренним сожалением – всегда одно и то же:
– Нет!
– За все время, пока я здесь, изо всех виденных мною преступников – а я их видел тысячи – я встретил одного, который действительно чувствовал раскаяние в совершенном, желание отстрадать содеянный грех. Да и тот вряд ли был преступником, – говорил мне заведующий медицинской частью доктор Поддубский.
Это был старик, сосланный за холерные беспорядки. Доктор записал его при освидетельствовании «слабосильным».
– Стой, дядя! – остановил его старик. – Ты этого не делай! А когда ж я свой грех-то отработаю?
– Да в чем твой грех-то?
– Доктора мы каменьями убили. Каменьями швыряли. И я камень бросил.
– Да ты попал ли?
– Этого уж не знаю, не видел, куда камень упал. А только все-таки бросил.
Сказать, однако, чтоб раскаяния они не чувствовали, – рискованно.
Они его не выражают. Это да.
Каторжник, как и многие страдающие люди, прежде всего горд. Всякое выражение раскаяния, сожаления о случившемся он считал бы слабостью, которой не простил бы потом себе, которой, главное, никогда не простила бы ему каторга.
А разве и мы не считаемся со взглядами и мнениями того общества, среди которого приходится жить?
Юноша Негель,[44] совершивший гнусное преступление, убийца-зверь, которого мне рекомендовали как самого отчаянного негодяя во всей каторге, – этот убийца рыдал, плакал как дитя, рассказывая мне, один на один, что его довело до преступления. И мне пришлось утешать его как ребенка, подавать ему воду, гладить по голове, называть ласковыми именами.
Помню изумленное лицо одного из господ служащих, случайно вошедшего на эту сцену.
Помню, как он растерялся.
– Что вы сделали нашему Негелю? – спрашивал он меня потом с изумлением.
Надо было посмотреть на лицо Негеля в те несколько секунд, которые пробыл в комнате господин служащий.
Как он глотал слезы, какие делал усилия, чтобы подавить рыдания.
– Вы никому не говорите об этом! – просил он меня на прощание, – а то в каторге узнают, смеяться будут, с..!
Вот часто причина этого «холодного, спокойного отношения» к преступлению.
Не всегда, где нет трагических жестов, – там нет и трагедии.
Темна душа преступника, и нелегко заглянуть – что там таится на дне?
В квартире одного интеллигентного убийцы я обратил внимание на большую картину работы хозяина, висевшую на самом видном месте.
Картина изображала мрачный северный пейзаж. Хмурые повисшие ели. Посредине – три камня, навороченные друг на друга.
– Что это за мрачный вид? – спросил я.
– Это пейзаж, который врезался мне в память! На этом месте случилось одно трагическое происшествие.
Это был вид того самого места, где хозяин дома, вместе с товарищем убили и разрубили на части свою жертву.
Что это? Рисовка? Или болезненное желание – вечно, каждую минуту, без конца, бередить ноющую душевную рану, не давать ей зажить?
Рисовка это или казнь, выдуманная для себя преступником, – эта всегда на виду висящая картина?
Не знаю, как раскаяние, но ужас, отчаяние от совершенного преступления живут в душе преступника.
Не верьте даже им самим, чтобы они относились к преступлению спокойно.
Василий Васильевич,[45] убивший в бегах своего товарища и питавшийся его мясом, слывет одним из наиболее спокойных и равнодушных.
– Вы послушайте только, как он рассказывает! Как он вырезал куски мяса и варил из них суп с молодой крапивкой, которую клал «для вкуса».
– Если бы только моря я не боялся! – с отчаянием восклицал он, рассказывая и мне про «крапивку» и суп из человеческого мяса, – если б моря не боялся, убег бы на край света! Моря боюсь… Ушел бы, чтобы и не видел меня никто! От себя ушел бы!
И какой ужас перед совершенным звучал в тоне этого страшного человека.
Недаром после преступления он сходил с ума. Не верьте веселым рассказам о преступлении. Часто это только неумение спрашивать. Да, конечно, если вы спросите так, с наскока:
– А ну-ка, братец, расскажи, как ты убил?
Тогда вы услышите рассказ, полный и похвальбы, и рисовки.
О Полуляхове,[46] убийце семьи Арцимовичей в Луганске, мне говорили, что он необыкновенно охотно и необыкновенно нагло рассказывает о своем преступлении.
С издевательством над жертвами, говорил о них всегда во множественном числе:
– Господин Арцимович спали вот так-с, а госпожа Арцимович – вот так. Я сначала их убил, а потом пошел госпожу Арцимович с младенцем ихним убивать. «Сударыня!» – говорю… и т. д.
Я беседовал с Полуляховым два дня – правда, с отдыхом в несколько суток: нервы бы не выдержали, так тяжел этот человек.
Я спрашивал его внимательно о всей его жизни, терпеливо выслушивал все мельчайшие подробности его детства и юности, интересные и дорогие только ему, я входил в каждую мелочь его жизни.
И когда после этого он дошел в рассказе до своего зверского преступления, – в его повествовании не было ни «господина», ни этого иронического множественного числа, ни бахвальства, ни рисовки.
Я никогда не забуду этого вечера.
Мы сидели вдвоем, близко наклонившись друг к другу; он говорил тихо, словно боясь, что кто-то еще слушает эту страшную повесть, – и ему вовсе не легко давался этот рассказ.
О некоторых подробностях даже ему тяжело было говорить.
О них он всегда умалчивает в своих веселых рассказах о преступлении!
Правда, и подробности же!
Я чувствовал, что все плывет у меня в глазах. Что еще момент – и я упаду в обморок.
И только нежелание показать свою слабость перед каторжником удерживало меня крикнуть:
– Воды!
Ведь мне нужно было мнение каторги: я явился ее изучать.
Помню, как я, после одной из таких подробностей, откинулся, почти упал, на спинку кресла, как у меня перехватило дыхание, – и вздох, вероятно, похожий скорее на стон, невольно вырвался из груди.
– Вот видите, барин, – и вам даже слушать нехорошо! – сказал Полуляхов.
Я взглянул на него: на нем самом лица не было.
Бывают рассказы циничные по своей откровенности, – спокойных рассказов нет.
Нет!
Я много слышал исповедей, не рассказов, а именно исповедей, когда преступники рассказывали мне все, часто с краской на лице отвечали на самые щекотливые вопросы, которые и задавать-то было неловко; мне много пришлось слышать этих исповедей с глазу на глаз, при затворенных дверях, часто говорившихся вполголоса, чтобы кто не услыхал «тайны каторги», которые мне рассказывали.
Преступники всегда старались казаться спокойными. Но только старались.
Не надо было быть особенным физиономистом, чтобы видеть, как их волнуют эти воспоминания, как они стараются подавить, скрыть это волнение.
Обычная поза преступника, когда он рассказывает подробности преступления, такая.
Он сидит к вам боком, смотрит в сторону, куда-нибудь в угол, бессознательно вертит что-нибудь в руках. На его губах играет деланная, принужденная улыбка, глаза горят нехорошим, лихорадочным каким-то огнем.
У многих часто меняется цвет лица, подергиваются мускулы щек, меняется и сдавленно звучит голос.
Почти всякий после 10 минут этого рассказа кажется усталым, утомленным, часто разбитым.
А я слыхал рассказы и видал преступников, пред которыми и Полуляхов только еще «начинающий». Мне Лесников рассказывал, как он вырезал две семьи: из 5 и 6 человек. Прохоров-Мыльников рассказывал, как он резал детей. Мне рассказывали, как разрывали могилы. Передавали свои впечатления люди, приговоренные к повешению, стоявшие на западне и услышавшие помилование только тогда, когда около лица болталась петля.
Разговоры «между собой» о своих преступлениях – обычное занятие каторги.
– Просто ужас! – говорили мне интеллигентные люди, бывавшие в экспедициях для исследования острова. – Лежишь вечером и прислушиваешься, о чем говорят между собой каторжные, мои носильщики и проводники. Только и слышишь: «Я так-то убил, а я так-то»…
Но о чем же в каторге больше и говорить? В настоящем ничего, речь идет о прошлом.
Когда появляется новый арестант, его никто не спросит:
– За что?
Это не принято. Всякий соблюдает свое достоинство. Никто не хочет показать слабости – любопытства.
Разговор об «этом» заводится несколько дней спустя, исподволь: спрашивающий сначала сам расскажет «кстати, к случаю», за что пришел, и в разговоре будто бы нехотя, даже нечаянно спросит:
– А ты за что?
Непременно таким тоном, в котором звучит: «Хочешь, мол, говори, а не хочешь – не больно интересно».
И тогда рассказ вновь прибывшего выслушивается с большим вниманием.
Надо же ведь знать, что за человек пришел в семью, на что он способен, может ли быть хорошим товарищем на случай бегов или преступления.
С бахвальством, с рисовкой, с гордостью рассказывают о своих преступлениях только иваны.
Мне вспоминается, например, Школкин,[47] преступник-рецидивист, изо всех сил старающийся прослыть за ивана.
Он убил, уже на Сахалине, денщика капельмейстера.
Убил нагло, зверски, среди белого дня.
Узнав о том, что у капельмейстера «должны быть деньги», он явился к нему на квартиру в его отсутствие, оглушил ударом кистеня денщика, стащил его в подполье и начал резать.
Тонкий, сильно сточенный кухонный нож гнулся и не входил в тело.
Тогда Школкин перевернул свою жертву лицом вниз, приподнял грубую, солдатского холста, рубаху, прорезал небольшую ранку и тихо, медленно ввел нож, заколотив его по рукоять.
В это время к капельмейстеру вошел еще кто-то, услышал возню в подполье, догадался, что дело неладно, выбежал, поднял крик.
Как раз в это время проезжал мимо губернатор, он и отдал приказ об аресте убийцы.
Школкин очень гордится своим преступлением, тем, что его «арестовал сам губернатор», тем, что его, по мнению всей каторги, «ожидала веревка», – гордится своим спокойствием.
Я несколько раз наводил разговор с ним на эту тему, будто бы забывая то ту, то другую подробность, и каждый раз, охотно рассказывая о преступлении, Школкин добавлял одну и ту же неизменную фразу:
– Я вышел на крыльцо с улыбкою.
Эта улыбка, с которой он вышел на крыльцо к толпе народа из подполья, где он только что дорезал человека, – его гордость.
Часто, однако, за этим бахвальством кроется нечто другое.
Часто это только желание заглушить душевные муки, желание нагнать на себя «куражу».
Желание смехом подавить страх.
Так дети, по вечерам боящиеся оставаться в темной комнате, днем хвалятся своей храбростью, смеются над всеми привидениями в мире:
– Пусть придут, пусть!
– Работал я в сапожной мастерской, – рассказывал мне один интеллигентный преступник, убийца, – вместе с нами работал некто Смирнов – рецидивист, совершивший много преступлений, молодой человек. Ужас, бывало, берет слушать его разговоры. Не было у него и темы другой, кроме рассказов о своих убийствах. Он вспоминал о них с удовольствием, со смехом. Как он издевался над памятью своих жертв. В каком комическом виде представлял их предсмертные муки, мольбы, с каким цинизмом высмеивал их слова, их просьбы о пощаде. Просто, бывало, иногда работа падает из рук!
Ужас меня брал при одном звуке голоса этого человека. А тут еще мое место на нарах как раз рядом с ним.
Он спал с краю, я около. Просыпаюсь как-то от сильного толчка, гляжу – лампа была как раз около наших мест, – стоит Смирнов около нар. Лицо белое, словно мелом вымазано, глаза страшные, широко раскрытые. Ужас на лице написан.
«Не подходи… – говорит, – не подходи… убью… не подходи…» Дрожит весь, голос такой – жуть берет слушать. Испугался я. «Смирнов, – говорю, – что с тобой? С кем ты разговариваешь?» – «Вон он, – говорит, – вон он… весь в крови… из горла-то, из горла как кровь хлещет… идет, идет… сюда идет… не подходи!..» Ухватился за меня, держится, руки холодные как лед. И у него зубы стучат, и меня лихорадка бьет. «Господь с тобой! Кого ты видишь?» – «Он, он, последний мой», – шепчет. «Да успокойся ты, дай я тебе воды принесу!» – «Нет, нет, не уходи… не уходи… А то он… он…» Так и пришлось вместе с ним до кадушки с водой идти. Он за меня держится, кругом дико озирается, боится на шаг отстать. Отпоил я его водой, – пришел в себя. Просил пустить его на мое место – с краю лежать боялся, – я лег к нему поближе. «Страшно мне», – говорит. «Да зачем же ты днем-то над ними смеешься?» – спрашиваю. «Потому и смеюсь, что страшно. Ходят они ко мне по ночам. Вот днем-то и стараюсь храбрости набраться и куражусь».
Бахвальство преступлением – это часто только крик, отчаянный вопль, которым хотят заглушить голос совести.
Душа преступника – это море, вряд ли когда бывает штиль.
Здесь когда-то разыгрывался страшный шторм. Теперь колышется зыбь.
А очень крупную зыбь так легко с первого взгляда принять за полный штиль.
Преступление оставляет неизгладимый след, глубокую борозду в душе.
Мне говорил один каторжник, жалуясь на то, что их заперли в кандальной за отказ от работ и две недели держали взаперти:[48]
– Что они? Убить нас, что ли, хотят? Задавить, как насекомую какую? Да нешто человека возможно убить? Я вон как уж, кажется, убил! Сам слышал, как кости затрещали, когда топором по затылку хватил. «Нет, – думаю, – отдышится». Взял да еще голову отрубил прочь. Откатилась голова… А он все живет. Тут вот со мной и живет. Ни шагу не отходит. Меня в сушилку[49] посадят. Думают, одного, а он тут со мной, мой-то! «Не убивал бы, мол, меня, не сидел бы теперь во тьме кромешной». На «кобылу» ложусь, а он тут рядом с палачом стоит, зубы скалит: «Не убивал бы, на „кобыле“ не лежал бы». Везде со мной как тень идет. Живет, и покуда я жив, жив будет, в могилу за мной, под безыменный крест пойдет. Человека совсем убить невозможно!
II
Мне остается сказать еще об одном сорте бахвальства, очень распространенном, с типичным представителем этого сорта бахвальства я вас сейчас познакомлю.
Захожу в тюрьму.
Вижу, арестанты собрались кучкой. В середине какой-то краснобай о чем-то горячо ораторствует.
Увидал меня – и перестал.
– Помешал вам, что ли? Так уйду.
– Зачем, барин? Кака така помеха… Валяй дальше! Барин тоже послухает… Больно интересно.
Рассказчик повествовал о том, как он бежал из тюрьмы. Слегка, «для приличия» пококетничав, рассказчик продолжал:
– Ладно!.. Ударили, говорю я, тревогу. Весь караул, всю роту собрали за мной: этакий рестант бежал! Бегут, а я от них.
Они бегут, а я от них. Штыки сверкали, пули свистали… Так над головой и свищут. Мало-мало погодя перестали. Все пули расстреляли. Ни одна не попала!..
– С бегу стреляли-то? – интересуется молодой паренек, из дисциплинарных.
– С бегу.
– Если бы приостановился кто. Стрелять способнее.
– Тебя, дурака, не спросили, жалко! Фельдфебель! – обрывает его кто-то из слушателей, – валяй дальше!
– Стал я, братцы мои, приставать. Вижу, сил моих нет. Вот-вот, думаю, с ног свалюсь, возьмут. Да не такой человек Ефим Трофимов, чтобы живым в руки даться! Слышу, настигают… Все ближе топот. Оглянулся – глядеть страшно. Штыки сверкают. Сила! А по дороге-то, впереди так, – дерево… Высоченное дерево, сажен двадцать… Собрал я силенки – да к нему. Раз, раз – да и взобрался… Вскарабкался на сук да и сижу. Подбегают, запыхались, так с них и льет, еле дышат. Замучил я их, замытарил. «Слезай, – кричат, – чертов сын, честью!» – «Вот, – говорю, – ладно, беспременно слезу, когда рак свистнет. Подождите маленько!..» Им бы пулей меня достать – на что легче, да пули-то все пристреляли. А лезть-то боятся, потому топор при мне, – мне сверху-то по башке способно. Слышу, говор идет меж их: «Полезай ты сперва!» – «Нет, ты!» – «Нет, ты…» А я себе сижу, ни гу-гу, отдыхиваюсь. Только, братцы, постояли они так-то, решили дерево свалить, чтобы меня достать. Зачали дерево под корень штыками. Дрожит все дерево, трясется. Они копают, а я все выше взбираюсь. Они копают, а я выше. Взобрался на самую маковку, жду. Начало дерево подаваться… «Ну, еще! Наддай!» – орут, дерево валят. А по голосам слыхать, что еле дух переводят, пристали. «Еще наддай…» Ходуном подо мной дерево ходит, а я все на маковке сижу, держусь… Да как ухнет дерево-то, только стон пошел от ветвей, хруск… Как маковка-то об землю треснулась – я наземь да в бег. Они-то у корня стояли, а я на маковке, – у меня двадцать сажен, мазы[50]… Они-то, дерево копавши, вконец перемучились, а я-то отдохнул, сидючи!
– Здорово! – одобрили арестанты.
– Ведь вот говорят: «Семь верст до небес, и все лесом!»[51] – не вытерпел задетый давеча за живое паренек.
– А тебе что? – накинулась на него каторга, – ты чего лезешь, волынку затираешь? Не любо, не слушай! А лезть нечего. Чувырло братское.
Каторга негодовала на то, что прервали «занятный рассказ».
Много таких рассказчиков в каждой тюрьме. И что это за рассказы! Что за дикие, за фантастические, нелепые рассказы о небывалых преступлениях! Слушаешь другого да диву даешься.
Его действительных-то приключений тома бы на три хватило. Да на каких тома! А он, Бог его знает, какую чушь выдумывает!
Это Понсон дю Терайли, Ксавье де Монтепены каторги.
Им не верят, да их не для того и слушают.
Каторга относится к ним, как мы – к нашим бульварным романистам.
Не требует от них правды, довольствуется интересной выдумкой.
Она смотрит на них как на хороших сказочников.
Это вряд ли можно назвать бахвальством преступлением.
Да я и не думаю, чтобы бахвальство могло произвести на каторгу особое впечатление.
Сидя с человеком 24 часа в сутки, поневоле изучишь его, будешь знать, на что он способен, на что нет, – сразу отличишь, что в его рассказах правда, что – хвастливая ложь.
Да каторга и не придает особенной цены преступлениям, совершенным «в Рассее».
– Там-то мы все храбры были!
Она относится еще с некоторым уважением к преступникам, взявшим, благодаря преступлению, крупную сумму, – и глубоко презирает тех, кто совершил преступление из-за грошей.
Самим же преступлением каторги не увидишь. Тут, так сказать, приходится «играть среди виртуозов».
Герои каторги – рецидивисты.
Она ценит только преступления и проступки, совершенные здесь, на Сахалине.
И какой-нибудь смелый беглец или человек, наговоривший дерзостей смотрителю, в ее глазах гораздо более «герой», чем человек, зарезавший целую семью в России.
Полуляхова каторга стала уважать с тех пор, как он бежал, дерзко, на виду у всех, – вырвав ружье у часового.
Есть только одно преступление, которое покрывает совершившего его немеркнущей славой. Это убийство кого-нибудь из тюремной администрации.
К такому каторга относится всегда с почтением.
Человек шел «на веревку».
Человек не боится ничего, – значит, надо бояться его.
И к такому человеку относятся с боязливым почтением.
Остальное все не производит никакого впечатления:
– Это все, что было, то прошло! Ты нам теперь себя выкажи!
Прошлое умерло. Каторгу интересует только, что в человеке «осталось».
До сих пор мы говорили об отношении только к самому факту преступленья.
– Ну, а их отношения к жертве?
Что они чувствуют по отношению к ней?
Редко – злобу, часто – презрение, обыкновенно – полное равнодушие.
– Как же! Жалко! – отвечает вам обыкновенно преступник на вопрос, неужели ему не жаль своей жертвы?
Но лучше бы он не говорил этого!
Он произносит это «жалко», как будто речь идет не о жизни, а о каком-то пустяке, отнятом у несчастного!
В этом тоне звучит такое равнодушие – равнодушие ко всему на свете, кроме его собственной персоны.
Вы чувствуете, что он говорит «жалко» просто «из приличия»: «так уж полагается по-ихнему, чтоб жалеть».
Что этим он делает уступку вам!
Убийцы-грабители вспоминают о своей жертве с презрением, если несчастный не хотел сразу отдавать деньги, если он боролся.
Им кажется это достойным презрения: человек ставил деньги выше жизни!
Один из преступников не мог без улыбки вспомнить, как его несчастная жертва, когда он вошел к ней с топором, закричала:
– Как ты смеешь? Да ты знаешь ли, на чей дом нападаешь!
– Сударыня, – отвечал он ей с улыбкой, – для нас все равны.
Злобу к своим жертвам, злобу непримиримую, которая не угасает никогда, чувствуют только те из преступников, кому пришлось много перетерпеть, прежде чем они решились на преступление.
С такой злобой отзывался мне о своей жертве один из каторжных, бывший денщик-кучер в Корсаковском округе, убивший своего «барина» за то, что тот жестоко с ним обращался.
– Опять бы из гроба встал – опять бы задушил!
И выражал сожаление, что не удалось «помучить его перед смертью».
Помню, один убийца жены – он отрубил ей голову – на мой вопрос:
– Неужели же тебе не бывает жаль ее?
Отвечал:
– Опять бы жила – вот хоть сейчас, – опять бы ей башку отрубил, подлой!
И с такой злобой сказал это. А вообще-то это один из добродушнейших людей в каторге.
Добрый, безответный, готовый поделиться последним.
Видно, и насолила же ему покойница!
Вообще эти люди, со злобой относящиеся к своим жертвам, по большей части люди добродушные, мягкие.
Это просто люди с лопнувшим терпением.
Искреннее, действительно глубокое сожаление к своей ни в чем не повинной жертве мне пришлось наблюдать только один раз.
Это несчастный Горшенин, сожалевший об убитом им в припадке раздражения инженере Корше.[52]
Мы дошли до вопроса, который, может быть, интересует вас так же, как он интересовал меня.
До вопроса о галлюцинациях и снах. Об этой «икоте воображения», «отрыжке совести».
Преследуют ли их призраки жертв, как они преследуют шекспировских героев, или сахалинские преступники сделаны из другого теста.
Но ведь и шекспировских героев не всех одинаково преследуют призраки убитых.
Макбет видит наяву тень Банко, в то время, как Ричарда III мучат призраки во время сна, во время тяжкого кошмара. А королю Клавдию ни во сне, ни наяву не является тень убитого им короля и брата.
Я расспрашивал всех тюремных врачей относительно галлюцинаций у каторжников, и изо всех врачей только один доктор Лобас, человек, глубоко знающий каторгу, мог сообщить мне только один случай, когда преступник жаловался на преследования призрака.
Я потом виделся и с преступником.
Это некто Вайнштейн, рецидивист, убивший на Сахалине женщину.
Другие говорят, что он убил ее, не добившись ничего ухаживаниями.
Он уверяет, что убил ее из отвращения:
– Уже немолодая женщина – она изменяла своему мужу. И как изменяла! Мне стало противно, и я убил ее, прямо из какой-то ненависти, из презрения, раздавил как гадину.
Ее окровавленный призрак не давал ему покоя, пока он сидел в одиночном заключении.
Он не спал ночей, потому что она постоянно входила к нему, и на него «летели брызги крови».
Интересный рассказ о галлюцинациях мне пришлось выслушать от одного поселенца, которого я взялся подвезти из поста Дуэ в пост Александровский.
– Зачем пробираешься-то? – спрашиваю дорогой.
– Да к окружному ишол, сожительницу себе просить новую.
– А что же старая-то плоха, что ли?
– Зачем плоха! Хорошая баба была, да померла… Второй месяц как померла. А мне без хозяйки никак невозможно. Хозяйство! Может, дадут какую, хоть завалящую!
Мы проехали с четверть версты молча.
– Да и слава Тебе, Господи, что померла! Прибрал ее Господь! Успокоил, да и меня-то вместе с ней. Мука была мученская.
– Что так?
– Тряслась шибко.
– Как тряслась?
– Так, по ночам. Как, бывало, ночь, так и начнет трястись. И меня-то замучила, – страхи! Как, бывало, огонь потушим, так ее и начнет бить. Дрожит вся, колотится, руки-ноги как лед. «Ходит, – говорит, – он по избе!» А то вся забьется, вот-вот, думаю кончится. «За ноги, – говорит, – меня хватает. Наклоняется ко мне, а от него-то могилой!» Все к ей «он» ходил. За мужа она. Мужа отравила, – не нравился, что ль! – а как он стал кончаться да мучиться, с испугу его и придушила. И такой, бывало, голос у ее, самого жуть берет. «Молчи, мол, у меня свой есть». Самому казаться начало!.. Эх, и не вспоминать!.. Так вот и измаялась, таяла, таяла, да и скончалась. Царство ей небесное, вечный покой! Да уж где, чай!
Некоторые, немногие из них, жалуются, что изредка видят своих во сне, но большинство смотрит на вас с изумлением при подобном вопросе:
– Охота, мол, такую дрянь во сне видеть?
Впрочем, все это дело нервов.
В конце концов, я все-таки не верю – я не верю потому, что этого не видел, – чтобы преступник совсем уж спокойно относился к совершенному им преступлению.
Может быть, и эта страсть к картам, эта картежная игра, которой они с таким азартом предаются с утра до вечера, в каждую свободную минуту, и часто с ночи до утра, может быть, и это средство – забыться, отвлечь свои мысли.
Наиболее тяжкие преступники вместе с тем и наиболее страстные игроки.
Всякий отвлекается и забывается как может и чем может.
Я видел преступника, который после совершенного им действительно зверского убийства[53] искал забвения… в игре в тотализатор.
– Играешь, и ничего не чувствуешь! Забываешь про это.
К счастью для него, скачки в Москве бывают по два, по три раза в неделю, – и несколько недель, которые прошли до его ареста, этот несчастный и отвратительный человек прожил в каком-то угаре от пьянства и игры.
Когда там открывали труп, он думал о лошадях:
– Хватит ее на четырехверстную дистанцию или не хватит?
Как они относятся к наказанию? На этот вопрос ответить гораздо легче. Относятся очень просто.
Осудили, лишили прав, сослали сюда, и они считают все свои счета поконченными и сквитанными.
– Не семь же шкур с нас драть?!
Им сказали: идите на «новую жизнь».
И они стремятся устроить «новую жизнь».
Такую, какая нравится им, а не правосудию.
Бежать, сказаться бродягой и получить полтора года каторги вместо 10, 15 и 20.
Это называется «переменить участь».
И об этой «перемене участи» мечтают все.
Не верьте тому, чтоб преступники жаждали каторги, несли ее как искупление.
Да, может быть, там, когда они еще не знают, что такое каторга.
Когда еще свежи, особенно болезненны воспоминания. Когда совесть, этот «зверь косматый», мечется и скребет когтями душу… Тогда, быть может и жаждут «страданий».
Так при нестерпимой зубной боли люди бьются головой об стену, чтоб другой болью пересилить эту, отвлечь мысли от этой страшной, невероятной боли.
Там… А здесь… Можно жаждать страданий, идти на них, надеть тяжелые вериги, спать на острых камнях.
Но кто в виде «искупления» захочет лечь в смердящую, вонючую, топкую, жидкую грязь?
А каторга – это грязь, зловонная, засасывающая грязь.
Мне остается сказать еще об их отношениях к невинно-осужденным.
К тем, относительно кого они уверены, что человек страдает напрасно.
Такие есть на Сахалине, как и во всякой каторге.
На арестантском языке они называются «от сохи на время».
Каторга относится к ним с презрением.
Нет! Это даже не презрение. Это ненависть, это зависть к людям, не мучающимся душой, выражающаяся только в форме будто бы презрения.
Это ненависть подлеца к честному человеку, мучительная зависть грязного к чистому.
И положение этих несчастных – положение горькое вдвойне.
Им не верят честные люди, их презирает и ненавидит мир отверженных…
И в этой ненависти сказывается все то же страдание преступной души, мучимой укорами совести.







