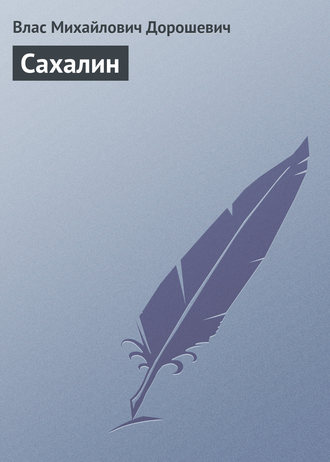
Влас Дорошевич
Сахалин
– Ставь, ставь красненькую! – шепчут они денежному новичку, около места которого и затеялась игра. – Ставь! Чего его жалеть! Всех обыгрывает! Надо и его! Ставь, наверняка ведь. Вот так, прячь деньги под карту…
– Да будет вам, дьяволы! – обращаются они к ссорящимся. – Ишь, волынку затеяли, дьяволы! А тебе что! Не ндравится, проходи, а огня из человека добывать нечего. Скипидаристый, право, человек!
Вступившегося в игру протестанта уводят. Игрок, ворча и доругиваясь, возвращается к игре:
– Ну, что тут?
– Все сделано. Куш под картой.
Игрок берется за наперстки.
– Нет, уж это ты оставь! – протестует толпа. – Игра составлена. Как есть, так и будет! Вот на этот он поставил!
– Да вы, может, подсмотрели, дьяволы?
– Видать, что окромя жулья никого не видел в жисть. Станет кто подсматривать! Нет уж, правило! Игра составлена!
– Да, может, куш велик?!
– Под картой сколько есть! Нет, ты уж по правилам! А то «темную». Любишь, щучий сын, выигрывать! Умей и платить.
– Ну, ин, будь по-вашему! Ежели правило, я ни слова. Этот, что ли?
– Этот! – подтверждает новичок.
Игрок поднимает наперсток, под наперстком пусто, и тянет куш из-под карты.
Дело снова в ловкости рук, в умении быстро и незаметно, пока новичок волнуется во время спора, передвинуть наперстки один на место другого.
Тузы и черное и красное – это почти одно и то же. Выбирают по желанию: тузы или другие карты.
Лежат крапом вверх три туза: два черных и один красный. Игрок их перекладывает с такой изумительной быстротой, что нет возможности уследить, куда ляжет красный.
Но во время игры его отвлекут какой-нибудь ссорой или прибегут сказать что-нибудь. Игрок отвернется, а в это время какой-нибудь арестант подсмотрит, где красный, и сделает на крапе карандашом метку.
– Ставь на этого, – шепнут новичку.
Игрок кончит ссору или разговор, возьмется снова за игру, начнет перекладывать карты с места на место.
– Готово!
Новичок ставит на меченого туза часто все, что у него есть, желая сразу вдвое разбогатеть. Ему дадут самому вскрыть туза, он вскроет: черный!
Дело в вольте, который делает во время метки игрок. Он подменяет меченого красного туза точно так же отмеченным, заранее приготовленным черным.
Так шулера обыгрывают тех, кто не прочь бы выиграть наверняка.
И вот к вечеру новички, проигравшиеся в прах, обманутые, часто избитые за нежелание платить, ложатся на нары, думая:
– Ну, народ!
А сосед утешает:
– Зато ты теперь настоящий арестант. Форменный, как есть.
Все ту же школу проходили. Порядок.
Они обобраны и тем посвящены в каторжане. Каторга не любит собственности и собственников. Их деньги пошли гулять по тюрьме: сегодня – к одному, завтра – к другому…
Некоторые из вновь посвященных с тоской и ужасом думают о предстоящих днях голодовок и всяческих лишений.
Другие чувствуют злобу в душе и засыпают с мечтою, как они и сами будут точно так же обирать новичков.
Интеллигентные люди на каторге
Приходилось ли вам когда-нибудь видеть в глаза смерть?
Тогда вы знаете, что время – это вздор, что понятие о времени – условность, что часов, минут, секунд на свете не существует.
Пока поднимется и щелкнет курок, вы успеете столько передумать, переиспытать, перечувствовать, сколько не передумали бы, не перечувствовали, не переиспытали в год.
Год каторги… Это не двенадцать месяцев, из которых каждое двадцатое приносит вам жалованье. Это не «четыре сезона», как для светских людей. Не триста шестьдесят пять дней, как для всех. Это – миллионы минут, из которых многие каждая длиннее вечности.
Разве можно не презирать всех этих иванов, храпов, жиганов, асмодеев, хамов, поддувал, крохоборов? Презирать и быть с ними запанибрата.
Потому что это ваше «общество»! Потому что рядом с ними вы спите на нарах, вместе едите, работаете и с ними делите вашу жизнь!
Да, если бы даже только быть за панибрата.
– Нет!
Барина каторга ненавидит. Барина каторга презирает за его слабость, непривычку к физическому труду.
– Какой он рабочий в артели? Нам за него приходится работать.
Над барином каторга измывается, потому что у него есть привычки, заставляющие его сторониться от грязи.
– Нет! Ты попал – так терпи! Нечего нежничать! Такой же теперь!
Барину каторга не доверяет:
– Продаст, чтобы в писаря выскочить!
Барин! – у каторги нет хуже, нет презрительнее клички.
И вот, когда я подумаю о положении интеллигенции в каторге, целый ряд призраков встает предо мной.
Прямо призраков!
Вот несчастный бродяга Сокольский, бывший студент, о котором я уже говорил.
Больной, эпилептик, издерганный, измученный.
– Боже! Чего, чего я не делал, чтобы избавиться от этой проклятой клички. Чтобы пасть до них. Чтобы не чувствовать, лежа на нарах, что при тебе боятся говорить, что тебя считают за предателя, за изменника, за человека, готового на доносы. Нет! Какой-нибудь негодяй, какой-нибудь, говоря на нашем каторжном языке, хам, готовый за пятачок продать себя, других, все, обзывает тебя барином. И даже он каторге ближе, чем ты! А каких, каких жертв я им не приносил. Я пью, как они. Играю в карты, как они. Меня назначили писарем, я ради них набезобразничал, чтобы меня выгнали. Чтобы доказать, что я не хочу никаких привилегий. Я принял участие в их мошенничестве, в сбыте фальшивых ассигнаций. Я помогал им скрывать эти ассигнации. Я прятал. Когда поймали, я никого не выдал. Мне грозит каторга на много, много лет. И все-таки я отверженный среди отверженных, я – барин!
Вот Козырев,[39] несчастный юноша со взглядом утопающего человека.
Он прошел все-таки шесть классов гимназии. Сын зажиточных родителей. Его родные – богатые московские купцы.
Был вольноопределяющимся, и за оскорбление караульного начальника попал в каторгу на 6 лет и 8 месяцев.
Теперь он сидит в кандальной за грошовый… подлог.
У него такое честное, симпатичное лицо. Я это хорошо знаю, он всегда готов поделиться последним, делился, делится с нуждающимся.
Наконец, родные его не забывают. Присылают ему сравнительно помногу.
– И вдруг какой-то грошовый подлог?!
– Эх, барин! – по совести сказали мне люди, знающие дело. – Да нешто для себя он! Каторга заставила. Каторге этот подлог был нужен. Они и приказали, а он писарем был, вот и сделал. Пользуется ли он для себя! Да и к чему ему?
Его будущность тяжка и безотрадна.
Прибавки каторги не выдержит, бежит, плети, еще прибавка, без конца, испытуемость и без выхода сиденье в кандальной тюрьме.
Да что какой-то Козырев?
Такие ли люди гибли в каторге, тонули, – вверх только пузыри шли.
Гибли нравственно вконец, безвозвратно.
В селении Рождественском, в Александровском округе, учителем состоит некто В.
Человек, получивший образование в одном из привилегированных учебных заведений.
В каторге этот человек за 5 рублей нанялся взять на себя чужое убийство.
Потребовалось целое следствие, чтобы доказать, что убил не он.
Один сановник, лично знавший В. в Петербурге, приехав на Сахалин, захотел его видеть, хотел хлопотать за него в Петербурге.
– Поблагодарите, – просил передать ему В., – и попросите, пусть забудет об этом. Поздно. Там уж я не гожусь. Пусть меня забудут здесь.
У меня есть, я взял как образчик человеческого падения, один донос. Донос ложный, гнусный, клеветнический, обвиняющий десяток ни в чем не повинных людей, своих же собратий, и заканчивающийся… просьбой дать место писаря на 5 рублей в месяц.
Этот донос писан бывшим инженером, теперь занимающимся подделкой кредиток.
– Неужели же нельзя удержаться на высоте? Не падать, не ложиться самому в эту грязь?
Я задавал этот вопрос людям, на себе испытавшим каторгу.
– Неужели нельзя держаться особняком?
– На каторге невозможно. Сейчас заподозрят: «Должно быть, доносчик, не хочет с нами заодно быть, в начальство метит!» Наконец просто почувствуют себя обиженными. Изведут, отравят каждую минуту, каждую секунду существования. Будут делать мерзости на каждом шагу, – и нет ничего изобретательнее на мерзости, чем подонки каторги. Эти-то подонки вас и доймут, в угоду «сильным» каторжанам.
– Ну, заставить их относиться с уважением, с симпатией.
– Трудно. Уж очень они ненавидят и презирают барина. У меня, впрочем, был способ! – рассказывал мне один интеллигентный человек, сосланный за убийство. – Я писал им письма, прошения, что ими очень ценится. Конечно, бесплатно. Охотно делился с ними своими знаниями. Всякое знание каторга очень ценит, хотя к людям знания относится так, как вообще простонародье, как ребенок, который очень любит яблоки и ругает яблоню, зачем так высоко. Мало-помалу мне начало казаться, что я заслуживаю их расположение. Но тут мне пришлось столкнуться с грамотными бродягами и иванами. У первых я отнимал заработки, даром составляя прошения. Вторые не переносят, чтобы кто-нибудь, кроме них, имел вес и влияние в тюрьме. Сколько усилий пришлось тратить, чтобы избегать столкновений с ними. Меня оскорбляли, вызывали на дерзость. Собирались даже бить. Обвиняли в доносах. Добились того, что каторга перестала мне верить: убедили их, будто я прошения нарочно составляю не так, как следует. И это дурачье им поверило! Короче вам скажу: не знаю, чем бы все это кончилось, но меня выпустили из кандальной тюрьмы.
Страшна не тяжелая работа, не плохая пища, не лишение прав, подчас призрачных, номинальных, ничего не значащих.
Страшно то, что вас, человека мыслящего, чувствующего, видящего, понимающего все это, с вашей душевной тоской, с вашим горем, кинут на одни нары с иванами, глотами, жиганами.
Страшно то отчаяние, которое охватит вас в этой атмосфере навоза и крови.
Страшны не кандалы!
Страшно это превращение человека в шулера, в доносчика, в делателя фальшивых ассигнаций.
Страшно превращение из Валентина в подделывателя документов за краденую вытертую шапку.
И какие характеры гибли!
Тальма на Сахалине
Это происходило в канцелярии Александровской тюрьмы. Перед вечером, на наряде, когда каторжане являются к начальнику тюрьмы с жалобами и просьбами.
– Что тебе?
– Ваше высокоблагородие, нельзя ли, чтобы мне вместо бушлата[40] выдали сукном.
– Как твоя фамилия?
– Тальма.
Я воззрился на этого большого молодого человека, с бледным, одутловатым лицом, добрыми и кроткими глазами, с небольшой бородкой, в своем штатском платье, в накинутом на плечи арестантском халате.
– Нельзя. Непорядок, – сказал начальник тюрьмы.
Тальма поклонился и вышел. Я пошел за ним и долго смотрел вслед этой тогда еще живой загадке.
Он шел сгорбившись. Серый халат с бубновым тузом болтался на его большой, нескладной фигуре, как на вешалке. Прошел большую улицу и свернул вправо в узенькие переулочки, в одном из которых он снимал себе квартиру.
Во второй раз я встретился с Тальмой на пристани.
Он был без арестантского халата. В темной пиджачной паре, мягкой рубахе и черном картузе.
Мы приехали на катере с одним из офицеров парохода «Ярославль», и к офицеру сейчас же подошел Тальма. Они были знакомы. Тальма привезен на «Ярославле».
– Я к вам с просьбой. Вот накладная. Мне прислали из Петербурга красное вино. А мне, как…
Все интеллигентные и неинтеллигентные одинаково давятся словом «каторжный» и говорят «рабочий».
– Мне, как рабочему, его взять нельзя. Будьте добры, отдайте накладную ресторатору. Пусть возьмет вино себе. Я ему дарю. Вино, должно быть, очень хорошее.
– Странная посылка! – пожал плечами офицер, когда Тальма от нас отошел.
Странная посылка человеку, сосланному в каторгу. Потом, когда мы познакомились, Тальма однажды с радостью объявил мне:
– А я телеграмму из Петербурга получил!
– Радостное что-нибудь?
– Вот.
Я хорошо помню содержание телеграммы: «Такой-то, такой-то, такой-то, обедая в таком-то ресторане, вспоминаем о тебе и пьем твое здоровье». Подписано его братом.
Телеграмма вызвала радостную улыбку на всегда печальном лице Тальмы. Поддержала немножко его дух, что и требовалось доказать.
Разные люди, и разными способами их можно подбодрять!
Я познакомился с Тальмой в конторе Александровской больницы, где он исполнял обязанности писаря.
Я должен немножко пояснить читателю.
Каторги так, как ее понимает публика, для интеллигентного человека на Сахалине почти нет. Интеллигентные люди – «господа», как их с презрением и злобой зовет каторга, – не работают в рудниках, не вытаскивают бревен из тайги, не прокладывают дорог по непроходимой трясине тундры.
Сахалин, с его бесчисленными канцеляриями и управлениями, страшно нуждается в грамотных людях.
Всякий мало-мальски интеллигентный человек, прибыв на Сахалин, сейчас же получает место писаря, учителя, заведующего метеорологической станцией, статистика и что-нибудь подобное. И отбывает каторгу учительством, писарством, корректорством при сахалинской типографии.
На первый взгляд вся каторга для интеллигентного человека состоит в том, что его превращают в обыкновенного писаря.
Для интеллигентных людей на Сахалине есть другая каторга.
Лишая всех прав состояния, вас лишают человеческого достоинства. Только!
Всякий начальник тюрьмы из выгнанных фельдшеров, в каждую данную минуту, по первому своему желанию, может без суда и следствия назначить до 10 плетей или 30 розог.
По первому капризу запишет в штрафной журнал: «за непослушание» – и больше ничего.
И может назначить по первому неудовольствию на вас, по первой жалобе какого-нибудь помощника смотрителя, ничтожества, которому даже каторга из презрения говорит «ты», по первой жалобе какого-нибудь надзирателя из бывших ссыльнокаторжных.
Вы можете отлично отбывать свою писарскую каторгу, скромно, старательно – вами будут довольны, но стоит вам встретиться на улице с каким-нибудь мелким чиновничком, которому покажется, что вы недостаточно почтительно или быстро сняли перед ним шапку, – и вас посадят на месяц, на два в кандальную.
Такие жалобы господ чиновников всегда удовлетворяются.
– И жалко мне человека, а сажаю! – часто приходится вам слышать от более порядочных начальников тюрем. – Сажаю, потому что иначе скажут, что я распускаю каторгу!
А этого обвинения на Сахалине служащие боятся больше всего.
И вот, по первому же вздорному желанию какого-нибудь мелкого служащего, заковывают на месяц, на два в кандалы, сажают в общество самого отребья рода человеческого, и вы должны подчиняться этому отребью, потому что арестантские законы, как держать и вести себя в тюрьме, издают самые отчаянные из кандальных каторжан, подонки из подонков тюрьмы. Чем ниже пал человек, тем выше он стоит в арестантской среде. И вы должны ему подчиняться.
Интеллигентные люди живут под вечным дамокловым мечом. Вот вся их каторга. Годами, каждую секунду бояться и дрожать.
Оттого такие унылые и пришибленные лица вы только и встречаете у интеллигентных каторжан.
И многие из них впадают в тоску от такого существования, в страшную, беспросветную тоску, от этой вечной боязни исполняются презрением к самому себе, впадают в отчаяние. Начинают пить…
И если вы видите постоянно живущего в тюрьме и назначаемого на работы наравне с другими интеллигентного человека, это, значит, уж совсем погибший человек, потерявший образ и подобие человеческое.
Тюрьмой редко кто из интеллигентных людей на Сахалине начинает, но многие ею кончают.
С Тальмой по прибытии на Сахалин случилось то же, что и со всеми грамотными людьми. Он попал в писари.
В конторе больницы я с ним познакомился. Тут, под начальством прекрасных и гуманных людей, тогдашних сахалинских докторов, ему жилось сравнительно сносно. И им были все довольны как тихим, работящим и очень скромным молодым человеком.
Я имел возможность хорошо узнать Тальму. Я бывал у него, и он заходил ко мне.
Конечно, речь очень часто заходила о деле. Но что он мог сказать нового? Он повторял только то же, что говорил и на процессе.
Письма, телеграммы «из России» поддерживали его бодрость, вызывали вспышки надежды. Но это были вспышки магния среди непроглядной тьмы, яркие и мгновенные, после которых тьма кажется еще темней.
Сам он, кажется, считал свое дело решенным раз и навсегда, и, когда я пробовал утешать его, что, мол, Бог даст, он только махал рукой:
– Где уж тут!
Интересная черта, что, когда он говорил о своем деле, он не жаловался ни на страдания, ни на лишения. Не жаловался на загубленную жизнь, но всегда приходил в величайшее волнение, говоря, что его лишили чести.
Связь с прошлым – как святыня, у него хранятся те газеты, в которых несколько журналистов стояли за его невиновность. Достаточно истрепанные газеты, которые, видимо, часто перечитываются. Давая их мне на прочтение, он просил:
– Я знаю, знаю, что вы будете с ними обращаться бережно. Пожалуйста, не сердитесь на меня за эту просьбу!.. Но все-таки, чтоб что-нибудь не затерялось…
Это все, что осталось. И как, вероятно, это перечитывалось, хоть Тальма и знает все, что там написано, наизусть. Он сразу безошибочно указывал в разговоре столбец, строку, где написана та или другая фраза.
Связь с настоящим – Тальма показывал мне письма его жены и письма некоей Битяевой, странной девушки из полуинтеллигенток. Письма, дышавшие экзальтированной любовью к семье Тальма, в которых Битяева, словно о ребенке, писала о жене Тальмы:
«Большой Саша (супруга Тальмы) ведет себя нехорошо: все скучает, тоскует и болеет. А маленький Саша совсем здоров. Большой Саша только и думает, как бы поехать к вам, и я поеду вместе с ними, я буду горничной, нянькой, всем!»
Супруга тоже все уведомляла Тальму о скором приезде.
И он часто говорил:
– Вот приедет жена, устроимся так-то и так-то…
Но в тоне, которым он это говорил, слышалось как будто, что он и сам в этот приезд не верил.
Верил, верил человек, да уж и отчаялся. А фразу старую повторяет так, машинально, по привычке:
– Вот приедет…
На Сахалине это часто слышишь:
– Вот жена приедет…
– Вот мое дело пересмотрят…
И говорят это люди годами. Надо же хоть тень надежды в душе держать! Все легче.
Да насмотревшись на сахалинские порядки, Тальма и сам, кажется, колебался: хорошо ли или нехорошо будет, если жена и впрямь приедет. И писал ей письма, чтоб она думала о своем здоровье:
«Раз чувствуешь себя не совсем хорошо, и не думай ехать. Лучше подождать».
Впечатление, которое производил Тальма? Это впечатление тонущего человека, тонущего без крика, без стона, знающего, что помощи ему ждать неоткуда, что кричи, не кричи – все равно никто не услышит.
Такое же впечатление он производил на других.
– Не нравится мне Тальма! – говорил мне доктор, под начальством которого Тальма служил, который видел Тальму каждый день и который, слава Богу, перевидал на своем веку ссыльных. – С каждым днем он становится все апатичнее, апатичнее. В полную безнадежность впадает. Нехорошо, когда это у арестантов появляется. Того и гляди, человек на себя рукой махнет. А там уж кончено.
Маленькая, но на Сахалине значительная подробность.
Когда я в первый раз зашел к Тальме, мне бросилась в глаза лежавшая на кровати гармоника. Нехорошо это, когда у интеллигентного человека на Сахалине заводится гармоника.
Значит, уж очень тоска одолела.
Начинается обыкновенно с унылой игры на гармонике в долгие сахалинские вечера, когда за окнами стонет и воет пурга. А затем появляется на столе водка, а там…
В то время, когда я его видел, Тальма, хоть и охватывало его, видимо, отчаяние, все еще не сдавался, крепился и не пил.
Он жил не один: снимал две крошечные каморочки и одну из них отдал:
– Товарищу! – кратко пояснил он.
Я стороной узнал, что это за товарищ. Круглый бедняк, бывший офицер, сосланный за оскорбление начальника. «Схоронили – позабыли». Никто ему «из России» ничего не писал, никто ничего не присылал. Занятий, урока какого-нибудь, частной переписки бедняга достать не мог. И предстояло ему одно из двух: или на улице помирать – на казенный паек, который выдается каторжанам, не проживешь, – или проситься, чтоб в тюрьму посадили.
К счастью, о его положении узнал Тальма и взял его к себе, чем и спас беднягу от горькой участи.
– Хороший такой человек, скромный, симпатичный, только очень несчастный! – пояснил мне Тальма.
Он жил на полном иждивении у Тальмы. Потому-то Тальма и просил у начальника тюрьмы дать ему вместо бушлата сукно, чтоб товарища одеть.
– Свой у него износился. А мне срок подходит бушлат новый получать. Выдадут готовый – с меня на товарища велик будет. Вот я и просил, сукном чтоб выдали. Дома бы на него и сшили.
Тальма заходил ко мне, но не по своему делу, а чтоб попросить за другого, за офицера, тоже сосланного за оскорбление начальника и только что прибывшего на Сахалин.
– Вы со всеми знакомы, не можете ли попросить за него, чтобы его как-нибудь получше устроили? Чрезвычайно хороший, симпатичный человек!
Знаете, когда человек тонет, ему думать только о себе.
И, глядя на этого человека, который находит время о других подумать, когда сам тонет, я невольно думал:
«Да полно, он ли это?»
Положим, я видел убийц, которые делились последним куском даже с кошками. Я видел кошек в кандальных тюрьмах. Люди, которые там сидели, уверяли, «что человек помирает, что собака – все одно»; у каждого из них на душе было по нескольку убийств, но тот из них, кто убил бы эту кошку, был бы убит товарищами. Кошку они жалели.
Но то была не любовь, а сентиментальность.
Сентиментальность – маргарин любви.
Сентиментальных людей среди убийц я встречал много, но добрых, истинно добрых, кажется, ни одного.
А впечатление, которое осталось у меня от Тальмы, – это именно то, что я видел очень доброго человека.







