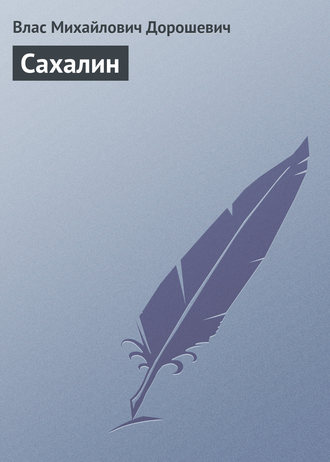
Влас Дорошевич
Сахалин
Язык каторги
У каторги есть много вещей, которых посторонним лицам знать не следует. Это и заставило ее для домашнего обихода создать свой особый язык. Наречие интересное, оригинальное, создавшееся целыми поколениями каторжан, в нем часто отражается и миросозерцание, и история каторги. От этого оригинального наречия веет то метким добродушным русским юмором, то цинизмом, отдает то слезами, то кровью.
Убить – на языке каторги называется пришить.
– Я его ударил, – он и лег к земле как пришитый.
Вот не лишенное висельного юмора происхождение слова «пришить».
– Пришить просто – означает убить, но пришить бороду – означает только обмануть.
– Пришил ему бороду, и бери что знаешь! – говорят каторжане.
Происхождение этого выражения кроется, быть может, в легенде о похождениях одного славившегося сибирского бродяги, предания о котором и до сих пор живут в памяти каторги. Он грабил специально богатых одиноких стариков – «столоверов» (староверов), спасающихся в сибирской тайге. И ходил, по словам легенды, на грабеж с одной нагайкой. Он никогда не связывал своей жертвы, а, хорошенько напугав, припечатывал старику бороду сургучом к столу. И затем хозяйничал в избе как хотел. Если же старик не указывал денег, бродяга бил его нагайкой. От сильных ударов старик поневоле рвался – и тогда испытывал двойные страдания: и от нагайки, и нестерпимую боль от припечатанной бороды. Взяв все что нужно, бродяга так и оставлял несчастного припечатанным: «Сиди, мол, повестки не подашь» (знать не дашь). Судя по тому, что мне приходилось слышать вместо «пришить бороду» также выражение «припечатать бороду» – этому объяснению оригинального выражения можно поверить.
У каторги есть два специальных термина для обозначения того, как «пришивают» людей. Разбить человеку голову на каторге называется расколоть арбуз(!), а ударить человека ножом в грудь, называют ударить в душу. Грудь на каторжном языке называется душой, и корсаковский палач Медведев, рассказывая мне, как он вешал, говорил:
– Как закрутились они на веревке, подступило мне что-то в душу.
И указал при этом куда-то на селезенку…
«Умереть» разно называется на Сахалине. В посту Корсаковском кладбище помещается около маяка, а потому там умереть – это значит отправиться к маяку.
– А где больной такой-то?
– К маяку пошел, ваше высокоблагородие! – отвечают вам в лазарете.
– К маяку бы поскорей! – стонут больные.
В Александровском посту кладбище помещается на пригорке, который занял когда-то ссыльнопоселенец Рачков для выпаса скота. А потому умереть в Александровском посту – это значит отправиться на Рачкову заимку.
Так как Александровский пост – это главный пункт острова и всякий каторжанин обязательно пройдет через него, то и Рачкова заимка получила всеобщую известность, и выражение «отправиться на Рачкову заимку» повсеместно значит «умереть».
И угроза «отправить на Рачкову» равносильна угрозе «пришить».
Из преступлений, кроме убийства, на Сахалине очень распространено делание фальшивой монеты. Особенно теперь в ходу подделка серебряных рублей. Японский пароход «Яеяма-Мару», пришедший за углем для Владивостока, простоял около сахалинского Владимирского рудника около недели. Японцы, по обыкновению, привезшие для каторжан саки (японская водка) и разные припасы, чтобы мошеннически продать их втридорога, уехали с Сахалина с карманами, полными… фальшивых рублей. Каторга перемошенничала! Эти фальшивые монеты на Сахалине фабрикуются повсеместно и затем сбываются в Уссурийский край, где и спускаются неопытным инородцам. Это часто на Сахалине. Спрашиваю про Золотую Ручку, только что при мне вернувшуюся с материка.
– Да зачем ей понадобилось ездить на материк?
– Зачем! Деньги фальшивые небось возила. У нее дело известное.
«Деньги» на языке каторги называются сарга. Но сарга бывает настоящая и липовая. Липовым каторга называет все фальшивое: деньги, паспорта, имя. Делать липовую саргу – заниматься деланием фальшивой монеты, каторга не без юмора называет также печь блины. И мне передавали – может быть, анекдот, но клялись и божились, что факт, – курьезный случай. Одно из начальствующих лиц заинтересовалось – а чем занимается теперь лично известный ему почему-то поселенец такой-то?
– Блины печет! – отвечали каторжане, любившие поглумиться над начальством.
Начальство поняло, что он печет блины для продажи, как делается в городах, и заметило:
– А-а, отлично, отлично! Я очень рад за него, пусть старается! Это мне очень приятно.
Третьим распространенным на Сахалине преступлением является, конечно, кража. «Украсть» на каторжном языке называется стырить. Подучить украсть, сказать, как легче это сделать, указать, где лежат деньги, называется натырить. Передать краденое в другие руки, чтобы скрыть концы в воду, называется перетырить. И при дележе обмануть сообщника, утаить в свою пользу часть похищенного – именуется оттырить. Ни одна мало-мальски крупная кража ни на Сахалине, ни у нас, в городах, не обходится без натырщиков и перетырщиков, причем сам стырщик получает обыкновенно сущие пустяки, потому что львиную долю оттыривают натырщики и перетырщики – подводчики и сбытчики заведомо краденого. Вор на Сахалине, как и везде – это только батрак, всю жизнь работающий на других.
Нищенство как профессия мало дает на голодном Сахалине. Просить милостыню на языке каторги называется стрелять. И это громкое слово, имеющее такое мирное значение, приведшее в первый раз и меня в смущение, сыграло большую роль в жизни каторжанина Мариана Пищатовского. Геркулес, добродушнейшее в мире существо, страшный только во время эпилептических припадков, – он подошел к начальнику, посетившему тюрьму, с самой добродушной фразой:
– А я вас подстрелить хочу…
– Убрать! В кандалы! – крикнул натурально отшатнувшийся в сторону начальник.
И Пищатовский несколько месяцев отсидел в кандалах, решительно не понимая – за что? Полжизни прожившему в каторге, ему и невдомек, что ведь не весь же мир говорит на каторжном языке! С тех пор каждый раз, как перепуганный начальник посещал тюрьму, Пищатовского уводили и заковывали. Жалуясь мне на свои заключения, добряк особенно жаловался на это:
– В жизнь свою мухи не убил (он из дисциплинарных), а что терплю. Как самый отъявленный. И за что? За то, что на чаек, на сахарок подстрелить хотел. Обрадовался: вот думаю, доброе начальство – гривенничек даст. Вот те и обрадовался!
Для слова «просить», «идти по миру», у каторги есть и другое выражение, историческое, пришедшее из Сибири, – стрелять саватейки. Саватейками в Сибири называются очень вкусные сдобные лепешки, которые пекутся на сметане. Зажиточный сибирский крестьянин считает долгом совести, делом хорошим «для души» подать бродяге – варнаку – саватейку. Отсюда «стрелять саватейки» значит на каторжном языке также и идти бродяжить. Но – увы! – в сахалинской каторге это выражение стало уже совсем историческим. На голодном Сахалине не то что саватеек – хлеба-то нет. Сахалинский поселенец не сибирский крестьянин: у голодного не поешь. В Сибири крестьянин кормит бродягу, и за то бродяга ни за что ничего у крестьянина не тронет. А голодный сахалинский бродяга режет у поселенца на корм и корову, и последнюю лошадь. За то и поселенцы охотятся за бродягами, ловят, а то и убивают.
– Здесь Сакалин, батюшка, всякому до себя! – говорят на этом острове, где человек человеку поневоле волк.
Перейдем теперь к выражениям, означающим наказание. Во всех в них звучит ирония. Эта ирония напоминает мне ту улыбку, кривую, довольно плохую, похожую скорее на гримасу, с которой человек идет ложиться на «кобылу».
– Стало быть, так порядок того требует.
Каторга не любит слова «вешать». Она называет это заслужить веревку. Это какая-то инстинктивная боязнь страшного слова доходит до того, что даже палач, рассказывая вам, как он повесил 13 человек, ухитряется как-то избежать неприятного слова, а если и произносит его, то словно давится и как будто конфузится. Точно так же каторга не любит слова «розги» и предпочитает ироническое название лозы. Плети каторга зовет мантами – слово, которое произносится всегда иронически. А вообще получить плети называется – получитьнаградные. Причем получить их в высшем, определенном законом размере называется заслужить полняк. Для слова «карцер» у каторги есть два выражения – пчельник или сушилка, причем употребительнее последнее: оно ироничнее.
– А где такой-то? Что я его третий день не вижу?
– Сушится!
Значит, сидит в темном карцере.
Чтобы увернуться от всех этих прелестей, начиная с мантов, продолжая лозами и кончая сушилкой, каторжанину нужно быть или уж особенно фартовым, или уметь фельдить.
Этот совершил 20 преступлений и попался только на 21-м, а тот и на первом вляпался, да так, что пришел на 20 лет. За тем числится десятка полтора человеческих жизней, а он пришел как бродяга на полтора года «за скрытие родословия»: отбудет и опять уйдет, а другой – каторга это знает – ни за что сидит, и будет сидеть весь долгий срок. Тот на глазах у всех ушел и пробрался в Россию, а другой и версты от тюрьмы не отошел: поймали, дали наградные и посадили с продолжением срока. Все заставляет каторгу верить в слепой случай. Только случай, и ничего больше. Даже суд, по ее характерному взгляду, «это карты». Вера в случай – вот истинная религия каторги, – в судьбу, в фортуну. От слова «фортуна» и происходит слово фарт. Собственно, оно означает «счастье», но, Боже, что подчас на Сахалине называется счастьем! Соответственно этому и слова «фарт», «фартовый» имеют много значений.
– Он человек фартовый! – говорят про человека, когда хотят сказать, что это человек добрый, широкая натура, человек, готовый помочь ближнему безо всякой даже выгоды для себя.
– Он фартовец! Он человек фартовый! – говорят с завистью и про человека, которому сходят с рук всякие гадости.
А когда поселенец говорит про сожительницу или каторжанин про жену, добровольно за ним последовавшую: «она пошла на фарт», – мне не нужно объяснять вам значения этого выражения.
Слово фельдить означает «обманывать». Но в то время как каторжанину пришивают бороду, – начальство только берут нафельду. Фельда означает обман, хитрость, лукавство именно перед начальством. Говорят, что слово «фельда» специально сахалинское и появилось на свет в то время, когда смотрителем Воеводской тюрьмы был некто Фельдман, о котором я уже упоминал. Тогда только хитрость, только лукавство могло спасти каторжанина от мант и лоз: Фельдман не признавал непоротых арестантов. Арестанты и фельдили перед Фельдманом, как Фельдман, кормивший тюрьму сырым хлебом и экономивший на припеке, фельдил перед начальством. Историческое объяснение, не лишенное интереса.
Низкопоклонство и наушничество – два самых испытанных приема фельды. Для них у каторги есть два выражения: бить хвостом и ударить плесом. В сущности, «он бьет хвостом» или «он ударяет плесом» значит, что арестант ловко уклоняется от наиболее трудных работ. Но так как для этого есть на каторге только два средства: подольщаться и наушничать, то каторга и говорит про людей, лебезящих перед начальством:
– Ишь, словно рыба на песке: так и бьет плесом, – не трожь, мол.
Выражение «бить хвостом» показывает вам, как каторга смотрит на доносчика. Она зовет его лягашом или сучкой. Он перед начальством «бьет хвостом». Она и обращается с ним как с собакой. Накляузничать на каторжном языке называется лягнуть или свезтитачку. А обвинить перед начальством человека так, чтоб он уж и не выкарабкался, называется – его совсем уж засыпать.
За это каторга знает одно наказание, которое она с каторжным юмором называет налить как богатому, т. е. сильно избить, бить «пока влезет», и, чтоб человек не видел, кто его бьет, накрыть темную, т. е. закутать ему голову халатом.
– Двойная польза, – объясняют каторжане, – и головы во зле не прошибут – жив останется, и уж нальют как богатому: орать не будет.
Как и все измученные, исстрадавшиеся, озлобленные, с издерганными нервами люди, каторжане любят злить и мучить других. Беда, если каторга, умеющая тонко подмечать у людей слабости, заметит, что человек скипидарный, т. е. его можно легко рассердить. Тогда заскипидарить такого человека, из него огня добыть – первое удовольствие для каторги. Есть изумительные мастера по этой части. И я только диву давался, как они тонко знают свое начальство. Если бы начальство хоть в сотую часть так знало их! Скажет слово, кажется, самое невинное, а глядишь, господин смотритель уже заскипидарился.
– Я только, чтобы по закону…
Господин смотритель краснеет:
– А вот я тебе покажу закон! Лишенный всех прав, а туда же, рассуждать лезет и учить. Законник он! Ты бы, мерзавец, лучше об законе думал, когда грабить шел.
– Да мне что ж! Я только, чтобы как по инструкциям…
Смотритель даже подпрыгивает на месте. Если бы тут не было писателя.
– Я тебе выпишу инструкции! Ты учить, учить меня?!
– Зачем учить! Мне только, чтобы, что по табели полагается, выдавали.
– По табели? По табели??!
Смотритель весь побагровел.
– Да вы успокойтесь, – говорю я ему, – ну чего вам волноваться! Стоит ли?
– Нет, какова каналья! Как сыплет: по закону, по инструкции, по табели!..
А каторга, глядя на эту сцену – вижу, – давится со смеху. Смотрителя в пузырек загнали – на языке каторги так называется довести человека до неистовства, когда он уже «землю роет».
– Ну, зачем ты? – спрашиваю потом каторжанина.
– А он этих самых слов очинно не любит. Ему что хошь говори – ничего. А вот «табели» он особенно не уважает!
– Да ведь выпороть за это может.
– И очень просто!
– Ну зачем же ты, чудак-человек?
– Эх, ваше высокоблагородие, не понять вам нас. Посидели бы как мы, не стали бы спрашивать «зачем?». Зло возьмет. Сорвать хочется.
«Заскипидарить», «огня добыть», «в пузырек загнать» – все это выражения применительно к начальству. Это каторга уважает. Задеть, оскорбить ни за что ни про что своего брата – это каторга презирает и называет укусить. Она смотрит на человека, делающего это, как на шальную собаку, которая кусает людей ни за что ни про что. Она презирает это и вечно этим занимается.
– Особачишься тут! – говорят каторжане.
Когда, повторяю, у человека издерганы нервы, ему доставляет удовольствие дернуть за нервы другого. Я мучаюсь – и другой пусть чувствует. Страдание – плохой отец сострадания.
От скуки, безделья и оттого, что там большинство ведь испорченных людей, на каторге страшно развита ложь. Каторга зовет таких людей заливалами, звонарями и хлопушами. Но так как этот недостаток общий, то относится к этому добродушно. И для определения лжеца у нее есть два названия, в которых больше юмора, чем злости.
– Прямой как дуга, – говорит она про такого человека или определяет его рассказы так:
– Ишь, расписывает. Семь верст до небес, и все лесом!
Я уже говорил, что каторга презрительно относится к тем из своих собратий, которые вылезли в «начальство»: в старосты и т. п. Такого человека она зовет шишкой. А для надзирателей, действительно умеющих, если они захотят, появиться совершенно незаметно и накрыть арестантов за игрой или другим недозволенным занятием, у каторги есть остроумное название – дух.
Я не привожу целой массы менее типичных каторжных терминов. Но у каторги на все есть свои имена. Каторга скрытна и не любит, чтобы посторонние понимали даже ее обычные разговоры.
Она как будто требует, чтобы человек, невольно вступая в ее среду, отрекся от всего прежнего, – даже от языка, которым он говорил там, на воле.
Похлебка – по-каторжному баланда.
Казенный хлеб – чурек.
Ложка – конь.
Водка – сумасшедшая вода.
Шуба – баран.
Нож – жулик.
И т. д.
Очень метко каторга зовет паспорт – «глаза».
– Без глаз человек слепой, куда пойдет!
Чтоб покончить с языком каторги, мне остается только сказать о ругательствах каторги.
Все ругательные слова русского слова на каторге только обычная приправа к разговору. Но есть одно слово, за которое режут.
Это грубое, простонародное слово, в переводе на более благовоспитанный язык означающее кокотку.
Это объясняется особыми условиями каторги. Но указать на то, что человек занимается этой профессией, назвать его этим именем, – за это хватаются за ножи.
В Михайловской подследственной тюрьме один арестант, красивый молодой кавказец, зарезал своего товарища.
– За что?
– Он мне одно слово говорил!
И не надо спрашивать, какое слово тот ему говорил.
Песни каторги
Замечательно – даже страшная сибирская каторга былых времен, мрачная, жестокая, создала свои песни. А Сахалин – ничего. Пресловутое:
Прощай, Одеста,
Славный (?) карантин,
Меня посылают
На остров Сахалин… —
кажется, единственная песня, созданная сахалинской каторгой. Да и та почти совсем не поется. Даже в сибирской каторге был какой-то оттенок романтизма, что-то такое, что можно было выразить в песне. А здесь и этого нет. Такая ужасная проза кругом, что ее в песне не выразишь. Даже ямщики, эти исконные песенники и балагуры, и те молча, без гиканья, без прибауток правят несущейся тройкой маленьких, но быстрых сахалинских лошадей. Словно на козлах погребальных дрог сидит. Разве пристяжная забалует, так прикрикнет:
– Н-но, ты, каторжная!
И снова молчит всю дорогу как убитый. Не поется здесь.
– В сердце скука! – говорят каторжане и поселенцы.
«Не поется» на Сахалине даже и вольному человеку. Помню, в праздничный какой-то день из ворот казарм выходит солдат-конвойный. Урезал, видно, для праздника. В руках гармония и поет во все горло. Но что это за песня? Крик, вопль, стон какой-то. Словно вопит человек от зубной боли в душе. Не видя, что человек веселится, подумать можно, что режут кого. Да и не запоешь, когда перед глазами тюрьма, а около нее уныло, словно тень, в ожидании заработка бродит старый палач Комлев.
В тюрьме поют редко. Не по заказу. Слышал я раз пение в Рыковской кандальной.
Дело было под вечер. Поверка кончилась, арестантов заперли по камерам. Начальство разошлось. Тюремный двор опустел. Надзиратели прикорнули по своим уголкам. Сгущались вечерние тени. Вот-вот наступит полная тьма. Иду тюремным двором, остановился как вкопанный. Что это, стон? Нет, поют.
Кандальники от скуки пели песню сибирских бродяг «Милосердные»… Но что это было за пение! Словно отпевают кого, словно похоронное пение несется из кандальной тюрьмы. Словно отходную какую-то пела эта тюрьма, смотревшая в сумрак своими решетчатыми окнами, отходную заживо похороненным в ней людям. Становилось жутко…
Славится между арестантами как песенник старый бродяга Шушаков, в селении Дербинском, – и я отыскал его, думая «позаимствоваться». Но Шушаков не поет острожных песен, отзываясь о них с омерзением.
– Этой пакостью и рот поганить не стану. А вот что знаю – спою.
Он поет тенорком, немного старческим, но еще звонким. Поет пригорюнившись, подпершись рукою. Поет песни своей далекой родины, вспоминая, быть может, дом, близких, детей. Он уходил с Сахалина «бродяжить», добрался до дому, шел Христовым именем два года. Лето целое прожил дома, с детьми, а потом «поймался» и вот уже 16 лет живет в каторге. Он поет эти грустные, протяжные, тоскливые песни родной деревни. И плакать хочется, слушая его песни. Сердце сжимается.
– Будет, старик! Он машет рукой:
– Эх, барин! Запоешь, и раздумаешься. Это не человек – это горе поет!
Но у каторги есть все-таки свои любимые песни. Все шире и шире развивающаяся грамотность в народе сказывается и здесь, на Сахалине. Словно слышишь всплеск какого-то все шире и шире разливающегося моря. В каторге очень распространены «книжные» песни. Каторге больше всех по душе наш истинно народный поэт, – чаще других вы услышите: «То не ветер ветку клонит», «Долю бедняка», «Ветку бедную», – все стихотворения Кольцова.
А раз еду верхом, в сторонке от дороги мотыгой поднимает новь поселенец, потом обливается и поет: «Укажи мне такую обитель» из некрасовского «Парадного подъезда». Поет, как и обыкновенно поют это, на мотив из «Лукреции Борджиа».
– Стой. Ты за что?
– По подозрению в грабеже с убивством, ваше высокоблагородие.
– Что ж эту песню поешь? Нравится она тебе, что ли?
– Ничаво. Промзительно.
– А выучился-то ей где?
– В тюрьме сидемши. Научили.
Приходилось мне раза три слышать: «Хорошо было Ванюшке сыпать» – переделку некрасовских «Коробейников».
– Ты что же, прочитал ее где, что ли? – спросил я певшего мне сапожника Алфимова.
– Никак нет-с. В тюрьме обучился.
Из чисто народных песен каторга редко-редко поет «Среди долины ровныя», предпочитая этой песне ее каторжное переложение:
– «Среди Данилы бревна»…
Бессмысленную и циничную песню, которую, впрочем, как и все, тюрьма поет тоже редко. Любят больше других еще и малороссийскую:
Солнце низенько,
Вечер близенько.
И любят за ее разудалый припев, который поется лихо, с присвистом, гиканьем, постукиванием в ложки «дисциплинарных» из бывших полковых песенников, с ругательными вскрикиваниями слушателей.
Почти всякий каторжанин знает, и чаще прочих поется очень милая песня:
Вечерком красна девица
На прудок за стадом шла.
Черноброва, круглолица
Так гусей домой гнала:
П р и п е в:
Тяга, тяга, тяга, —
Вы, гуськи мои, домой!
Мне одной любви довольно,
Чтобы век счастливой быть,
Но сердечку очень больно
Поневоле в свете жить.
П р и п е в.
Не ищи меня, богатый,
Коль не мил моей душе!
Что мне, что твои палаты?
С милым рай и в шалаше…
Или последний куплет варьируется так:
Вместо старого, седого,
Буду милого любить.
Ведь сердечку очень больно
Через злато слезы лить!..
Песня тоже нравится из-за припева. И помню одного паренька – он попался за какой-то глупый грабеж, – как он пел это «тяга, тяга, тяга, тяга!» Всем существом своим пел. Раскраснелся весь, глаза горят, на лице «полное удовольствие»: словно и впрямь видит знакомую, родную картину.
Очень принято и тоже чаще других поется сентиментальная песня:
Звездочка моя ночная,
Зачем до полночи горишь?
Король, король, о чем вздыхаешь,
Со страхом речи говоришь?
– Красавица моя драгая,
Да полюби-ка ты меня;
Со сбруей, сбруей золотой
Дарю тебе коня.
– Не надо мне твоей златницы,
Не нужен мне твой добрый конь —
Отдай, отдай коня царице,
Жене прелестной дорогой.
А мне, мне, красной ты девице,
Верни души моей покой… —
Король, с женою расставаясь,
Детей к благословенью звал:
«Прощай, жена, прощайте, дети! —
Едва от слез он им сказал. —
Живите в дружеском совете,
Как Сам Господь вам указал,
Не мстите злом за зло в ответе,
Платите добротой!» – сказал…
Эта сентиментальная песня про короля, кинувшего свое королевство из-за любимой девушки, поется с большим чувством.
Но все эти песни поются только молодой каторгой и вызывают негодование стариков:
– Ишь, черти! Чему обрадовались!
Особенно, помнится, разбесила одного старика песня про девицу, которая «гусей домой гнала». Припев «тяга, тяга» приводил его прямо в остервенение.
– Начальству жалиться буду! Покоя не даете, черти! – орал он. А это угроза на каторге необычная.
– Да почему ж тебе, дедушка, так эта песня досадила? – спрашиваю.
– А то, что не к чему ее играть. И, помолчав, добавил:
– Бередит. Тьфу!
Бог весть, какие воспоминания бередили в душе старого бродяги эти знакомые слова: «тяга, тяга».[41]
Из специально тюремных песен из Сибири на Сахалин пришли немногие. Если в тюрьме есть 5–6 старых «еще сибирских» бродяг, они под вечерок сойдутся, поговорят о «привольном сибирском житье»:
«Сибирь-матушка благая, земля там злая, а народ бешеный!»
И затянут под наплывом нахлынувших воспоминаний любимую бродяжескую: «Милосердные наши батюшки», – я приводил эту песню в статье: «Каторжный театр». Поют, и вспоминается им свобода, беспредельная тайга, саватейки, бешеный, но добрый сибирский народ. А сахалинская каторга, не знающая ни Сибири, ни ее отношений к каторге, смеется над ними, над их воспоминаниями, над их песней.
– Нешто это возможно, чтоб чалдон (по-нашему – обыватель) был к варнаку добрый! Ни в жисть не поверю! – говорил мне один – да и не один – сахалинец.
Есть еще излюбленная сибирская песня, которую время от времени затягивает каторга:
Вслед за буйными ветрами,
Бог защитник – мой покров,
В тундрах нет зеленой тени,
Нет ни солнца ни зари,
Вдруг являются, как тени,
По утесам дикари.
От Ангары к устью моря
Вижу дикие скалы, —
Вдруг являются, как тени,
По утесам дикари.
Дикари, скорей толпою
С гор неситеся ко мне, —
Помиритеся со мною:
Я – ваш брат, – боюсь людей…
Когда эту песню, рожденную в Якутской области, поет каторга, – от песни веет какою-то мрачною, могучею силой. Сколько раз я жалел, что не могу записать мотивов этих песен!
Интересно было бы записать напев и этой, когда-то любимой, а теперь умирающей каторжной песни:
Идет он усталый, и цепи гремят,
Закованы руки и ноги.
Покойный и грустный он взгляд устремил
По долгой, пустынной дороге…
Полдневное солнце бесщадно палит,
Дышать ему трудно от боли,
И каплет по капле горячая кровь
Из ран растравленных цепями…
Эта песня – отголосок теперь упраздняемых этапов.
И пела мне каторга свою страшную песнь, которую я назвал бы гимном каторги. Что за заунывный, как стон осеннего ветра, мотив. Всю душу истомившуюся вложила каторга в этот напев. И когда вы слышите эту песню, вы слышите душу каторги.
Посреди палат каменных, ты подай, подай!
Ты подай весточку в Москву каменную,
В Москву каменну, белокаменну…
Ты воспой, воспой, жавороночек,
Ты воспой, воспой! Ты воспой, воспой
Про ту горькую да неволюшку.
Кабы весть подать да отцу рассказать
Про то, что со мною случилося
На чужой на той сторонушке…
Я не вор ведь был, не убивец,
Но послали меня, добра молодца,
Попроведать каторги, распроклятой долюшки.
На чужой на той сторонушке
Больно тяжко ведь жить!
Эх, невеста моя!.. А ты, матушка!
Позабыла меня, словно сгинул я.
Но ведь будет пора, и вернусь снова я,
За все беды и зло уж я вам отплачу, —
Будет время, вернусь…
Ты о том подай, жавороночек,
Подай весточку, – ты подай, подай!..»
Мне пели ее в тюрьме под вечер, после поверки. Пели все. Здоровый парень, сидя на нарах и глядя куда-то вверх, покрывал хор своим заливным тенором и уныло выводил про жавороночка, пел про обиду и месть, словно мечтал вслух. А из темных углов неслось это надрывающее душу:
– Ты подай, подай…
Унылое, безнадежное. Горло себе перерезать можно, слушая такое пение.
Но все эти песни, в Сибири рожденные, на Сахалин привезенные, как я уже говорил, не любит каторга. Они «бередят». И если уж петь – она предпочитает другие, веселые. Их нельзя передать в печати. И что это за песни! Это даже не цинизм… Это совсем уж черт знает что: бессмысленнейший набор слов, из сочетания которых выходит что-то похожее на неприличные слова.
Вот вам что поет каторга. Говорят, что песня – это душа народа. И каторга поет песни, от которых то веет сентиментальностью, этим «суррогатом чувства», который часто заменяет у людей настоящее чувство, то вечно ноющей раной – тоскою по родине, то злобой, то пережитыми страданиями, то напускным куражом, то цинизмом и каторжной оголтелостью.
А чаще всего каторга молчит.







