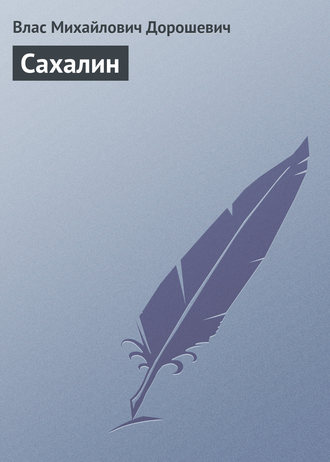
Влас Дорошевич
Сахалин
Голынский
Когда в 1897 году в Александровской тюрьме, где собрана вся «головка» каторги, все, что есть в ней самого тяжкого и гнусного, освободилось место палача, ни один из каторжан не захотел быть палачом. Это случилось в первый раз за всю историю каторги. К этому нельзя было даже принудить, и совершенно бесплодно тех, на кого пал выбор, держали в карцере.
Но тюрьма не может быть без палача.
И «вся команда» назначила палачом Голынского.
– И не хотел идти, а команда приказывает, ничего не поделаешь! – объясняет Голынский.
– Почему же вы его выбрали? – спрашиваю каторгу.
– Хороший человек. Добер больно.
Голынскому 47 лет. Но на вид не больше 35.
Удивительно моложавое, простодушное и глупое лицо. Гол как сокол, бегает в опорках, и при взгляде на него вы ни за что не сказали бы, что это палач.
– Голынский, а сколько ты сам плетей получил?
– Сто.
– А розог?
– Тысячи три.
И предобродушно улыбается.
«Терпит» Голынский сызмальства.
Он человек добрый, но вспыльчив, горяч страшно и, вспылив, зол невероятно.
Как и Комлев, он из духовного звания, учился в каменец-подольской семинарии и был сослан под надзор полиции за нечаянное убийство товарища во время драки.
– Остервенел шибко. Треснул его по голове квадратом, – он и отдал Богу душу.
Затем он 4 года служил в военной службе и попал в заговор: пятеро солдат сговорились убить фельдфебеля – «лют был». Голынский знал об этом, не донес и был осужден на 13 1/2 лет на каторгу.
Со сбавками по манифестам ему пришлось пробыть на каторге меньше; он вышел на поселенье, был уже представлен к крестьянству, не сегодня-завтра получил бы право выезда с Сахалина на материк, но:
– Голода не выдержал. Тут-то самая голодьба и началась, с переходом в поселенчество. В работники нанимался – да что на Сахалине заработаешь. Так и жил: где день, где ночь.
Эта голодьба кончилась тем, что он, вдвоем с таким же голодным поселенцем, убил состоятельного поселенца-кавказца.
– Я ж его и убивал. Сам-то был как тень. Взмахнул топором, ударил, да сам, вместе с топором, на него и повалился. А встать и не могу. Подняли уж.[25]
За это убийство Голынский получил 100 плетей и каторгу без срока. На этот раз в каторге ему пришлось туго.
Голынского оговорили, будто он донес о готовящемся побеге. И его избили так, что «до сих пор ноги болят».
Но и это не озлобило Голынского:
– За что ж я на всех серчать буду? А кто оговорил, тех до сих пор дую и вперед дуть всегда буду!
Этих клеветников он, говорят, бьет смертным боем при всякой встрече, а каторгу «жалеет»:
– Потому на своей шкуре и лозы, и манты (плети), и голод, – все вынес.
За эту жалостливость его и выбрали… в палачи. Сижу как-то дома, вдруг является Голынский. Лицо перетревоженное:
– Ваше высокоблагородие, пожалуйте завтра утром в тюрьму беспременно.
– Зачем?
– Говорят, драть будут. А при вас шибко драть не велят.
Этот «палач», хлопочущий, чтобы шибко драть не приказали, с перепуганным лицом, – трудно было удержаться от улыбки!
– И нескладный же ты человек, Голынский!
– Так точно; нескладный я в своей жизни человек, ваше высокоблагородие!
И предобродушно сам над собой смеется.
Хрусцель
Палач Рыковской тюрьмы Хрусцель – приземистый, стройный, необыкновенно ловкий, сильный человек. Весь словно отлит из стали. Серые, холодные, спокойные глаза, в которых светится страдание, когда он говорит о пережитых невзгодах. Присмотревшись повнимательнее, вы заметите асимметрию лица – один из признаков вырождения.
В каторгу попал за грабежи вооруженною шайкою где-то около Лодзи.
– Зачем в шайку-то пошел?
– Устроиться хотел. Думал деньги взять, ваше высокоблагородие. Земли совсем не было. С голоду опухал. Устроиться не было возможности.
На Сахалине он думал устроиться как-нибудь хоть «на новой жизни».
С собой он привез маленькие деньги, десятка два рублей, и завел в кандальном отделении Рыковской тюрьмы майдан.
Понемножку наживал, копил и мечтал, как выйдет на поселение и устроится своим домом.
Сам жил впроголодь, на одной арестантской порции.
– Бывало, лежишь ночью голодный. Не спишь. С голоду-то брюхо подводит. А в головах-то ящик стоит. Там молоко, хлеб, свинина. Хочется. Нет, думаю, не трону.
В этом ящике из-под свечей, стоявшем на нарах, в головах, у Хрусцеля было все, что он имел: деньги, товар. Все, что имел в настоящем, все его будущее.
По обычаю, вся камера должна следить за тем, чтоб имущество майданщика было цело. За то и по 15 копеек в месяц на брата берут.
Но Рыковская кандальная – самая голодная из тюрем.
– Разве у нас, ваше высокоблагородие, дадут человеку подняться? – со злостью говорит Хрусцель. – Зависть берет, как у человека что заведется. Злоба… У нас ничего нет, пусть и у другого не будет! По злобе одной всего лишат.
Однажды, вернувшись в камеру, Хрусцель увидел, что ящик разломан. Ни денег, ни товару не было. Кандальная уходила, улыбаясь.
– Спички жгли, папиросы раскуривали. Самые голодные жиганы на нарах дрыхли!
– Нажрались!
А три арестанта, самых отчаянных, из породы иванов, перед тем проигравшиеся догола, теперь сидели и на деньги в карты играли.
Ящик из-под свечей был не только разломан, а еще наделали всяких гадостей.
– Вошел – хохочут. Голова у меня пошла кругом, света не взвидел, – говорит Хрусцель.
– Шибко Хрусцель в те поры выл и об нары головой бился! От жадности! – рассказывают арестанты.
Наплакавшись, Хрусцель пошел к смотрителю и предложил себя в палачи. В то время при Рыковской тюрьме эта должность была свободной.
Смотритель был человек жестокий, и Хрусцель сразу сделался его любимцем. Драл Хрусцель невероятно.
– Кожу спускал – это верно. Не драл, а резал лозой. Шибко я в те поры всех их ненавидел.
Но затем у Хрусцеля «сердце отошло»: трое арестантов, которые сломали ящик, были приговорены за что-то к плетям, и наказывать их надо было Хрусцелю.
– Есть Бог на свете! – говорит Хрусцель и до сих пор еще ликует, когда рассказывает об этом наказании.
Радостью горит все его лицо при воспоминании.
– Через плечо их драл.
Удар плетью через плечо – самый жестокий.
– Боялся одного, чтоб сознания не лишились, – доктора отнимут. Нет, выдержали. Всем сполна дал.
Врагов Хрусцеля истерзанными, искалеченными, еле живыми унесли в лазарет.
– С тех пор перелом вышел. Порю – как велят. А лютости той нет. Мне все одно. Только бы начальническую волю исполнить.
Хрусцель живет в маленьком домишке. Ему выдали сожительницу. Молоденькая татарка. У них уже двое детей.
Доходы с каторги дали ему возможность обзавестись необходимым.
– У меня и корова есть. Две овцы! Свиней развожу на продажу! – любуется сам своим хозяйством, показывая его постороннему, Хрусцель.
Он занимается земледелием. У него огород.
– Сам все сажал.
И татарка, и он очень любят чистоту. В доме у них все блестит как стеклышко. А в переднем углу, на чистенькой полочке, лежат бережно казенные вещи: плеть, деревянная мыльница, бритва, – головы арестантам бреет тоже палач.
– Дэты, дэты нэ растаскайте прутья! Батка сердит будэт! – кричала татарка двум маленьким славным ребятишкам, игравшим в сенях прутьями, которые нарезал Хрусцель сегодня для предстоящего телесного наказания.
– Жалюны, жалюны – ужасти! – обратилась ко мне татарка, смеясь, и в ее смехе и в том, как она коверкала речь, было что-то детское и очень милое.
Таким странным казалось это блестевшее как стеклышко, полное детского лепета логово палача.
– Ну, вот я и устроился! – говорил мне Хрусцель, показывая свое «домообзаводство».
– А каторга не трогает у тебя ничего? Не разоряет?
– Не смеют. Знают – убью. Подсолнух тронут – убью.
И по лицу, с которым Хрусцель сказал это, можно быть уверенным, что он убьет.
А тех, относительно кого вполне уверены, что «он убьет», каторга не трогает.
Телесные наказания
Уголовное отделение суда. Публики два-три человека. Рассматриваются дела без участия присяжных заседателей: о редакторах, обвиняемых в диффамации, трактирщиках, обвиняемых в нарушении питейного устава, бродягах, не помнящих родства, беглых каторжниках и т. п.
– Подсудимый Иван Груздев. Признаете ли себя виновным в том, что, будучи приговорены к ссылке в каторжные работы на десять лет, вы самовольно оставили место ссылки и скрывались по подложному виду?
– Да что ж, ваше превосходительство, признаваться, ежели уличен.
– Признаетесь или нет?
– Так точно, признаюсь, ваше превосходительство.
– Господин прокурор?
– Ввиду сознания подсудимого от допроса свидетелей отказываюсь.
– Господин защитник?
– Присоединяюсь.
Две минуты речи прокурора. О чем тут много-то говорить?
– На основании статей таких-то, таких-то, таких-то…
Две минуты речи защитника «по назначению». Что тут скажешь?
Суд читает приговор:
– …К наказанию восемьюдесятью ударами плетей…
И вот этот Иван Груздев в канцелярии Сахалинской тюрьмы подходит к доктору на освидетельствование.
– Как зовут?
– Иван Груздев. Доктор развертывает его «статейный список», смотрит и только бормочет:
– Господи, к чему они там приговаривают!
– Сколько? – заглядывает в статейный список смотритель тюрьмы.
– Восемьдесят.
– Ого!
– Восемьдесят! – как эхо повторяет помощник смотрителя. – Ого!
– Восемьдесят! – шепчутся писаря.
И все смотрят на человека, которому сейчас предстоит получить восемьдесят плетей. Кто с удивлением, кто со страхом.
Доктор подходит, выстукивает, выслушивает. Долгие, томительные для всех минуты.
– Ну? – спрашивает смотритель. Доктор только пожимает плечами.
– Ты здоров?
– Так точно, здоров, ваше высокоблагородие.
– Совсем здоров?
– Так точно, совсем здоров, ваше высокоблагородие.
– Гм… Может, у тебя сердце болит?
– Никак нет, ваше высокоблагородие, николи не болит.
– Да ты знаешь, где у тебя сердце? Ты! В этом боку никогда не болит? Ну, может, иногда – понимаешь, иногда – покалывает?
– Никак нет, ваше высокоблагородие, николи не покалывает.
Доктор даже свой молоточек со злостью бросил на стол.
– Смотри на меня! Кашель хоть у тебя иногда бывает? Кашель?
– Никак нет, ваше высокоблагородие. Кашля у меня никогда не бывает.
Доктор взбешен. Доктор чуть не скрежещет зубами. Он смотрит на арестанта полными ненависти глазами. Ясно говорит взглядом: «Да хоть соври ты, соври что-нибудь, анафема!»
Но арестант ничего не понимает.
– Голова у тебя иногда болит? – почти уже шипит доктор.
– Никак нет, ваше высокоблагородие. Доктор садится и пишет: «Порок сердца». Даже перо ломает со злости. Смотритель заглядывает в акт освидетельствования.
– От телесного наказания освобожден. Ступай! Все облегченно вздыхают. Всем стало легче.
– В пот вогнал меня, анафема! В пот! – говорит мне потом доктор. – Ведь этакий дуботол, черт! «Здоров»! Дьявол! А ведь что поделаешь? Восемьдесят плетей! Ведь это же смертная казнь! Разве можно? Если б они видели, к чему приговаривают.
– Ваше высокоблагородие, нельзя ли поскореича! – пристали в Рыковской тюрьме к помощнику смотрителя два оборванных поселенца, один, Бордунов, – длинный как жердь, другой – покороче, когда мы с помощником смотрителя зашли днем в канцелярию.
– Ладно, брат, ладно. Успеешь!
– Помилуйте, ваше высокоблагородие. У меня хозяйство стоит. Рабочее время. Нешто можно человека столько времени держать? День теряю. Нешто возможно? Ваше высокоблагородие, явите начальническую милость! – Это приставал длинный как жердь.
Тот, что был покороче, даже шапку оземь бросил:
– Жисть! Волы стоят не кормлены, а тут не отпущают!
– Да вы зачем пришли? – спросил я.
– Пороться, ваше высокоблагородие, пришли, – отвечал длинный.
– Драть нас, что ли, будут, – пояснил короткий.
– А за что?
– Про то мы неизвестны!
– Начальство знает!
– За водку! – объяснил мне помощник смотрителя. – «Самосядку» (домодельную водку) курили.
– Никакой водки мы не курили!
– Жрать нечего, а то – водку!
– С поличным их поймали. Я ж и накрыл. С топором вот этот, большой-то, на меня бросился!
– Врет он все, ваше высокоблагородие, не верьте ему. Вовсе я на него с топором не бросался, а что бочонок топором расшиб – это верно. Вот его зло и берет. Зачем бочонок расшиб, – ему не досталось!
Помощник смотрителя буркнул что-то и выбежал взбешенный. Все кругом улыбались.
– Ты чего же, дурья голова, его злишь? Ведь хуже, брат, будет.
– Да ведь зло возьмет, ваше высокоблагородие. День теряем. Волы некормленные стоят.
– Нешто мы супротив дранья что говорим. Драть закон есть. А чтоб человека задерживать, закона нет.
Мы встретились с помощником смотрителя на дворе:
– Сегодня будут пороть пятерых по приговорам да вот этих двух! – пояснил он мне. – По приговорам что за порка! Только мажут! Приговоры – это не наше дело. Это в России постановлено. Те нам ничего не сделали. А вот этим двум мерзавцам показать надо.
Порка состоялась около пяти часов.
Мы с доктором пришли в канцелярию.
В сенях, широкие двери которых были открыты на двор, стояла «кобыла», лежали две аккуратно связанные вязанки длинных, аршина в два, розог.
– Доктор! Доктор! – заговорили по тюремному двору, и перед открытыми дверями сеней моментально образовалась толпа арестантов.
В тусклой и хмурой канцелярии по стенке стояло семь человек. В дверях с плетью стоял палач. Было тяжело, хмуро и страшно.
– Подходи.
Первым подошел Васютин Иван, молодой парнишка, бродяга, не помнящий родства, – 30 розог.
За ним шли двое кавказцев, потом еще один русский, бежавший из сибирской тюрьмы. Все – приговоренные к телесному наказанию по суду.
Сначала читали приговор, причем все в канцелярии вставали.
Затем шло освидетельствование, опрос, подвергался ли раньше телесным наказаниям, доктор писал акт освидетельствования.
Приговоренному подали бумагу:
– Грамотный? Подпиши!
– Что это? – спросил я.
– Расписка, что получил телесное наказание.
– Зачем?!
– Такой порядок.
Русские были оба грамотны и расписались, причем у Васютина буквы распрыгались вверх и вниз на полвершка друг от друга.
Рука его не дрожала, а ходуном ходила.
Татары долго не понимали, что от них требуется, им разъяснили через переводчика-арестанта, – тот с ними очень долго разговаривал, махал руками, о чем-то спорил и наконец говорил:
– Неграмотная она, вашескибродие!
Это тянулось ужасно, мучительно долго.
– Раздевайся! – кричали татарину. – Слышишь, ты, раздевайся! Переводчик, да скажи ему, чтоб он раздевался! Что ты стоишь как болван?
Переводчик начинал говорить, кричать, махать руками, приседал даже зачем-то. Кавказец смотрел хмуро, недоверчиво, отвечал односложно, мрачно.
– Раздевайся! – кричали ему все и показывали жестами, чтобы снимал рубаху.
Кавказец наконец медленно разделся. Доктор подходил к нему с трубочкой и молоточком. В глазах кавказца светились недоверие и страх. Он пятился.
– Да не пяться ты, черт! Не пяться, говорят тебе!
Кавказец пятился.
– Переводчик, болван, что ты стоишь как тумба? Объясни ему, что я ему ничего не сделаю!
Переводчик опять принялся кричать, жестикулировать, приседать. Кавказец слушал его недоверчиво, косился на доктора – которого он принимал за палача, что ли, – и вдруг сказал что-то коротко и односложно.
Переводчик с отчаянием всплеснул руками.
– Что он говорит?
– Спрашивать, трубочка у тебя зачем, вашискобродие!
Доктору пришлось положить трубочку и молоточек, чтобы выслушать наконец кавказца.
И на все это смотрел с улыбкой только один длинный поселенец Бардунов.
– Неосновательный народ! – заметил он, когда очередь дошла до него. – Порядку не знают.
– Раздевайся!
– Не имею надобности, ваше высокоблагородие. Всем здоров. Только беспокоить вашу милость занапрасно.
– Раздевайся, говорят тебе. Телесным наказаниям раньше подвергался?
– Ни в жисть, ваше высокоблагородие. Впервой!
– Потри его.
Надзиратель потер его тело суконкой. Тело покраснело, и на нем ясно выступили полосы – следы прежних наказаний.
– Что ж ты врешь! Драли?
– Запамятовал, ваше высокоблагородие… Я этих самых розог, ваше высокоблагородие, ни есть числа при господах смотрителях принял.
Было очевидно, что этот поротый и перепоротый арестант «валяет шута для храбрости». Его товарищ мрачно отвечал:
– Здоров. Скорее бы. Волы не кормлены. Раздевайся еще! Нате. Смотрите. Жисть! Драли. Много. Сколько, запамятовал.
Не упомню. Нешто у меня тем голова занята? Осмотрели? Слава Богу! Нельзя ли нас первыми? Там хозяйство.
Осмотренные одевались, но штанов не подвязывали, а поддерживали их руками.
– Все. Ну, ступай!
Хрусцель стал у «кобылы». Арестанты, переваливаясь, путаясь в полуспущенных штанах, вышли в сени.
– Бардунов, покажи удаль! – крикнул кто-то со двора. Стоявшие толпой арестанты оглянулись:
– Молчи ты, сволочь! Все стали по местам. Я стоял рядом с доктором, у него лицо шло пятнами.
– Васютин Иван! Молодой паренек подошел к «кобыле».
– Брось, брось штаны! – заговорили кругом. Но он только оглядывался, словно не мог понять, что ему такое говорят.
– Штаны брось! – сказал Хрусцель и отвел ему руки. – Ложись!
Васютин сел верхом на «кобылу», лицом к свету. Он был белый как полотно. Глаза бессмысленно смотрели вперед.
– Да не туда головой. Туда! Ложись! Хрусцель взял его за плечи, свел с «кобылы», положил.
– Руки убери! Обними руками «кобылу»! Васютин обнял руками доску.
– Вот так!
Хрусцель поправил ему рубаху.
Стыдно было, стыдно невероятно смотреть на полуобнаженного человека, лежавшего на «кобыле».
Хрусцель, словно пес, смотрел в глаза помощнику смотрителя.
– Тридцать розог!
Хрусцель взял пучок розог, необыкновенно ловко выдернул одну, отошел на шаг от «кобылы» и замер.
– Начинай!
Хрусцель свистнул розгой по воздуху, словно рапирой перед фехтованием, потом еще раз свистнул по воздуху справа, потом слева.
Свист резкий, отчаянный, отвратительный.
– Раз! Свист, и на вздрогнувшем теле легла красная полоса.
– Два… Три… Четыре… Пять… Хрусцель бросил розгу, выхватил другую, перешел на другую сторону «кобылы». Опять пять ударов по другой стороне тела.
Каждые пять ударов он быстро менял розгу и переходил с одной стороны на другую.
Свист заставлял болезненно вздрагивать сердце. Мгновения между двумя ударами тянулись как вечность.
Помощник смотрителя считал:
– Двадцать девять… Тридцать…
– Вставай… Вставай же! Васютин поднялся и сел опять верхом на «кобылу». Глаза его были полны слез. Вот-вот потекут.
– Совсем вставай! Иди же!
– Две с половиной минуты! – сказал смотревший на часы доктор.
Я думал, прошло полчаса.
– Медников Иван!
Опять обнаженный до пояса, лежащий на «кобыле» человек. Снова свист, вздрагивания, красные полосы. Теперь плети!
Хрусцель отложил розги, взялся за плеть и ловким движением разложил длинную плеть по земле.
– Хрусцель, клади их.
Хрусцель брал кавказцев за плечи, подталкивал к «кобыле», поднимал им руки и клал на «кобылу». Те тяжело рухались и лежали с темным обнаженным телом.
Наказание было по приговорам.
Хрусцель по взгляду понял приказ помощника смотрителя и взял плеть за середину, там, где ствол плети переходил в треххвостку. Наказание – «в полплети».
Хрусцель вертел свою плеть, словно ручку шарманки, три хвоста хлопали по телу, тело краснело и пухло.
– Бардунов!
С бледным-бледным лицом он подошел к «кобыле», сделал какую-то жалкую-жалкую гримасу, хотел улыбнуться.
Начал ложиться на «кобылу».
– Штаны, штаны брось! – остановил его Хрусцель.
– Ежели законный порядок требует…
Бардунова колотила дрожь, он беспомощно оглядывался кругом, словно затравленный заяц, и все силился улыбнуться, – выходила гримаса.
Хрусцель толкнул его слегка в шею.
– Ложись!
Бардунов повалился и крепко ухватился за доску, чтобы не кричать, быть может.
Хрусцель снова пустил плеть «по земли». Зловещее движение.
Это было наказание не по приговорам, а уж сахалинское.
Тихо было, словно кругом никто не дышал.
Хрусцель впился глазами в помощника смотрителя.
Тот стоял, переминаясь на месте, смотрел на меня, на доктора… и сделал какое-то движение головой.
Хрусцель взял «в полплети».
Словно один какой-то огромный человек вздохнул в сенях и на дворе.
По телу Бардунова пробегали судороги.
Бог знает, какого удара ждал этот человек, и задрожал весь мелкой дрожью, когда посыпались сравнительно слабые удары.
– Ваше высокоблагородие, ваше высокоблагородие, за что же наказывают? Нешто возможно! – послышался его голос, но словно не его, какой-то странный. – Нешто возможно?!
На дворе в толпе раздались смешки.
– Шута строит! Привык! – пробормотал помощник смотрителя.
Бардунов поднялся, захватил в руки штаны и, не натянув их, бросился в толпу арестантов.
Видя, что наказание на этот раз не будет страшным, его товарищ, Гусятников, короткий и мрачный мужик, лег спокойно, без звука вздрагивал при каждом ударе и, сходя с «кобылы», даже проворчал:
– Только продержали день зря. Волы не кормлены!
– Так уж, пожалел мерзавцев! – умилялся своей гуманностью помощник смотрителя.
Хрусцель ловко и проворно убирал розги и «кобылу».
– Ты чего же не одеваешься?
Васютин стоял у притолоки дверей канцелярии как столб, с голыми ногами. Штаны с него свалились.
Он икал. Крупные слезы катились по щекам.
Было страшно и стыдно смотреть на этого парнишку.
Он из военной службы, сделал какое-то преступление, бежал и, боясь наказания, «скрыл свое родословие», сказался бродягой Иваном Васютиным, не помнящим родства.
– Как же тебя к розгам приговорили?
Бродяг обыкновенно приговаривают к полутора годам принудительных работ и затем – на поселение. Розги им прибавляют, если они почему-либо «путают», не называют себя просто «бродягой непомнящим», а именуются ложным именем: крестьянин, мол, такой-то деревни, – а пошлют туда, окажется, что нет. Опытный бродяга делает это в надежде удрать во время пересылки. Но зачем этому?
– Ты что же, чужим именем назвался?
– Так точно.
– Зачем? Бежать с дороги хотел?
– Нет.
– Тогда зачем же?
– В тюрьме знающий человек нашелся, сказал, что так сделать нужно. Я и сделал.
– Ты в первый раз этому-то подвергался?
– В первый.
И по щекам его еще сильнее текли слезы. И заикал он сильнее.
А у ворот тюрьмы, когда я выходил, сидел теперь уж совсем оправившийся Бардунов и бахвалился:
– Мне, братцы мои, что на «кобылу» ложиться, что к жене под бок, – все единственно. Потому, вот как я к ней привык.







