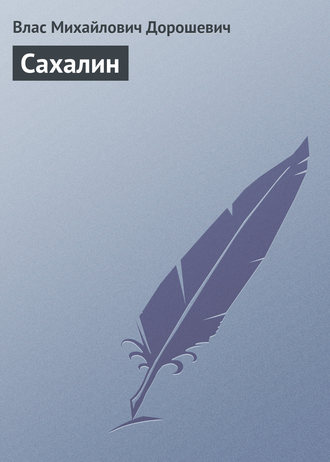
Влас Дорошевич
Сахалин
Каторга и религия
На Сахалине одиннадцать церквей, но религиозна ли каторга?
Мне вспоминается такая картина.
Светлый праздник. Ясная, холодная, чуть-чуть морозная ночь. Владивосток то там, то здесь словно вспыхнул – иллюминованы церкви. Налево от нас огнями сияет «Петербург». Несколько подальше гигант «Екатеринослав» кажется каким-то призрачным кораблем, сотканным из света.
«Христос воскресе!» – несется над тихим рейдом. Небо так бездонно. Звезды так ярко горят.
На нашем «Ярославле» радостное оживление. Из кают-компании доносится стук посуды – приготовляют разговляться. По палубе мигают свечки конвойных и команды. Мы целуемся друг с другом особенно сердечно. Словно действительно стали друг к другу ближе, роднее. Как-то особенно чувствуется в эту ночь, вдали от дома, от близких…
И только там, в трюме, тихо как в могиле. Среди радостного ропота «Воистину воскресе» батюшка идет кропить святой водой палубу. Мы проходим мимо «особых мест», выходящих на палубу. Я заглядываю в иллюминатор. Там несколько человек. Хотя бы кто встал, пошевелился при пении проходящих мимо певчих, когда в иллюминатор виден священник с крестом.
Мне особенно запомнилось лицо одного старосты отделения, обратника. Я словно сейчас вижу перед собой это лицо. Он смотрит на проходящую мимо процессию и – ничего, кроме спокойного равнодушия.
– Ишь, мол, сколько их!
Он даже не перекрестился, когда, проходя мимо, ему чуть не в лицо запели «Христос воскресе».
Так встретить Пасху – сердце невольно сжимается.
– Будет батюшка обходить арестантские отделения? – спрашиваю я у старшего офицера.
Через полчаса он подходит ко мне. У него какой-то смущенный вид:
– Знаете, я думал просить батюшку обойти отделения… Пошел, а они все спят.
Спать тихо и мирно в такую ночь. И это после тех душу переворачивающих сцен, которые я видел во время исповеди еще месяц тому назад. Но в том-то и дело, что в каторге человек с каждым днем сердцем крепчает, как объяснил мне один каторжанин-сектант.
Английский миссионер, член библейского общества, посетивши сахалинские тюрьмы, раздавал каторжанам молитвенники. Очередь дошла до старого каторжанина Пазульского. Он в высшей степени вежливо и почтительно поклонился миссионеру и, отдавая назад книгу, холодно и вежливо сказал переводчику:
– Скажите господину, чтоб он отдал книгу кому-нибудь другому: я не курю.[42]
Большинство каторги – атеисты. И если кто-нибудь из каторжников вздумает молиться в тюрьме, – это вызывает общие насмешки. Каторга считает это слабостью, а слабость она презирает.
Как они доходят до отрицания? Одни – своим умом.
– Вы верите в Бога? – спросил я Паклина, убийцу архимандрита в Ростове.
– Нет, всякий за себя, – отвечал он мне кратко и просто.
Полуляхов, убийца Арцимовичей в Луганске, относился, по его словам, с большой симпатией к людям религиозным, любил их.
– Ну, а сами вы?
– Я по Дарвину.
– Да вы читали Дарвина?
– Потом уж, после убийства, случалось.
Из разговоров с ним можно было видеть, что он Дарвина действительно читал, хотя и понял его чрезвычайно своеобразно, по-своему.
– Где же Дарвин отрицает существование Бога?
– Так. Жизнь, по-моему, это борьба за существование.
Борьба за существование, понятая грубо, совсем по-звериному, – вот их религия.
Некоторые дошли до отрицания, так сказать, путем опыта.
– Вздор все это, – с улыбкой говорил мне один каторжанин, – я видал, как люди умирают…
А он имел право это сказать: он действительно видал.
– Меня самого это интересовало. Я нарочно убивал и собак. Одинаково умирают. Никакой разницы. Смотришь, что ему в это время нужно: чтоб пришибить его только поскорее, чтоб не мучился.
Как доходят в каторге не только до отрицания – до ненависти к религии, ненависти, высказывающейся в невероятных кощунствах.
– В этаком-то болоте нетрудно потеряться, – говорил мне в Корсаковском округе одесский убийца Шапошников в одну из тех минут, когда ему приходила охота говорить здраво и не юродствовать.
Мне вспоминается один каторжанин. Он трактирщик из Вологодской губернии. В его заведении случилась драка между двумя компаниями. Он принял сторону одной из них и кричал:
– Бей хорошенько!
В результате – один убитый, и его обвинили в подговоре к убийству. Говоря о своем разрушенном благосостоянии, о своей покинутой семье, о том, что ему пришлось и приходится терпеть на каторге, – он весь дрожал и начал говорить такие вещи, что я его остановил:
– Что ты! Что ты! Что говоришь? Бога побойся! Ведь ты христианин.
Несчастный схватился за голову:
– Барин, барин, ума я здесь решаюсь.
Мне вспоминается одна сцена, разыгравшаяся перед поркой. Наказанию подлежал бессрочный каторжанин Федотов, 58 лет. Он сослан на Сахалин за разбой. Бежал, разбойничал в Корсаковском округе в шайке беглых, убил, защищаясь при поимке, крестьянина. Затем вместе с одним бывшим инженером-технологом был пойман в подделке пятирублевых ассигнаций и, наконец, украл из церкви ножичек.
– Бог меня из огорода выгнал, красть у него стал. С тех пор без Бога и хожу, – с грустной улыбкой объяснил мне Федотов.
За свои три преступления Федотов получил три раза по сто плетей и был три года прикован к тачке. Теперь у него развился сильнейший порок сердца. Он еле ходит, еле дышит. Страдает по временам сильными головокружениями и психически ненормален: его подозрительность граничит прямо с бредом преследования. Во время припадков головокружения он кидается с ножом на докторов и на начальство. В обыкновенное же время это очень тихий, кроткий, добрый человек, слабый и крайне болезненный.
Преступление, за которое он подлежал наказанию на этот раз, заключалось в следующем. Боясь, что в Рыковском доктор лечит его не «как следует», Федотов без спроса ушел в Александровское к доктору Поддубскому, которому вся каторга верит безусловно. За побег он и был присужден к 80 плетям. Еще не подозревая, что мне придется перед вечером встретиться с Федотовым при такой страшной обстановке, я беседовал с ним. Он подошел ко мне с письмом.
– От кого письмо?
– Собственно от меня.
– Зачем же писать было?
– Не знал, будете ли с таким, как я, говорить. Да и высказать мне все трудно – задыхаюсь. Видите, как говорю.
В письме Федотов «считал своим долгом» известить меня, что каторга относится к моей любознательности с большим сочувствием, просил меня «никому не верить» и каторги не бояться: «кто к нам человек, к тому и мы не звери». И в заключение выражал надежду, что мое посещение принесет такую же пользу, как и посещение «господина доктора Чехова».
И вот в тот же день мы встретились с Федотовым при таких обстоятельствах.
В числе других подлежавших наказанию был приведен в канцелярию и ничего не подозревавший Федотов. В сторонке скромно стоял палач Хрусцель со своими «инструментами», завернутыми в чистую холстину, под мышкой. Около дверей с испуганными, растерянными лицами толпились подлежавшие наказанию.
Я с доктором и помощником смотрителя сидел у присутственного стола.
– Федотов!
Федотов с тем же недоумевающим видом подошел к столу своей колеблющейся походкой слабого человека.
– Зачем меня, ваше высокоблагородие, изволили спрашивать?
– А вот сейчас узнаешь. Встаньте, пожалуйста: приговор, – обратился ко мне помощник смотрителя и начал скороговоркой «вычитывать приговор». – Принимая во внимание… признавая виновным… восемьдесят плетей…
Чем далее читал помощник смотрителя приговор, тем сильнее и сильнее дрожал всем телом Федотов. Он стоял, держась рукою за сердце, бледный как полотно, и только растерянно бормотал:
– За отлучку-то… за то, что к доктору сходил.
И когда кончили читать приговор и мы все сели, он, удивленно посмотрев на нас всех с величайшим недоумением, сказал:
– Вот так Бог. Значит, пусть отнимают жизнь…
Сказал, шагнув вперед, и вдруг все лицо его исказилось. Его забило, затрясло. Вырвался страшный крик.
И посыпался целый ряд таких кощунств, таких страшных богохульств, что действительно жутко было слушать. Федотов рвал на себе волосы, одежду, шатаясь, ходил по всей канцелярии, ударялся головой об стены, о косяки дверей и вопил не своим голосом:
– Режьте, душите, бейте меня. Хрусцель, пей мою кровь… Надзиратель, убей меня…
Он кидался на надзирателей, разрывая на себе рубашку и обнажая грудь:
– Убейте. Убейте.
И пересыпал все это такими богохульствами, каких я никогда не слыхивал и, конечно, никогда уж больше не услышу. Трудно себе представить, что человеческий язык мог повернуться сказать такие вещи, какие выкрикивал этот бившийся в припадке человек.
Становилось трудно дышать. Доктор был весь бледный и трясся. Перепуганный помощник смотрителя кричал:
– Выведите его! Выведите его!
Федотова схватили под руки. Он вырывался, но его вытащили, почти выволокли из канцелярии. Теперь его вопли слышались со двора.
– Да разве его будут наказывать с пороком сердца? – спросил я.
– Кто его станет наказывать. Разве его можно наказывать, – говорил дрожащий доктор.
– Так зачем же вся эта история? Для чего? Что ж прямо было не успокоить его, не сказать вперед, что наказание приводиться в исполнение не будет, что это только формальность – чтение приговора? Ведь он больной.
– Нельзя-с, порядок, – бормотал юноша, помощник смотрителя.
Вот, быть может, одна из тех минут, когда гаснет вера и злоба, одна злоба на все просыпается в душе.
– Какой я есть православный христианин, – часто приходилось мне слышать от каторжан, – когда я и у исповеди, святого причастия не бываю.
Многие просто отвыкают от религии.
– Просто силком приходится гонять, – жалуются и священники и смотрители.
Обыкновенно же это уклонение имеет своим источником глубоко религиозное чувство.
– Нешто тут говение, – говорят каторжане. – Из церкви придешь, а кругом пьянство, игра, ругня. Лоб перекрестишь – гогочут, сквернословят. Исповедуешься, придешь, – ругаться. До причастия-то так напоганишься, – ну, и нейдешь. Так год за год и отвыкаешь.
И сколько истинно глубоко религиозных людей «отвыкает». Говоришь с ним, слушаешь – и диву даешься: «Да неужели все это люди из простой, верящей, религиозной среды?»
– Помилуйте, где ж тут, какому тут уважению к религии быть, – говорил мне один из священнослужителей в селении Рыковском. – Еще недавно у нас покойников голых хоронили.
– Как так?
– Так. Принесут в гробу голого, и отпеваем. Соблазн.
– А где ж одежда арестантская?
– Спросите… Не похороны, а смех.
Большой удар религиозному чувству каторги наносят и эти незаконные сожительства, отдачи каторжниц поселенцам, практикуемые «в интересах колонизации». Одно из величайших таинств, на которое в нашем народе смотрят с особым почтением, профанируется в глазах каторги этими «отдачами».
– Чего уж тут молиться, – услышите вы очень часто, – чего тут в церковь ходить. В этаком грехе живем. У нее вон в Рассее муж жив, а ее чужому мужику дают: живи!
Или:
– Муж в каторге в Корсаковском, а жену в Александровское: с чужим живи.
Помню «ахи» и «охи», какие возбудило в Рыковском прибытие Горошко – мужа, добровольно последовавшего в каторгу за женой.
– Ну, дела, – качали головой поселенцы. – За ней муж из Рассеи добровольно идет, а ее здесь тем временем трем мужикам по переменкам отдавали.
Брак потерял в глазах каторги значение таинства: изредка, очень-очень изредка услышишь очень робкий вздох сожительницы-каторжанки:
– Оно хорошо бы повенчаться. Венчанным-то на что лучше.
Но большинство, не все, рассуждают так.
– Не крученым не в пример лучше. Не ндравится – сменил. Ровно портянку.
– Разве здесь заботятся о поддержке религиозного чувства среди каторжных, – жалуются священники.
Каторжник считается человеком отпетым. И всякое человеческое чувство считается ему чуждым.
– Это все нежности, сентиментальности и одна гуманность, – говорят господа сахалинские служащие.
Каторжные, только разряда исправляющихся, освобождаются от работ в последние три дня Страстной недели. Но частному предпринимателю Маеву, в посту Дуэ,[43] понадобилось, чтоб каторжане работали и эти три дня. Равнодушная ко всему, каторга махнула рукой и пошла. Это незаконное распоряжение остановил только священник в Дуэ. Он вышел навстречу к рабочим, шедшим в рудники, с крестом в руках; это было в Страстную пятницу. Каторга опамятовалась и вернулась в тюрьму.
Старики Дербинской каторжной богадельни, эти страшные старики-нищие, которые все на свете презирают, кроме денег, жаловались мне, что они:
– Священника-то даже и в глаза не видят. На Пасху и то не был.
А дербинский священник говорил мне:
– Я ходил и вел с ними собеседования, но перестал: они не умеют себя вести. Тут читаешь, ведешь беседу, а в другом углу во все горло ругаются между собою площадными словами. Смеются. Я и прекратил свою деятельность.
– Мне, наоборот, казалось бы, что тут-то и следует ее усилить.
Но батюшка только посмотрел на меня с изумлением.
В библиотеке Александровского лазарета я нашел предназначенные для духовно-нравственного чтения каторжанам следующие книги:
16 экземпляров брошюры «О том, что ересеучения графа Л. Толстого разрушают основы общественного и государственного порядка».
21 экземпляр брошюры «О поминовении раба Божия Александра» (поэта Пушкина).
4 экземпляра «Поучения о вегетарианстве».
14 экземпляров брошюры «О театральных зрелищах Великим постом».
Конечно, это играет огромную роль: эти брошюры о Толстом, о существовании которого они и не подозревают, о вегетарианстве, о котором они никогда и не слыхивали, и особенно о театральных зрелищах Великим постом.
И в то же самое время в этой библиотеке на Сахалине, так хорошо вооруженной против театральных зрелищ, имеется для раздачи каторжным всего 5 экземпляров «Нового Завета» и только 2 экземпляра «Страстей Христовых».
Вот и все.
Сектанты острова Сахалин
I
Большинство каторги – все это простой русский народ, «к Богу привычный»; должна же религиозность прорваться в виде протеста, прорваться ярко, страстно, горячо, фанатически.
И она прорвалась.
В селении Рыковском и окрестных возникла секта православно-верующих христиан. Секта эта ниоткуда не занесенная, чисто сахалинского происхождения. И возникла она, быть может, именно как невольный протест против атеизма каторги. Когда я был на Сахалине, сахалинские «православные христиане» претерпевали «гонение», что еще более закаляло их в сектантской вере.
На мой вопрос, что это за секта, священник села Дербинского, «воздвигший на них гонение», очень оригинальный сахалинский батюшка, из бурят, отвечал мне:
– Молокане.
И от самих сектантов я слышал:
– Христос есть камень, о который разбиваются неверующие, к примеру сказать, хоть молокане.
Секта странная, как странна ее родина, как необычайны люди, ее основавшие.
Батюшка из бурят, богословски, по его словам, «особенно не образованный», не особый знаток в определении сект.
Он и «гонение воздвиг», т. е. начал дело о молоканах после того, как потерпел крушение на мирном пути. Прослышав о появлении сектантов, он устроил с ними собеседования; но сектант Галактионов, Писание знающий действительно как таблицу умножения, начал «предерзко засыпать батюшку ложно толкуемыми текстами». Собеседования эти были так «соблазнительны», что священник их прекратил и нашел, что секта, с которой он борется, не простая, а опасная.
А опасная секта – это, по мнению батюшки, молоканство.
И вот страстные сектанты ждали, дождаться не могли «гонений» за то, что они исповедуют будто бы молоканство. Им страстно хотелось именно «неправедного гонения».
– Пусть ижденут нас за напраслину!
И они готовились к этому гонению за напраслину радостно, как к мученичеству.
Сахалинская секта православных христиан, еще раз повторяю, секта странная; в ней всего есть: и молоканства, и духоборчества, есть несколько и хлыстовщины.
Хотя у этой секты и есть «Иисус Христос», но главою ее, истинной душой следует считать «апостола Павла» – Галактионова.
II
Легким, широким шагом, позванивая на ходу железным посошком, идет по дороге Галактионов.
Зажиточный поселенец, он одет как прасол, в пиджаке, в длинных сапогах. Длинные светлые волосы падают на плечи. Белокурая бородка. Взгляд голубых глаз ясный и открытый. На лице вдохновенная дума.
Может быть, в эту минуту стихи сочиняет.
У Галактионова около 200 стихотворений. И стихи он любит сочинять «жалостные».
– Чтоб петь можно было.
Для примера приведу одно:
Я ошибкой роковою
Как-то в каторгу попал,
Уже сколько, я не скрою,
Наказанья я принял:
Розги, плети, даже кнут
Часто рвали мою плоть, —
Уж душа ли, – что на свете? —
Позабыл меня Господь.
Остальные стихотворения в том же роде.
Галактионову лет под сорок. Но он старый сектант. Сектант в третьем, быть может, в четвертом поколении. Как попали его прадеды в Томскую губернию, он не знает, но деды его в 1819 году были сосланы из Томской губернии «от Туруханска по Енисею, за 400 верст». Родители три раза судились за духоборство.
Галактионов родился «неспроста, а для большого дела». Пророк Григорьюшка Шведов за три года предсказал его рожденье и объявил, что будет жить в нем. Когда пришла смерть, Григорьюшка собрал всех, встал, поклонился:
– Ну, теперь до свиданья все! И умер.
– С тех пор я начал жить.
– А помнишь ты, Галактионов, как ты Григорьюшкой Шведовым на свете жил?
– Для чего не помнить! Все помню!
И Галактионов начинает рассказывать то, что он, вероятно, слышал в детстве от старших о пророке, но относительно чего уверовал, что это было все с ним.
Предназначенный с детства «для большого дела», он жил, погруженный в изучение Писания, которое надо знать.
– Вот как вы табель умножения знаете. Ночью вас спросить: «Пятью пять, сколько?» – вы ответите. Так и я всякое место Писания знать должен.
Сектантское увлечение довело Галактионова до галлюцинаций. При встрече с духовными лицами он видел их в образе дьявола. Отсюда оскорбления и ссылки. У Галактионова была своя заимка, небольшие золотые прииски; его их лишили и сослали в Камчатку. Из Камчатки сослали, с лишением всех прав, на поселение на Сахалин, как значится в статейном списке, «за порицание православной веры и Церкви».
На Сахалине Галактионова сразу невзлюбили все.
– Если б я сказал: «Пойдем и обворуем», меня бы полюбили все.
А Галактионов занимался тем, что садился на завалинку, всякого прохожего останавливал и поучал текстами.
Предназначенный от рождения к «большому делу», он на Сахалине, среди населения порочного и падшего, превратился в обличителя.
– Передо мной живой человек, словно рыба, вынутая на песок, трепыхается и бьется, а я его текстами, текстами.
Отправляясь на завалинку, Галактионов говорил себе:
– Возьму кинжал, повешу его на бедро. Сегодня я должен убить несколько человек.
– Тут и так-то человеку дышать нечем. А я его текстом режу.
– На букве я как на троне сидел, и буквой как мечом убивал! – говорит про себя Галактионов.
– И гнал я человека, аки Савл!
– Люди и так в потемках бродили, а я им своими толкованиями тьму еще темнее делал. Это все равно что пришел бы к человеку болящему доктор ученый и рассказал бы ему все подробно, что за болезнь и что от болезни будет. И, духу лишивши, хладно бы отвернулся и спокойно бы ушел.
Недовольство обличителем все росло и росло.
И в это самое время до Галактионова стали доходить слухи о живущем в селении Рыковском ссыльнопоселенце Тихоне Белоножкине, который всем помогает и никого не осуждает.
Отношение Тихона Белоножкина к преступникам действительно преудивительное.
Грозой Сахалина был беглый тачечник Широколобов, о котором я уже упоминал. Убийца-изверг, привезенный на Сахалин из Забайкалья прикованным к мачте парохода. Когда Широколобов бежал, весь Сахалин только и думал:
«Хоть бы его убили!»
Широколобова боялись и ненавидели все, а Тихон Белоножкин сам ему у себя приют предложил. Широколобов даже диву дался.
– Мне?
– Дела твои я осудил, а не тебя. Дела твои дурные, а кто в том повинен, что ты их делал, про то нам неизвестно.
И целую ночь, по словам Галактионова, Широколобов провозился да просопел в подполье.
– Заснуть не мог, себя было жаль. Сам потом говорил, что так думал: «Должен я теперь бечь и убивать и грабить, а что мне иначе-то делать?»
А утром ушел и никого не тронул, с Тихоном как с братом простился.
Такое отношение к преступлению и преступникам Тихона Белоножкина производило сильное впечатление, и вести о Белоножкине дошли до Галактионова как раз в то время, когда озлобление окружающих против обличителя достигло крайних пределов.
– Начал я в те поры колебаться. Проповедую, а вижу: озлобление мною в мир входит.
И заинтересовал Галактионова Тихон. Пошел.
– До трех раз к нему ходил. До ворот дворца доходил, а во дворец не заходил. Раздумывал. «Как, мол, так, с детства все Писание знаю и все, что говорю, по текстам. Чему ж меня может мужик сиволапый научить?» И ворочался.
А в третий раз зашел.
– Застал четверых. И сразу, никогда не видавши, его узнал. Поклонился, говорю: «Здравствуйте». А он мне: «Я тебя ждал. Видели мы все звезду яркую, подошедшую к солнцу». – «А сколько, – спрашиваю, – раз звезда к солнцу подходила?» – «До трех раз». Тут я и затрясся. «Три раза, – говорю, – я к тебе ходил». А Тихон смеется так радостно. «И это, – говорит, – я знаю». Тут я ему про свои колебания и начал. И пошел, и пошел. А он все смотрит, радостно смеется. «Писанье, – говорит, – что о Христе писано, все знаешь. Чего ж теперь-то тебе нужно?» – «Христа, – говорю, – ищу». – «Ну, и ищи. Найдешь». Тут я ему в ноги пал: «Помилуй». Лежу, а надо мной голос, да такой милый. «Раньше, – говорит, – ходил ты, Савл, по букве разящей, а теперь будешь ходить, Павел, по букве животворящей». Заплакал я, бьюсь как рыба у ног, а он меня поднимает да целует, целует. Заглянул я к нему в очи. Очи – как окна, заглянул в горницу, а там так мило. И увидал я, как в горнице у него мило, – скудость-то я своей горницы познал, что украшал ее гробами великолепными. А у него-то в горнице все живое.
«Горницей» Галактионов называет, конечно, душу.
– И увидав, что у него-то в горнице все живое, а у меня гробы великолепные, заплакал я. А он-то все меня целует: «Не плачь! Теперь ты человек живой». Говорит: «Не плачь», а сам в три ручья плачет. Я и спрашиваю: «Как же ты мне велишь радоваться, а сам плачешь?» – «Это ничего, – говорит, – я за всех должен плакать, а ты не плачь». Тут-то я и понял вконец.
– Что понял?
– Кто есть Тихон Белоножкин.
– Кто же?
– Иисус.
– Ну, слушай, Галактионов, ведь ты же человек ученый…
– Премудрость! – с улыбкой перебил Галактионов.
– Ты же знаешь, что Иисус Христос жил земной жизнью восемнадцать сот лет тому назад.
– И теперь живет.
– Как так?
– А разве может когда без Христа быть? Тогда Христос за грехи людские пострадал. А новые все накапливаются. За нихто кто же страдать будет? Посмотрите кругом. Один убил – бедность да нищета довела, другого злость человеческая заставила. Все не они виноваты. Кто же за это страдать должен?
– Так что, всегда Христос живет в мире?
– Всегда. Один отстрадает. Другой страдать идет.
– Ну, а за что Тихон на Сахалин сослан?
– За убийство! – не мигнув, отвечает Галактионов. – Двух человек он убил.
– Как же так помирить?
– Воронежский он. Из зажиточных. У его отца еще с арендатором соседским вражда была. Дальше да больше. Едут раз из города вместе. Арендатор-то и думает: «нас много». Напали на Тихона. А Тихон-то взял оглоблю, да во зле арендатора по башке цоп! А потом арендаторша подвернулась, – он и ее цоп. Так злоба вековечная убийством и кончилась.
– Он же убил! Он убийца!
– Не он убил, злоба убила. Злоба копилась-копилась в двух семьях и вырвалась. Он за эту злобу каторгу и перенес.
Во главе сахалинских православно-верующих христиан Тихона Белоножкина поставил, несомненно, Галактионов. Это он, фанатичный и страстный, убедил Белоножкина в его высокой миссии. Скромному Тихону в голову бы не пришло называться таким именем.
Тихон Белоножкин еще дома, в Воронежской губернии, сокрушался, что кругом никто «по-божески» не живет, и искал такой веры, чтобы «не только с мертвыми ходили целоваться, а и с живыми целовались; а то с мертвыми-то прощаются, а живым не прощают».
Попалось под руки молоканство, он и принял молоканство.
Но к прибытию на Сахалин Тихон Белоножкин и в молоканстве разочаровался:
– Не то это все. Не настоящее.
И начал вести свои тихие и кроткие беседы с каторжанами, – как, по его мнению, по-настоящему следует верить и поступать. Его теория о неосуждении, быть может, и привлекла к себе сердца в силу контраста; кругом на Сахалине каторжнику всякое лыко в строку ставят, а тут человек говорит:
– Деянья твои осуждаю, а не тебя.
И людям, которых все считают виновными, стал именно мил человек, считающий их ни в чем не виновными.
– Ведь вон, почему мы кошку любим! – говорил мне с улыбкой каторжанин, поглаживая бродившую по нарам кандальной худую, тощую кошку. – Потому для всех мы виноватые, а для кошки мы ничем не виноваты. Кошке все одно: что вы, что я.
Тихон Белоножкин, это несомненно, пользовался всегда особыми симпатиями каторги – и не одной каторги. Есть что-то в этом кротком человеке, что производит впечатление. Он отбывал каторгу при смотрителе, который не признавал непоротых арестантов. Тихон Белоножкин – единственное исключение.
– Придет на раскомандировку злой, – рассказывают каторжане, – двадцать—тридцать человек перепорет. Так и глядит рысьими глазами: кого бы еще! А увидит Тихона, глаза переведет: «Ты, – скажет, – тихоня! Стань на заднюю шеренгу». Не любил, когда Тихон на него смотрит.
Это казалось каторге непостижимым. И некоторые совпадения привели каторгу к мысли, что Белоножкин – человек «особенный».
Белоножкин с вечера ни с того ни с сего плакал. Его стыдили:
– Чего нюни распустил? Баба!
– Горюшко мне под сердынко подкатывает.
А на следующий день одного арестанта задрали: с «кобылы» замертво сняли, в лазарете умер.
Несколько подобных случаев предвиденья поразили каторгу страшно, и когда к Белоножкину пришла семья и он был выпущен для домообзаводства, – к «особенному» человеку стали собираться поговорить, послушать его странных речей.
Тут подвернулся Галактионов.
Озлобивший всех против себя обличитель, в страдающий мир внесший своей проповедью еще больше страданий, – Галактионов у кроткого Тихона нашел тихую пристань, «просветлел», понял, что «истинно о Христе надо делать», и «уверовал».
Но старый законник сказался, – и вместо простых сходок для сердечных бесед он основал «церковь».
Сахалинское общество православно-верующих христиан имеет 12 апостолов, и каждый из апостолов имеет пророка.
– Как столб – подпору.
Кроме апостолов, есть еще 4 евангелиста.
– Руки и ноги Христовы.
Те, кто женат, как сам Тихон Белоножкин, живут с женами. Кто не женат – сходятся и живут «не в законе, а в любви, ибо любовь и есть закон христианский».
Мужчины зовут себя «братией», а женщин – «по духу любовницами».
Сходясь все вместе, они говорят:
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа, благодарим нашего Отца!
Кланяются в ноги, целуют друг друга и беседуют. Беседы часто касаются сахалинских злоб дня и разрешают разные вопросы, конечно, в духе, приятном каторге. Например:
– Каждый человек спастись должен. А в голодном месте не спасешься, скорее человека съешь. А потому бежать с Сахалина – дело доброе. Духом родиться можно только на материке, где можно трудиться. А для рождения духом надо креститься водой, то есть переплыть Татарский пролив. Татарский пролив и есть Иордан. Надо сначала водой креститься, и потом уж человек идет на материк возрождаться духом.
На этих радениях они рады всякому, кто зайдет:
– Где печка, там пущай греются.
В горницах у многих из них висят иконы:
– Хоть весь дом изукрась иконами! Хорошего человека повидать всегда приятно.
Но веровать «надо в духе, а не в букве», чтоб «буква эта нашу жизнь оживляла».
– Приходите к нам! – звал меня Галактионов. – Как начнем букву закона к нашей жизни приводить – небеса радуются.
– Да почему ж ты о небесах-то знаешь?
– В мыслях радость. А небеса… Вы думаете, высоко небеса? Небеса в рост человека.
Галактионову очень хотелось, чтоб я повидался с Тихоном Белоножкиным.
– Сами увидите! Вы так ему скажите, что от меня.
Тихона застал я за работой. У него хорошее хозяйство. Он чинил телегу.
– Здравствуй, Тихон. Правда, что ты – то лицо, как тебя называет Галактионов?
Белоножкин поднял голову и глянул на меня своими действительно милыми глазами, кроткими и добрыми:
– Вы говорите.
– Нет, но ты-то как себя называешь? Тихон улыбнулся, тоже необыкновенно мило.
– Буквами чтоб я себя назвал, хотите? Разве от букв что переменится?
Мы долго беседовали с этим добрым, кротким и скромным человеком, – его интересовало, зачем я приехал: я объяснил ему, как мог, что собираю материал, чтоб описать, как живут каторжане, – и он сказал:
– Масло собираете? Понимаю.
И, прощаясь со мною и подавая мне руку, сказал:
– Масла вы в лампадку набрали много. Зажгите ее, чтоб свет был людям. А то зачем и масло?







