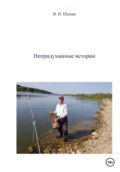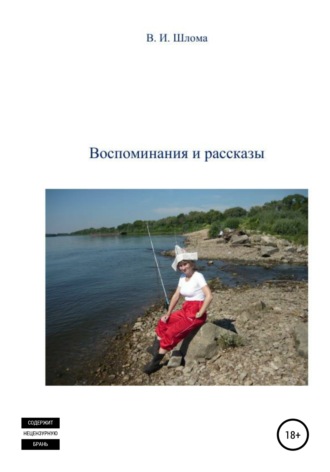
Владимир Иванович Шлома
Воспоминания и рассказы
В это время у нас появилась первая собака, вернее щенок. Алла, по дороге со школы, где-то подобрала рыжего щенка дворняги и принесла его домой. Уговорила отца оставить его жить у нас. Прожил он до холодов в небольшой будке, которую сделал для него отец. С наступлением холодов он начал на ночь забираться в хлев, где было сравнительно тепло. Сообразительный был. Как мы потом поняли, он ложился спать под бок к поросенку, чтобы было теплее, это его и сгубило. Поросенок уже был довольно большой, и переворачиваясь с боку на бок, во сне щенка задавил. У Аллы было море слез, но через некоторое время она успокоилась, и притащила нового, такого же рыжего. Этот вымахал в огромного пса. С тех пор собаки у нас не переводились. Я к собакам относился нейтрально, особого восторга и восхищения они у меня не вызывали. Не помню, чтобы я когда-нибудь подходил их погладить, если только сам подбежит и ластится. Мое участие в уходе за ними ограничивалось тем, что сделал для них нормальную большую будку и иногда кормил.
Другое дело кошки. Кошки мне больше нравились. Их у нас жило всегда не меньше двух. Особенно хороша была одна кошка, которая ловила больших крыс, размером почти с нее. Пойманную крысу она всегда притаскивала к дому и клала возле порога, чтобы показать свою работу. Только после того как все на нее посмотрели, она ее забирала и где-то съедала или котятам скармливала. Коты всегда были ленивыми, даже мышей не всегда ловили. Но с кошками была другая проблема, куда потом девать котят. Однажды отец решил избавиться от кошки, которая приносила большие приплоды, но плохо ловила мышей. Когда ехал в лес за дровами, он посадил ее в мешок, чтобы дорогу обратно не запомнила, и завез в лес, примерно за восемь километров от дома, и там выпустил. Отец вернулся с дровами под вечер, а кошка уже в обед была дома.
Еще одно воспоминание про умных животных. Через дом от нас жил дед Пылып Тыщенко. Жил очень бедно, в хатке-развалюшке под соломенной крышей, возле которой стоял такой же сарайчик, крыша которого светилась во многих местах. В колхоз он не вступил и жил безземельным единоличником, зарабатывая на жизнь единственной лошадкой, которую держал в этом сарае. Даже курей у него не было. Была у него только маленькая собачонка по кличке Чита. Чита была ласковая, никогда не сидела на привязи и свободно бегала по всем дворам. Как-то начали замечать, что она в зубах носит куриные яйца. Сама она до этого додумалась, или ее этому обучили, но она собирала на чужих подворьях яйца, приносила домой и складывала их возле порога. Я думаю, что деду Пылыпу, в его бедной жизни, это была неплохая подмога.
Рудки. В то время, да и долго еще потом, пока в селе не проложили асфальт, рудки были достопримечательностью Вертиевки. Рудка – это огромная глубокая лужа, занимающая всю ширину дороги. Я думал, что это чисто Вертиевское название лужи, но как-то, при поездке на автомашине с Серпухова на Украину, проезжал через село с названием Черная рудка. Значит не только Вертиевское. Только на нашей улице им. Петровского, бывшей Выгонь, таких рудок было две, и обе непроходимые. Одна была возле хаты Коли Грека, а вторая возле бабы Чушанки. После дождей рудка заполнялась водой и была в некоторых, разбитых колесами автомашин и возов местах, глубиной до метра. Для прохода оставалась только узенькая полоска земли возле самого забора, шириной не более десяти сантиметров. Пройти по ней можно было только держась руками за верх гнилого забора, рискуя, что при этом какая то из досок обломится, и ты окажешься в луже. В этих рудках часто застревали и повозки, и автомашины. Люди также нередко оказывались в рудке. Как-то отец вез домой лошадью большой воз сена, и нужно было проехать через рудку возле Коли Грека. Самое безопасное место для проезда было посредине, но тогда нужно было идти рядом с возом по колена в воде. Справа была слишком узкая тропинка возле забора, и пройти по ней управляя лошадью было сложно. Отец выбрал, на его взгляд, самый оптимальный путь, проехать рудку слева, а самому перелезть через ограду из жердей и пройти по огороду, примыкающему к рудке. Посредине рудки переднее левое колесо воза попало в глубокую яму, и у лошади не хватило сил вытащить груженный воз из этой ямы. Безуспешно провозившись часа два, решили пригласить трактор, чтобы вытащить воз, выпрягши предварительно лошадь. Но тракторист предложил другой вариант: он ковшом приподнимет воз и лошадь сама его вытащит. Идея была неплохая, но, то ли тракторист был пьян, то ли плохой специалист, но он ничего не поднял, а только сломал колесо воза. Как говорится – приехали. Отцу пришлось ехать в колхоз за другим возом, и стоя по колено в воде до ночи перекладывать сено из одного воза на другой.
Другой случай был со мной позже, в рудке возле Чушанки. Я ехал велосипедом с корзиной, висевшей слева на руле. Посредине рудки было две возвышенности, по которым ездили автомашины, покрытые водой всего сантиметров на десять. Справа и слева от них была довольно глубокая колея, в которую лучше не сваливаться. Я подъехал к рудке и поехал по одной из этих возвышенностей, а навстречу мне, по этой же возвышенности, поехал какой-то дед, не дожидаясь пока я проеду рудку. Разъехаться у нас не получилось, как я ни старался. Дед ударился рулем об мою корзину и полетел вместе с велосипедом в воду. Мне с трудом удалось удержаться на велосипеде, и я, под брань деда, поспешил проехать рудку и скрыться, пока он не очухался.
Вот так и протекала моя детская жизнь. Еще три года я был отличником, потом справедливость восторжествовала, и с пятого класса по украинскому, русскому и английскому языкам у меня появились четверки.
После окончания четвертого класса нас повезли на экскурсию по Днепру. Сначала собирались в Канев, на могилу Т.Г. Шевченко, а потом переиграли на поездку до Киева. Ехали два класса: наш четвертый и пятый. Сначала, поездом ехали до Чернигова, а оттуда на пароходе «Лысенко» до Киева. Мне в дорогу родители дали старенький мамин фанерный чемоданчик, обтянутый дерматином. На перегибах дерматин полопался, и через него выглядывала фанера. Я как мог попытался закрасить эти места чернилами, но это не очень помогло. Чемоданчик имел очень неприглядный вид.

Фото после окончания четвертого класса.
По Днепру мы плыли два дня, было очень интересно наблюдать за видами на берегах реки. Учительница зачем-то представляла нас капитану, называя наши фамилии. Он удивлялся звучанию некоторых фамилий, удивился услышав и мою.
–У вас в селе живут евреи? – удивился он.
–Какие евреи? – удивилась учительница. –Это украинская фамилия.
Два дня мы пробыли в Киеве, живя на этом же теплоходе. Посетили Владимирскую горку, катались на фуникулере и на метро. На метро можно было кататься бесконечно, если не подниматься наверх. Посетили несколько музеев, особенно понравился краеведческий, где стояли скелеты древних ящеров и фигуры первобытных людей. За время путешествия я на еде сэкономил порядка пяти рублей, благо, что хлеб в столовых в то время был везде бесплатный, и купил себе новый чемодан. Старый поместился в новый, и его больше не было видно. Я был рад, теперь мне не будет стыдно при поездках на новые экскурсии. К сожалению, длительных экскурсий больше не было, и этот чемодан пригодился только после окончания школы, когда я ехал поступать в военное училище.
Крыша на нашем доме окончательно прохудилась и стала сильно протекать. Заплаты, которые ставил отец, уже на помогали. Дома посеяли рожь, чтобы получить солому для ремонта крыши. В колхозе все убиралось комбайнами, такая солома, вся перебитая, для ремонта крыши не годилась. Рожь аккуратно жали серпами, вязали в снопы, потом молотили цепами, а солому аккуратно складывали. Я впервые пытался жать и молотить. Жать серпом еще приноровился, а вот махать цепом не очень. Цеп состоит из двух палок, длинной и короткой, соединенных между собой ремнями таким образом, что обе палки свободно вращаются как вокруг своей оси, так и между собой, своеобразный шарнир. Нужно, держа в руках длинную палку, размахнуться, и короткую палку с силой опустить плашмя на колосья расстеленного на току (утрамбованная земля посредине клуни) снопа. Так вот, эта короткая палка все время норовила вместо снопа попасть мне по голове. Молотить я научился гораздо позже, когда мне было лет двенадцать. Как-то раз даже молотили вместе с отцом двумя цепами. Это достаточно сложно, так как удары должны быть синхронными.
Мужик-кровельщик, которого наняли для этой работы был мастером своего дела, приятно было наблюдать за его работой. Перекрывали весь дом полностью. Кровельщик брал солому из больших снопов и вязал маленькие снопики, не больше 10 см в диаметре. Потом из соломы скручивал жгуты и этими жгутами привязывал снопики к жердям на крыше. Захватывал полосу, сколько доставала рука, и постепенно укладывал эти снопики, двигаясь снизу-вверх. Укладку выравнивал с помощью правила, изготовленного из доски с набитыми в нее рядами гвоздей. Так постепенно, ряд за рядом, и накрывалась крыша. До этого я видел только старые соломенные крыши, в которых не было абсолютно ничего привлекательного. Новая соломенная крыша – это совершенно другое дело. По красоте с ней никакая металлическая не сравнится. Наверно многие видели аппликации из соломы? Так вот, новая соломенная крыша выглядит как большая аппликация из соломы. Она красиво переливается на солнце золотистым цветом. Я просто любовался этой крышей. Жаль, что эта красота существует не долго. К зиме золотистый цвет пропал, а к весне она потемнела, и вся красота исчезла.
Трудовую деятельность я начал по собственной инициативе в 3-м или 4-м классе со сбора колхозных огурцов. Соседские женщины попросили помочь в сборе колхозных огурцов, которых выросло очень много, а собирать было некому, и они перерастали. Оказывается, самые дорогие, это маленькие огурчики, так называемые корнишоны. Чем большим он потом вырастает, тем больше падает в цене. А желтяки вообще никому не нужны. Несколько дней я ходил собирать огурцы, заработал несколько трудодней и принес домой больших огурцов, которые разрешали брать, но дома они тоже были не нужны, и их отдали корове.
Потом отец стал бригадиром полеводческой бригады, которая выращивала помидоры, арбузы и еще какую-то зелень. Позже их еще обязали выращивать гусениц тутового шелкопряда. Пока они меленькие, то кушают мало, и справляться с этой работой легко, но потом для них листья шелковицы нужно приносить мешками. Правда при этом было облегчение в том, что листья можно было собирать не по отдельности, а срезать секатором с деревьев вместе с небольшими веточками. В этот период некоторые из гусениц погибают, и запах стоит жуткий, сильнее чем в свинарнике. В этот период отец и привлекал меня к этой работе. На трудодень нужно было нарезать два мешка листьев до обеда, и два после обеда. На мой взгляд, скотину пасти было легче.
Помню первый велосипед отца. Первый велосипед отцу достался очень тяжело. Купить его было не так просто. Нужно было сдать в местную кооперацию порядка сотни яиц, только после этого продали велосипед. Обычный дорожный мужской велосипед. Сначала учился ездить отец, мне велосипед не давал. Потом дошла очереди и до меня. Через раму до педалей я не доставал, поэтому ездил просунув правую ногу по раму, держась левой рукой за руль, в правой за раму. Так все пацаны ездили. Ездили на нем года два, потом велосипед испортился. Оказалось, что во все подшипники был заложен технический вазелин, а не солидол. Перебрали, смазали солидолом, и он еще поездил, пока не износился пятиугольник (основная деталь в заднем колесе). При покупке следующих велосипедов я сразу менял в них смазку на солидол.
Яиц мы больше никуда не сдавали, а вот молоко нужно было сдавать обязательно на маслобойню, по три литра каждый день. При сдаче проверяли жирность молока, и наше молоко им не нравилось, слишком низкая жирность. Как-то целая комиссия приехала к нам домой не контрольную дойку, чтобы поймать с поличным. Какое же было их удивление, когда получили ту же жирность, что и в молоке, которое я привозил для сдачи. Но еще больше их поразило количество надоенного молока, всего десять литров.
– Зачем вообще такую корову держать? – сказал один из них.
Наш дом был стареньким, построенным еще прапрадедом Мусием. Стоял на дубовых сторчах, которые со временем сгнили, дом осел и сгнили два нижних венца бревен дома. Отец нанял бригаду плотников, почему-то белорусов, и начался ремонт дома. Родители в это время жили в клуне, а мы, дети, у соседки бабы Параски. Я уже учился в пятом классе и пытался помогать младшему из плотников Ивану выдалбливать долотом четверть в дубовых косяках дверей, за что Ивану влетело от бригадира. Оказывается, я мог ударить по долоту сильнее чем нужно и расколоть дубовое бревно, с сосной такого случиться не могло. Я этого тогда не знал. Плотники поднимали дом домкратами, чтобы заменить два нижних венца и сторчи. Вместо сторчей поставили кирпичные столбики, между которыми я позже сложил из кирпичей фундамент. В комнате поставили деревянную перегородку и получился зал и небольшая спальня для детей. Из каморы сделали кухню. Везде постелили полы. В доме сняли трам (очень толстую балку, которая находилась внутри дома и на которой держался потолок), и вместо него на чердаке положили аналогичную, но менее толстую балку. Стало гораздо красивее. Пристроили веранду. Все было замечательно. Позже пригласили печника, который сложил новую печь. Она находилась в кухне, в комнату выходила только лежанка. Места в комнате стало гораздо больше. Соломенную крышу заменили на металлическую, с двумя слуховыми окнами, в которые позже я сделал полукруглые рамы. Теперь и на чердаке стало светло.
Среди плотников был и молодой парень – Миша Рыльский. Ему понравилась внучка бабы Ганны – Вера, он на ней женился и остался жить в Вертиевке. Из Белоруссии он привез деревянный сруб и поставил себе дом недалеко от клуба, чтобы ближе было на танцы ходить. Дом временно накрыли рубероидом. В дальнейшем я многому научился у Миши по столярному делу.
После работы плотников мне захотелось иметь свой столярный инструмент, и я начал потихоньку собирать на это деньги. Деньги накапливались очень медленно, в основном за счет экономии на тех же школьных завтраках, при новых деньгах – по 2 копейки в день. Но однажды мне повезло. Какой-то мужчина, сидевший в автобусе, который должен был отправляться на Нежин, попросил меня купить ему сигареты. Я быстренько съездил в магазин и привез ему сигареты. Сдачу с рубля, огромную сумму, больше 60 копеек, он не взял и оставил мне. Я тут же заехал в магазин и купил себе небольшие пассатижи. Это был первый, приобретенный мной инструмент. Потом я постепенно приобрел рубанок, ножовку, топор и стамеску. Все наточил и привел в рабочее состояние. Теперь у меня был нормальный инструмент, которым уже можно было работать.
Я начал наводить порядок во дворе, везде вместо лат поставил штакетник, и двор приобрел совершенно другой вид. Снятый трам распилили на доски, из которых я позже сделал очень красивые наличники на окна и на углы дома. Кстати, трам оказался из лиственницы, очень твердого и не поддающегося гниению дерева. Строгать такие доски ручным рубанком было ой как не просто. Пришлось дополнительно купить еще и полуфуганок, чтобы можно было ровно строгать длинные доски.
Жизнь шла своим чередом. Я втихаря курил, не всегда думая о последствиях, поэтому в углу стоял часто, но уже не на ногах, а на коленках, иногда под них подсыпали зерно, и даже не лущенную гречку с очень острыми краями. Все терпел, не просился, не жаловался. Все было справедливо, пенять можно было только на собственную глупость. А глупостей делал много. К примеру, нашел в скрыне портсигар отца (он раньше, не за моей памяти, курил) и решил пофорсить перед ребятами. Купил папирос, положил их в портсигар и носил его в кармане пиджака, хвастаясь перед ребятами. Когда мама решила погладить пиджак, портсигар выпал. Вторую глупость я совершил из-за лени. Один раз, когда делал домашние задания и дома никого не было, поленился выйти во двор покурить, и решил покурить в комнате, выпуская дым в форточку. Отец пришел домой часа через три, но как человек некурящий, унюхал запах табака моментально. В третий раз я крупно прокололся, когда пас стадо с дедом Николаем. На пастбище я курил открыто, так же, как делал это при деде Митрофане. Дед Николай мне никаких замечаний не делал, но вечером рассказал все родителям, и я загремел в угол на гречку. Здесь все было правильно, если слова не помогают, то нужно наказывать. Но в этот день отец купил огромный арбуз, на нашем огороде такие не росли. Даже издали было видно, какой он замечательный и вкусный, а мне даже попробовать не дали, сами весь съели. Это было обидно. Я ужасно злился на деда Николая. Подождал хотя-бы до следующего дня со своим рассказом. Обязательно было в этот же день рассказывать?
В очередной раз мы снова пасли стадо с дедом Николаем. При нем я больше уже не курил. Лето тогда было очень жарким, на Тванях, где мы пасли стадо, все источники воды пересохли, пересох даже Куцый плав, который раньше никогда на пересыхал. Попить было негде ни людям, ни скотине. Единственный источник воды оставался на дальнем краю села возле дома Петрушки, где был колодец с журавлем и длинное корыто, в которое наливали с колодца воду для скота. Это также был и край Бабкивського пастбища, то есть, специально гнать стадо на водопой не нужно было, оно паслось и потихоньку двигалось по пастбищу к водопою. Незаметно проходили эти лишние три километра. В тот день мы также постепенно пришли к водопою, дождались своей очереди (стад было больше десятка), натаскали в корыто воды и напоили скотину. После водопоя уставшее стадо легло отдохнуть, и мы с дедом Николаем тоже. Немного даже вздремнули. Когда проснулись, то увидели, что надвигается огромная туча, чернющая. Стадо забеспокоилось, коровы не паслись, смотрели на эту тучу и мычали. Обычно им было все равно, идет дождь или нет, а тут такое странное поведение перед дождем. Начал подниматься ветер, резко потемнело, потом пошел дождь и град, началась буря. Град был с голубиное яйцо, некоторые градины достигали размера куриного яйца. Ветер был такой силы, что сбивал с ног. Стадо сорвалось с места и побежало по ветру. На мне был брезентовый плащ с капюшоном и рукавами. Ветер поддувал под этот плащ, меня поднимало в воздух и несколько метров несло над землей, потом я приземлялся, несколько метров бежал по земле, снова поднимался в воздух, и снова приземлялся. Таким образом мы, вместе со стадом, пробежали 6 км пастбища, и еще 3 км по колхозному полю, пока стадо не уперлось в Северинские сосны и наконец-то остановилось. Буря закончилась так же внезапно, как и началась, все это длилось не более одного часа. Мы развернули стадо и погнали его в обратном направлении, чтобы выйти к нашей дороге на село. Другую дорогу, более короткую, стадо не знает, и по ней не пойдет. Теперь стояла еще одна трудная задача, не дать коровам на колхозном поле нахвататься чего-нибудь типа клевера, от чего у них может вздуть животы. С этой задачей мы справились и вышли на нашу дорогу. Придорожные канавы, глубиной больше метра, были полностью заполнены водой. Деревья на опушке леса, которая была хорошо видна с дороги, были все поломаны. А деревья эти были не маленькими, сантиметров 30 – 40 в диаметре. Навстречу стаду уже бежали люди из села. В селе также была разруха. В некоторых домах побило стекла, крыши под рубероидом были как решето, крыши, которые были под шифером, стояли абсолютно голые, весь шифер побило. Побило рубероид и на доме Миши Рыльского. У нас с домом все было нормально, только в огороде все побило. Все запасы материалов для ремонта крыш в магазине раскупили в тот же день. Кто не успел, тот еще пару месяцев жил с протекающей крышей, пока в магазин не подвезли нужные материалы. Когда таких людей спрашивали, накрыли ли они крышу, они обычно отвечали: «покрыл, матом в три слоя». Больше я никогда в жизни не встречался с бурей такой силы.
Учеба шла нормально, больших усилий мне прикладывать не приходилось, все давалось легко. Хуже было дело с языками, мне не хотелось заучивать все эти правила правописания, писал по интуиции, получал четверки и это меня вполне устраивало. Больше всего мне нравились математика и физика, этим предметам я и уделял больше внимания. В шестом и седьмом классах у нас появился новый учитель математики. К сожалению, вообще не помню, как его звали. Он организовал математический кружок, в котором мы решали задачи повышенной сложности. Я и эти задачи легко решал, и он подбирал для меня отдельные задачи. Два года я участвовал в математических олимпиадах, призовых мест не завоевывал, но почти все задачи решал. На последней олимпиаде решил все задачи, кроме одной. В ней несколько раз разбавляли спирт водой, часть отливали, снова разбавляли и отливали, потом добавляли спирт. Требовалось определить процент спирта в полученной после этого жидкости. На решение этой задачи у меня не хватило времени, хотя путь решения был понятен. Первое место присудили парню, единственному, который решил, эту задачу. Он решил только эту задачу, но не решил ни одной из остальных.
Этот же преподаватель разыскал в кладовке школы кинопроектор и начал заказывать и показывать ученикам учебные фильмы. Этому делу научил он и меня. В дальнейшем, я уже самостоятельно демонстрировал фильмы и имел ключ от учительской, где в шкафу хранился кинопроектор. В этом же шкафу я обнаружил фотоаппарат «Любитель-2», зеркальный, с двумя объективами и шахтой для наводки резкости. Я выпросил у директора школы этот фотоаппарат во временное личное пользование. Формат кадра был 45×45, что было насколько неудобно при печати снимков. Все необходимое для проявления пленки и снимков я купил, но купить фотоувеличитель я не мог, слишком дорого. Фотоувеличитель был только у Вити Осипенко, но под кадр 24×36. Я просил у Вити на вечер его увеличитель и приспосабливался как мог: вынимал штатную рамку для пленки, без рамки вставлял свою пленку и зажимал деревянными клиньями. Кое как получалось, но пленка лежала не совсем ровно, из-за чего была неравномерная резкость по площади кадра, и через щели, образовавшиеся из-за отсутствия рамки, проникал мешающий свет, который мог засветить фотобумагу. Ниже некоторые из моих снимков того периода.
На фотографиях видно, что в некоторых местах снимка нет резкости. Это как раз из-за того, что при фотопечати пленка не была зажата между двумя стеклами рамки, а висела в воздухе. Под действием тепла лампочки увеличителя она могла прогнуться в другую сторону, и резкость нужно было наводить снова, старался навести резкость хотя-бы в центре кадра. Использовать вместо рамки два обычных стекла я почему-то не догадался, скорее всего потому, что эти стекла мне нечем было вырезать. Несмотря на трудности, я научился фотографировать, проявлять пленку и печатать фотографии.

Первый мой авто-снимок, сделанный школьным фотоаппаратом.
Сзади видна изгородь из жердей.

Кроша Соня. Снимок на экскурсии в Чернигове.

Первая учительница Наталья Федоровна,
классный руководитель Алексей Ефимович
и пионервожатая Нина Петровна.

Ребята нашего класса, ездившие на экскурсию: Коля Вороченко, Володя Доценко, Алексей Ефимович, Вася Ласый, Толя Зоценко и Миша Зоц.
Были у меня в то время еще три увлечения: рисование, музыка и вырезание лобзиком изделий из фанеры. Рисунок с натуры у меня получался плохо, а вот копии картин с репродукций, с большим увеличением, у меня получались хорошо. Попытка рисовать маслом с первого раза не удалась. Краска впитывалась в холст, не желая засыхать на поверхности холста. В Вертиевке в то время жили три художника, и я обратился у ним за консультацией. Оказалось, что прежде чем рисовать на холсте или фанере, их нужно грунтовать раствором столярного клея с добавлением мела. Дело пошло. Сначала я нарисовал две небольшие картины на фанере, одну из них сдал на конкурс в школу, а затем подарил учительнице химии Евдокии Петровне, с которой я дружил. Потом был лес Шишкина с медведями, уже на холсте и большого формата. Для того, чтобы ее рисовать сделал мольберт в виде складной треноги, на которую и ставились картины. Следующей картиной были «Три богатыря» Васнецова, размером 1×1,5 м. Позже эту картину у меня выпросил дядя Миша, и я ее ему подарил, а себе нарисовал другую. Кстати, рамы для своих картин я также делал сам, причем не из готового багета, а из обычной доски.

Копия картины «Три богатыря»
С музыкой было сложнее. Мне очень нравилось, как играет на балалайке и мандолине отец Толи Осипенко, и я тоже хотел научиться, но нужен был свой инструмент. В магазине канцтоваров продавалась балалайка, но стоила она очень дорого, около пяти рублей на новые деньги, как новый костюм для школы. У отца просить такие деньги было бесполезно. Чтобы собрать нужную сумму, мы с Аллой весной копали корни хрена на огороде, и я сдавал их на засол-завод. Потом все лето резали листья хрена, и тоже сдавали на засол-завод. К осени нужная сумма была собрана, и я купил эту балалайку. Алексей Осипенко оценил ее как отличную, во-первых, у нее был тонкий гриф, и детская рука его легко обхватывала, во-вторых, в отличие от обычной балалайки, у нее были спаренные струны (было шесть струн), и она издавала более мелодичный звук. Научился я играть на балалайке, а позже и на мандолине, которую брал в школе. Даже играл на мандолине в школьном струнном оркестре, ездили с концертами по всем колхозам района. Дальнейшей мечтой была игра на гармошке, но на гармошку у родителей денег не было. И тут подарок судьбы – школа купила баян. Новый директор школы Смаль Петр Иванович тоже хотел научиться на нем играть и осваивал игру при помощи самоучителя. Организовал кружок из двух десятков, желающих научиться играть, ребят, и мы приступили к занятиям. Он, по самоучителю, разучивал мелодию, потом показывал нам, и мы, по составленному графику, после занятий разучивали эту мелодию. Баян родители купили только Васе Ласому, а еще Вите Осипенко родители принесли колхозную гармошку, так что тренироваться дома могли только эти двое, остальные стояли в очереди к единственному школьному баяну. Сначала разучивали мелодию на правой стороне баяна, потом на левой, а потом нужно было играть сразу на двух сторонах. Я легко осваивал и правую, и левую сторону, а вот с игрой на двух сразу я не справился. Может одного 30-минутного занятия в неделю было недостаточно, может я вообще не могу делать несинхронную работу двумя руками. Промучившись два месяца, я бросил кружок. Следуя моему дурному примеру, кружок бросили и все остальные, кроме Васи Ласого, который освоил эту сложную науку и в дальнейшем прекрасно играл на баяне. Моих родителей директор вызывал в школу, обвинял меня в развале кружка и требовал, чтобы я вернулся в кружок, но я не вернулся, и кружок больше не работал. Потом мы с директором помирились. Я показывал в школе кинопроектором учебные фильмы, был ответственным за просмотр телепередач на школьном телевизоре (дома телевизоров ни у кого не было), и директор даже принародно обещал достать для меня путевку в Артек. То ли он плохо искал эту путевку, то ли вообще не искал, но ни в какие лагеря я никогда не ездил. С нашей школы в местный пионерский лагерь дважды ездил только Коля Ювко, по кличке Грек, как ребенок из неблагополучной семьи. Ему там очень нравилось, и он с восторгом рассказывал, как там хорошо, и я ему завидовал. Но однажды, мама пригласила его с нам пообедать, когда у нас по какому-то поводу был праздничный обед. Помню, что был очень вкусный борщ с курицей, и галушки из блинчиков, тоже вкуснейшее блюдо. После обеда Коля сказал, что если бы его хоть иногда так дома кормили, он бы ни в какие лагеря не ездил. И я понял, что в этом лагере не так уж и хорошо.
С вырезанием лобзиком было все хорошо, но не отлично. Вырезал я много различных изделий из фанеры и разукрашивал их масляными художественными красками. Многие из них раздарил. Но почти все изделия были с небольшими изъянами, в некоторых местах откалывался верхний слой фанеры и заделать этот скол так, чтобы не было заметно, не всегда удавалось. Причина была в плохом качестве используемой фанеры. Я использовал фанеру с ящиков из-под папирос, которые покупал в магазине. Другой фанеры у меня не было.
Позже появилось еще одно увлечение – изготовление шкатулок из рентгеновской пленки. Делать такие шкатулки меня научил второй муж крестной, дядя Саша. Из картона вырезалась основа будущей шкатулки и на нее наклеивалась цветная однотонная бумага. На эту бумагу наклеивались вырезки из фотографий и открыток. С двух сторон каждой детали накладывалась вырезанная по контуру прозрачная (отмытая) рентгеновская пленка и все вместе по контуру сшивалось цветной ниткой специальным швом, подобным тому, который используется для обметывания петель, только с большим равномерным шагом. Для обеспечения равномерности шага изготавливалось специальное шило с двумя иголками. Каждая очередная дырка прокалывалась этим шилом. Потом все детали соединялись вместе такими же нитками, или ниткой другого цвета. Шкатулки получались очень красивыми, с выпуклыми стенками различной формы. Я сделал две такие шкатулки, после чего интерес к этому занятию у меня пропал.
В это же время я научился шить сапожным крючком. Соседка Оля Василенко, с которой нас возили к бабке-шептухе, вышла замуж, и ее муж Вася стал жить у них, то есть пришел в примы. Я увидел, как он крючком ремонтирует свою обувь и попросил у него этот крючок во временное пользование. Крючок он мне не дал, но объяснил, как его сделать из стальной пружины. Я сделал себе такой крючок и в дальнейшем так же сам производил мелкий ремонт своей обуви. Сейчас у меня есть три крючка различной толщины, и мелкий ремонт семейной обуви я делаю сам. А сложный ремонт обуви сейчас уже никто не делает, ее просто выбрасывают.
А еще мне нравилась химия. Неорганическую химию у нас вела Евдокия Петровна. Она жила в небольшой комнатке при школе, так как вместо одной ноги у нее был протез, и ей было тяжело ходить в школу из дома. Мне нравилось ставить различные опыты, я их даже дома ставил. Евдокия Петровна разрешила мне взять домой пробирки, стеклянные трубочки, которые легко изгибались при нагреве, сухой спирт и некоторые химикаты. Она очень хорошо ко мне относилась, а я иногда по мелочам помогал ей по хозяйству и подарил одну из своих картин, написанную маслом, кажется, это была копия с картины Т.Г. Шевченко «Гайдамаки».