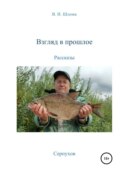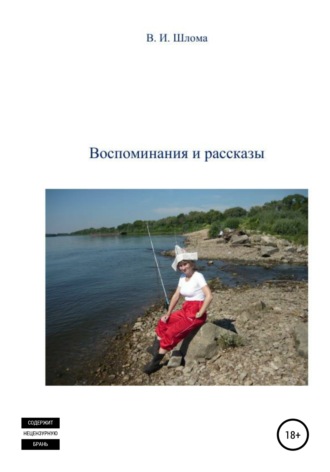
Владимир Иванович Шлома
Воспоминания и рассказы
Трудовое воспитание
Наша восьмилетняя школа №2, бывшая церковно-приходская, как ей и положено находилась возле церкви, тогда еще действующей. На территории церкви, кроме самой церкви, находилась сторожка, а на довольно большой территории церковного двора росло много груш и несколько каштанов. Груши были толстые, старые и очень высокие, но плодоносили каждый год. Груши на них были несколько терпкими, но достаточно вкусными. Нижние ветки на грушах были очень высоко, и залезть на эти груши было невозможно. Поэтому мы сбивали спелые груши камнями и палками, за что церковный сторож прогонял нас с церковного двора. Груш ему было не жалко, собирайте сколько хотите, но зачем же ветки оббивать. Потом церковь закрыли, превратив ее помещение в продовольственный склад, и нас больше никто не прогонял от груш. Поэтому до зрелого состояния груши доживали крайне редко, их сбивали еще зелеными и, попробовав, тут же выбрасывали. Съесть вкусную грушу теперь редко кому удавалось. Но по дороге домой, сразу за мостом через речку Крутоносовку, которую мы называли канавой, жил дед Козёл. У него в саду росли очень вкусные груши, а трухлявый забор вокруг сада для нас особого препятствия не представлял, поэтому мы частенько после школы в него заглядывали. Скорее всего Козел, это была кличка, а не фамилия, дед был вредным, так как часто гонялся за нами с палкой, если заставал в своем саду. Еще были груши у Толи Шустера, правда не такие вкусные, как у деда. Забора у него практически не было, так, отдельные дощечки, чтобы коровы не заходили. Шустер – это тоже кличка, фамилия Ярошенко. Говорят, что кличку им дали немцы во время войны, так как отец Толи был сапожником, по-немецки шустер. Что-то я не о том, я ведь о школе хотел написать.
На территории школы находился большой кирпичный учебный корпус и длинный деревянный корпус, в котором с одного входа был школьный буфет и жила учительница Евдокия Петровна, а с другого входа жил директор школы Соколов Борис Макарович, вместе с женой Галиной Петровной, моей первой учительницей, и дочерью, которую я практически не помню. За этим корпусом был огороженный двор, в углу которого стоял сарай, а возле сарая стояла будка, в которой жила довольно симпатичная овчарка. Но мы туда не ходили, собака лаяла на каждого, кто заходил во двор. В сарае директор держал какую-то свою живность, в том числе и поросят. Возле двора стоял колодец с коловоротом, а левее – школьный сад, в котором, кроме растущих яблонь и вишен, была еще застекленная отапливаемая теплица и площадка для метеонаблюдений, на которой, среди прочего оборудования, стоял и флюгер, высотой порядка двадцати метров. Между садом и двором шла тропинка к туалету, находящемуся за двором, и представляющему из себя сооружение из досок, разделенное дощаной перегородкой на две части, мужскую и женскую, в каждой из которых было по пять ничем не разделенных между собой прорезанных в полу дырок (очков). Рядом с ним стоял туалет на две кабинки для учителей. Туалет для учеников директору приходилось периодически ремонтировать, так как в перегородке между мужской и женской частью кто-то все время ножом проковыривал дырки.
По другую сторону церкви находились еще школьная мастерская, в которой проводились уроки труда, и спортивная площадка, на которой были волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, места для прыжков в длину и высоту, а также специальное сооружение высотой порядка десяти метров, с вертикальной и наклонной лестницами, и крюком для подвешивания каната. За спортивной площадкой находились грядки. Два десятка маленьких грядок размером 70×150 сантиметров, для занятий по биологии, которую вел сам директор школы. Слева от грядок находился детский садик колхоза им. Ленина, а за ним школьный огород, размером порядка шести соток. Был еще один школьный огород, большой, больше 50-ти соток, который находился вдали от школы.
В школе нас учили не преподаватели, а учителя, потому, что кроме обучения, они еще и воспитывали учеников. Среди всего прочего воспитания, они прививали нам еще и любовь к труду. Всем было известно, что труд облагораживает человека, и, что именно он превратил обезьяну в человека, хотя некоторые от этой стадии далеко так и не ушли. Любовь к труду нам прививали также и дома. В наши с сестрой Аллой обязанности по дому сначала входило по очереди подметать пол в хате и периодически кормить курей, а позже еще и пропалывать грядки в огороде. Любовь прививалась тяжеловато. Это было видно по тому, что мы периодически на могли поделить уборку в доме: каждый считал, что в этот день не его очередь подметать пол.
Уроки труда начались еще в первом классе. Нас учили шить мешочки, вышивать гладью и крестиком, вязать крючком. За четыре года я все эти премудрости освоил. Девочек еще учили готовить салаты. В четвертом классе нас уже выводили пропалывать картошку на огороде за детским садиком. Иногда ходили помогать колхозу в уборке помидоров, которые росли на междурядьях в колхозном саду. Это нам нравилось, там можно было вдоволь покушать вкусных яблок. Кроме того, за помощь колхозу, он поставлял в школьный буфет молоко по символической цене, одна копейка за стакан, в то время как стакан совсем не сладкого чая стоил три копейки.
До пятого класса уроки труда для девочек и мальчиков практически не отличались. С пятого класса уроки уже были раздельные, у девочек было домоводство, где они учились шить и готовить, причем готовить они ходили на кухню к директору школы, где имелась керосинка. У мальчиков занятия проходили в столярной и слесарной мастерских. Для девочек в этих мастерских было проведено только одно занятие, чтобы умели молоток в руках держать, наверно на тот случай, если кто-то из них не выйдет замуж. В мастерской было столярное и слесарное отделение. Столярное отделение было вполне приличным, шесть фабричных столярных верстаков, позволяющих закреплять доски для обработки в любом положении. Инструмент тоже был вполне приличным, хотя и несколько туповатым. Слесарное отделение было в более плачевном состоянии. В нем было всего трое тисков, правда больших, у которых на двух не было губок, и зажать в них деталь было крайне сложно. Полотна в ножовках по металлу были старые и тупые, ими, за 45 минут урока, гвоздь с трудом перепиливали. Директор школы, проводивший эти занятия, новые полотна выдавал только после их поломки, но за сломанное полотно кто-то должен был получить двойку. Поскольку рабочих мест было мало, часть ребят занималась в столярном отделении, а часть в слесарном. На следующее занятие менялись местами. Потихоньку чему-то учились.
В пятом классе мы изучали биологию, занятия проводил директор школы. Каждому ученику была выделена маленькая грядка на школьном участке, на которой, по индивидуальному заданию, каждый ученик должен был что-то вырастить. В конце года победителя ждал приз. Я очень хотел занять первое место, но мне досталась грядка, на которой уже рос ревень – растение, стебель которого используется для приготовления компота, ее нужно было только поддерживать в чистом состоянии, ни о каком урожае речь не шла, поэтому из претендентов на победу я автоматически выпадал.
Зоологию у нас проводила Евдокия Петровна. Она интересно проводила занятия и умела нас заинтересовать. Она ставила нам задачу взять шефство над каким ни будь колхозным животным: теленком, поросенком или жеребенком, и за ним ухаживать. Рассказывала, что пять лет назад у нее училась девочка Соня, которая ухаживала в колхозе за теленком, о ней даже в газетах писали. Нам тоже хотелось, чтобы о нас в газетах писали. Я ходил помогать соседу, деду Митрофану, ухаживать за колхозными лошадьми. Привозили им сено, поили, убирали навоз. Я спрашивал деда Митрофана, может их еще почистить, как я в кино видел.
– Да кто их чистит, – сказал дед, – еще не дай бог лягнет тебя, горя не оберешься.
В специальной тетрадке я записывал проделанную работу, а дед Митрофан ставил оценку и расписывался.
В то время, когда я помогал деду Митрофану ухаживать за лошадьми, произошел один курьезный случай. Недалеко от конюшни стояла старенькая хата, которая использовалась как сторожка, и место, где бригадир давал колхозникам наряды на работу. Раньше в этой хате кто-то жил, но потом все померли, наследников не было, и хата отошла колхозу. В хате стояла обычная печь с грубкой и лежанкой, стол и несколько стульев, а вдоль стен стояли обычные деревянные лавки. Середина хаты была абсолютно свободной, поэтому туда для просушки положили два десятка дубовых бревен, из которых планировали изготовить полозья для саней, как для конных, так и для тракторных. Сторожем здесь работал старый дед, которого звали Пантелей Матвеевич.
Пантелей Матвеевич был очень высокий и очень худой, выше его в селе был, пожалуй, только один человек, наш сосед Сергей Логвин, которого мама иногда просила повесить у нас в доме рушники на картины, и он вешал их прямо с пола, так как легко доставал руками до потолка. Дед всегда, и зимой и летом, ходил в одном и том же брезентовом плаще с капюшоном, поэтому его сутулая фигура была узнаваема издали. Походка у него тоже была особенная: он наклонял корпус вперед, и только потом, чтобы не упасть, переставлял ногу. В глаза все называли деда уважительно, Пантелей Матвеевич, а за глаза – Пантюх. Тем, кто при ходьбе плохо переставлял ноги, обычно говорили: «Что ты ходишь, как Пантюх?».
Пантелей Матвеевич сторожевал один, каждый вечер, с наступлением сумерек, он приходил в сторожку, а утром уходил домой, ночью он должен был несколько раз проверять конюшню и воловник, в котором стояли тягловые быки. В тот вечер он, как всегда, протопил грубку, постелил на лежанку свой плащ, сверху старенький овчинный тулупчик, и прилег отдохнуть. Вскоре запарился, слишком сильно натопил, спать на лежанке было невозможно. Выход из этого положения нашелся быстро, он перенес на лежащие на полу дубки свой плащ, на него снова расстелил тулупчик, лежать было немного жестковато, но вполне терпимо, и вскоре он уснул сном младенца. Проснулся он только утром, когда его растолкал пришедший на работу бригадир. Оказалось, что лежит он уже не на дубках, а на земляном полу у углу хаты, все дубки исчезли. Видимо ночью воры аккуратно перенесли сторожа на его плаще с дубков в угол хаты, а все дубки вывезли.
Еще Евдокия Петровна рассказывала нам о кроликах, какие они замечательные. Она умела увлечь, и мне захотелось завести кроликов. По моей просьбе отец купил крольчиху, но предупредил, что ухаживать буду я сам. Я сделал для нее клетку, кормил, поил и ухаживал. Потом пошли крольчата, я сделал еще несколько клеток, потом еще. Летом у нас было до 50-ти кроликов, на зиму оставляли двух крольчих и кроля. В доме появилось дополнительное мясо и немного денег за проданные шкурки. Правда мясо, опять же, как и раньше, было зимой, летом кролики были слишком худые, чтобы их забивать, да и летнюю шкурку невозможно было продать.
В отличие от младших классов, в старших была обязательна трудовая отработка во время летних каникул. В пятом классе 10 дней, в шестом пятнадцать и в седьмом двадцать. Правда работали не полный день, а только до обеда. В пятом классе мы пропалывали и окучивали картошку на дальнем и ближнем огородах, а также пропалывали все посаженное на этих огородах. Кто все это сажает, я как-то не задумывался. Осенью мы на этих же огородах собирали урожай, грузили его на телегу и эту телегу отвозили. Куда бы вы думали? В сарай к директору школы. Я был очень удивлен, если не сказать больше.
– Мы что, как панщину отрабатываем? – спросил я одну из учительниц.
– Тише ты, какая панщина. Это просто трудовое воспитание. Ну не выбрасывать же все это, – ответила учительница.
При трудовой отработке в шестом классе, Борис Макарович предложил мне вместе с ним ремонтировать и красить парты. Он видел, как я работаю на занятиях и решил, что с таким заданием я должен справиться. Я конечно согласился, эта работа была для меня более интересной, но поинтересовался, как ее будут засчитывать, день за день, или хотя бы день за полтора. Для меня это было немаловажно, так как я этим летом работал в нежинском плодосовхозе, и из-за этой отработки терял в заработке там. Директор пообещал засчитывать день за полтора. Мы с ним несколько дней ремонтировали и красили парты. Потом перешли на ремонт теплицы. Работа шла нормально, пока директор не притащил для ремонта посадочных ящиков в теплице доску с характерными круглыми вырезами. Эта доска была явно из школьного туалета. Я отказался браться за нее руками.
– Но я же берусь, – настаивал директор.
– Это Ваше дело, – отвечал я. – А я не буду.
– В таком случае я засчитаю тебе отработку день за день.
– Ну и засчитывайте. Тогда и парты ремонтировать я больше не буду.
Остаток отрабатываемых дней, я, на зло директору, провел вместе со всеми с тяпкой в руках, пропалывая грядки.
После седьмого класса, положенные дни я уже не отрабатывал. Борис Макарович ушел на пенсию как директор, и остался только преподавателем. К нам пришел новый директор, Смаль Петр Иванович. Всем, кто работал летом в колхозах и совхозах, он засчитал эту работу как трудовую отработку. Я тем летом работал в плодосовхозе прицепщиком.
Но Борис Макарович, в принципе, был хорошим директором, он всей душой болел за нашу школу. Много сил он потратил, чтобы открыть в школе музей нашего земляка, погибшего в войну при защите Киева, Героя Советского Союза генерал-полковника Кирпоноса М.П. Ему долго никто не разрешал открывать такой музей, потом согласились на краеведческий музей, в котором будет отдел про Кирпоноса. Под этот музей Борис Макарович даже освободил самую большую из комнат, в занимаемой им при школе квартире. Для этого музея учитель рисования из первой школы, Минько, написал прекрасный портрет Кирпоноса, а скульптор из Ични сделал два бюста Кирпоноса, один из гипса для комнаты в музее, и второй, такой же, но отлил из бронзы. Сейчас в Вертиевке краеведческий музей, основанный Борисом Макаровичем, располагается в специально построенном здании, на входе в него стоит бронзовый бюст Кирпоноса М.П.
Может раньше школьное воспитание было и не совсем правильным, но оно было. Молодежь как-то воспитывали и большинство воспитывалось правильно. Теперь и этого нет. Как-то, на одном из ежегодных телемостов В.В. Путина с народом, его спросили: «Раньше у нас была коммунистическая идеология, а теперь нет никакой. Мы не занимаемся воспитанием молодежи. Может нужно выработать новую государственную идеологию?». Ответ меня поразил: «Какая вам еще нужна идеология. Деньги зарабатывайте, пока есть возможность». А недавно по телевизору услышал, что издан новый указ правительства, в котором на школу, кроме обучения, возлагаются еще и воспитательные функции. Невольно напрашивается вопрос: «А куда же вы все это дели? Ведь все это уже было до вас».
Сверло
Директор школы объявил, что в субботу, в бору возле четвертой школы, состоятся соревнования по лыжам между учениками 8 – 11 классов. То есть, будут участвовать ученики 8 – 11 классов первой школы, и 8-е классы нашей второй школы, и четвертой школы. Третья, начальная школа, в которой были только 1 – 4 классы, в этом мероприятии, естественно, участия не принимала. От нашей школы выставлялась команда ребят из пяти человек, в которую входил и я. Лыжи рекомендовали приносить свои, но свои лыжи были только у Васи Ласого и Толи Зоценка. У меня они тоже были, но только детские, очень короткие. Соревноваться на таких было невозможно. В школе был десяток пар лыж, на которых мы по очереди катались на уроках физкультуры, но у них скользящая поверхность была настолько ободрана об лед, что они практически не скользили.
Я поинтересовался у своего товарища Володи Ювко, с которым когда-то ходил в первый класс, кто в их команде от первой школы самый сильный, и получил ответ, что это ученик их класса Иван, и у него есть свои лыжи с ботинками, и, что он сильный соперник. Меня также интересовало, преподавали ли им технику ходьбы на лыжах, потому, что у нас физкультуру вела женщина лет тридцати Ольга Николаевна, по кличке Морква, из-за своей оранжевой шапочки, похожей на морковку, которая нас ничему не обучала, а только принимала зачеты. Оказалось, что их этому также не учили, но Иван ходит хорошо, и даже лыжи смазывает. Я даже не понял, чем и зачем он смазывает лыжи. Ясно было одно, чтобы не опозориться, к соревнованиям нужно готовиться серьёзно. Поинтересовался еще, какую технику ходьбы лучше применять, чтобы хватило сил пройти 10 километров, на такие расстояния я никогда не ходил. В этом вопросе Володя мне помочь не мог.
Главным вопросом было – где взять нормальные лыжи. Мне подсказали, что в школе есть три пары новых лыж, которые никому не выдают. Одну пару новых лыж я у директора выпросил, но оказалось, что на них еще не установлены крепления. Это меня сильно не смущало, решил, что крепления я и сам установлю, я уже мог работать с деревом, и кое какой инструмент у меня дома был.
Лыжи и крепления к ним мне выдали в пятницу после занятий, времени на их подготовку оставалось в обрез, а еще желательно было проехать на них пару кругов по огородам, чтобы почувствовать их ход. Поэтому, не теряя времени, я помчался домой. Дома оказалось, что крепления предназначены под сапоги, такие обычно используются на солдатских лыжах. Сапоги у меня конечно были, во время распутицы мы все ходили в сапогах, но зимой все ходили в валенках, в сапогах ни один дурак не ходил, в них слишком холодно. Валенки были самые обычные, тканевые на вате, поэтому носить их можно было только с чунями. (Чуни – это изделия из резины, использовавшиеся вместо тяжелых галош, склеивались из старых автомобильных камер). Эти валенки шил отец на ручной машинке «Зингер», которая была у нас дома. Он эти валенки иногда даже продавал в Нежине на базаре, зарабатывая таким образом немного денег на жизнь. У меня были большие сомнения, что чуни будут держаться в этих креплениях.
Но даваться было некуда, нужно было пробовать. Крепления должны были прикручиваться к лыже четырьмя шурупами диаметром 5-6 миллиметров, предварительно засверленных отверстий под шурупы на лыжах не было. Нужно было сверло диаметром 3-4 миллиметра. Таких сверл у меня не было. У меня была своя двухскоростная ручная дрель и два сверла: перо по дереву, диаметром 19 миллиметров, с концевиком квадратной формы для коловорота, которому я на точиле придал круглую форму, чтобы приспособить под дрель, и сверло по металлу, диаметром 10 миллиметров, которое я приобрел, когда делал полукруглые рамы для слуховых окон на крыше дома. Других сверл у меня не было. Стало понятно, что эту работу нужно было делать в школьной мастерской, где могли быть нужные сверла.
Школьная мастерская у нас была неплохой, особенно столярное отделение, правда само здание мастерской, находящейся не на территории школы, а за церковным двором, было очень ветхим, и находилось в плачевном состоянии. Как-то Коля Потапенко строгал рубанком на верстаке доску, а она вылетела у него из крепления и насквозь пробила стену здания. Но сами столярные верстаки были замечательными, с двумя деревянными винтами, позволяющими закрепить обрабатываемые доски в каком угодно положении. Слесарное отделение было поскромнее, но, тем не менее, мы в нем изготавливали и навесы, и молотки, и дверные крючки. Нужные сверла там наверняка должны были быть, но школа уже была закрыта. Начал перебирать в голове возможные варианты.
Миша Костенецкий. Хвастался, что у него есть слесарный инструмент. В прошлом году он вызвался постановить мне кольцо на перочинный нож. У ребят появилась мода носить перочинные ножи на цепочке. Я купил себе перочинный нож и тоже хотел носить его на цепочке, пристегнутой к брюкам. Для этого нужно было просверлить в рукоятке ножа отверстие и вставить в него кольцо. Эту работу и взялся сделать Миша. Оказалось, что слесарный инструмент есть не у него, а у его соседа тракториста. Кроме того, ни дрели, ни сверл у соседа не оказалось, и Миша пробил дырку в рукоятке моего ножа пробойником. Вид ножа после этого стал ужасным, его стыдно было при людях вынимать из кармана. Следовательно, Миша отпадал. Помочь мне он не мог.
У соседей таких сверл отродясь не было. Оставался столяр Миша Рылький, муж моей троюродной сестры. До его дома далековато, но пришлось бежать. Опять неудача, сверл диаметром меньше 10 миллиметров у него не было.
– А чего ты переживаешь? – сказал Миша. – Мы на работе никогда не засверливаем, просто забивает шурупы молотком, как обычные гвозди. И продемонстрировал это, забив длинный шуруп в сосновую доску.
По дороге домой я зашел еще к одному столяру, Алексееву, отцу моей одноклассницы, но и у него нужных сверл не оказалось. Оставалось действительно забивать молотком, но страшно было расколоть лыжи, так как шурупы вкручивались на самом краю лыж. Дома попробовал проковырять отверстия под шурупы шилом. Лыжи оказались из бука, очень твердого дерева, не в пример сосне. Проковырять толком ничего не удалось, а при закручивании шурупов отверткой, на двух шурупах сорвал шлицы. Запасных шурупов у меня не было. Пришлось, по совету Миши, забивать шурупы молотком. Лыжи при этом, естественно, дали трещины, причем на правой лыже трещины от двух шурупов соединились, и образовалась широкая и длинная трещина. Уже совсем стемнело, когда я вышел в огород проверить лыжи на ходу. Как я и предполагал, крепления мои валенки с чунями не держали. Пришлось на крепления дополнительно установить дужки из алюминиевой проволоки, чтобы валенки не выскакивал из крепления. Стало немного лучше, но нога в креплении все равно болталась, и ехать было неудобно.
Утром я с новыми лыжами был на старте. Нам сказали, что лыжня идет вдоль дороги на Барамыки, в конце лыжни стоит контролер, который будет записывать номера участников. Его нужно объехать и вернуться обратно. Если догоняющие будут требовать лыжню, то лыжню нужно уступать, сойдя вправо или влево с трассы. Со старта запускали по одному, с интервалом в одну минуту, засекая время по наручным часам. Я тоже стартовал. Быстро догнал впереди идущих, кричал «лыжню», но дорогу мне никто и не думал уступать. Лыжня в лесу была только одна. Попытался обогнать по снегу, но понял, что это бесполезная затея, я не только не обгонял, но даже отставал, выбиваясь из сил. Пришлось тащиться за ними до дороги на Барамыки, которая начиналась только через два километра. Там я съехал с лыжни на укатанную дорогу и до разворота обогнал трех человек. Надеялся, что время я немного наверстал. Обратно, по дороге, также шел быстро, пока не въехал в лес. Здесь оказалась другая проблема, встречный поток лыжников, лыжня была только одна, а они ведь тоже торопились. Никто никому не хотел уступать дорогу. К этому добавилась еще одна проблема: начало разбалтываться крепление на правой треснувшей лыже. Примерно за полкилометра до финиша оно окончательно отвалилось. Идти на одной лыже по глубокому снегу было очень тяжело, тем более, что идти по лыжне мне не дали, чтобы ногой без лыжи не портил лыжню. Но, чтобы не подвести команду, нужно было с лыжами прийти на финиш, не важно в каком виде. Хотя и совсем обессилевшим, но я пришел на финиш, команда заняла второе место.
А ведь если бы у меня было это несчастное сверло, все бы закончилось совсем по-другому.