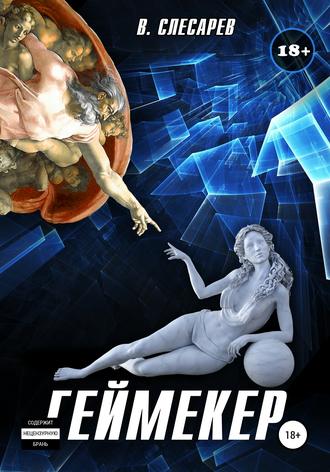
В. Слесарев
Геймекер
В руках Атсуко держала какой-то инструмент, похожий на мандолину, отличавшийся круто изогнутой назад головкой грифа. Приторно улыбаясь, она запела песню. Мюллер не был любителем музыки, однако даже для его нетребовательного уха ее исполнение показалось пыткой. Мелодия была непривычна, звуки диссонировали, а голос певицы напоминал крики дерущихся кошек. Вместе с тем, было очевидно, что все это не следствие неумения или отсутствия таланта. Напротив, в ее движениях и аккордах чувствовалась большая уверенность и выучка.
Когда, наконец, песня закончилась, Макото, поблагодарил ее едва заметным кивком головы, а Мюллер, в надежде, что концерт закончился, счел приличествующим сделать несколько негромких хлопков в ладоши.
К счастью, Атсуко отложила инструмент в сторону. Присев на колени, и издав звук, похожий на чириканье птицы, девушка принялась готовить напиток и разливать его в крохотные чашечки.
– Мадам гейша? – Спросил Мюллер. – Никогда их не видел!
– Не совсем, – Макото поморщился, – Атсуко происходит из старого самурайского рода, не менее древнего, чем мой собственный. Если опуститься до вашего понимания, можно сказать, что она, скорее, самурай.
– Не знал, что самураем может быть женщина.
– В самурайских рода́х все женщины самураи.
– Она что же может сражаться на мечах?
– И на мечах тоже. Хотя сражения это лишь малая часть обязанностей самурая.
– Правда? Что же она еще может делать?
– Многое, – произнес дайнагон, желая прекратить неуместные вопросы майора. – Если ее господин «попросит» ее убить ее собственных родителей, ребенка или мужа (считая, например, что они отвлекают ее от обязанностей, или препятствуют заключению нового брака, который был бы ему чем-то полезен), она должна сделать это без колебаний, стараясь выражением лица не отвлекать хозяина от дел или размышлений.
От этих слов Ватанабэ Мюллера передернуло. Не то чтобы он поверил японцу, однако то, с какой невозмутимостью говорил Макото, произвело на него такое впечатление, что он так и не смог собраться с духом, чтобы уточнить – правильно ли он его понял.
В комнате повисла тишина. Именно она соответствовала моменту церемонии. Слышалось лишь позвякивание чашек, чайника и бормотание переливаемого кипятка. Молчание продолжалось довольно долго. По выражению лица дайнагона, которое приобрело слегка возвышенное выражение, майор понял, что именно они – эти звуки составляют едва ли не главный предмет церемонии.
Наконец, напиток был приготовлен. Мюллер поднял чашечку, подул, чтобы остудить, и проглотил то, что было налито в один–два глотка, удивляясь, тому, что результат столь продолжительной и кропотливой деятельности оказался столь скромным.
Чай был неплох. Примерно как в их офицерской столовой.
Майор непроизвольно рассмеялся, вовсе не желая обидеть собеседника. Впрочем, тот и не думал обижаться.
Однако обоим, стало ясно, что продолжать церемонию не имело смысла.
Макото кивнул девушке. Та, со специфической японской грацией (не менее странной, чем японская музыка), поднялась с колен, открыла одну из стенных ниш и достала оттуда тонкую фарфоровую бутылочку и разлила ее содержимое в крохотные чашечки.
Мюллер еще раз рассмеялся и, не притрагиваясь к крохотульке, забрал у нее бутылку. Оставшегося в ней напитка было как раз на одну нормальную порцию. Он выпил ее из горла́, не разливая.
Специфическая водка крепко отдавала сивухой, но это не имело значения для Мюллера. Несмотря на отвратительное качество напитка, почти сразу же боль в его пояснице прошла, а окружающийся мир стал окрашиваться в краски, вполне приемлемые для жизни.
Макото вздохнул, глядя на майора, и щелкнул пальцами. Атсуко поняла, что церемония закончена и извлекла из ниши другой бамбуковый поднос, на котором двумя ровными рядами, стояло шесть бутылочек, наполненных жидкостью. Все они были только чуть больше первой.
– Ну что же, – подумал Мюллер, – экзотика, твою мать.
Он взял одну из бутылочек и выпил ее залпом. Крякнув, глянул на Макото, спросив, стиснув зубы, чтобы не срыгнуть этой дрянью:
– Что это?
– Саке – рисовая водка, – подтвердил его догадку Макото, – традиционный напиток самураев.
– Да, – съязвил, майор, – теперь я понимаю, почему они с такой легкостью делают себе харакири.
– Закусить-то хоть есть чем? – произнес он, оглядывая пустой столик, на котором кроме чая и саке ничего не было.
Произнес он это без задней мысли. Однако, уже задавая вопрос, задумался, какую же гадость предложит Макото.
– Лишь бы не медузу, – подумал он.
Еще в Гамбурге, знакомя его с японской кухней, дайнагон объяснил ему, что закуска к саке не может быть растительного происхождения, так как само саке – продукт брожения риса. Однако, Мюллер знал, что Макото не употребляет и плоти наземных животных, которая, согласно их древней традиции, для людей его круга была отвратительна. Более того, если бы что-то подобное хотя бы случайно попало в Чайный домик, он был бы осквернен и сожжен немедленно после его ухода вместе с лютней и диковинным, сверхценным горшочком.
Майор запомнил, что закуской, особенно в процессе «официальных» церемоний (на которой, как он полагал они сейчас присутствовали), может быть только сасими – тонкие кусочки рыбы, кальмаров, морских ежей или другой земноводной живности, желательно сырых, не подвергнутых термической обработке.
Однако их городок находился в сотнях миль от ближайшего моря, к тому же в прифронтовой зоне, где найти, что-либо подобное было невозможно. То же что плавало в болотах и мутных реках той мрачной местности, в которой они оказались, не взял бы в рот не только Макото, но и сам Мюллер.
С любопытством майор ожидал, как самурай выйдет из этого положения, на случай, готовясь к тому, что придется взять себя в руки и не ударить в грязь лицом перед радушным, но въедливо-ехидным в своей культурологической спеси хозяином.
– Закуску, – Макото кивнул Атсуко.
Та как всегда после указаний шефа, девушка кукольно улыбнулась, поднялась и достала из очередной ниши в стене маленькую подставку, на которой в нескольких рядах отверстий были закреплены белые фарфоровые цилиндрики с закругленными концами.
Атсуко села на место, поставив подставку перед собой. Она взглянула на Макото, тот подтверждающее кивнул.
Тогда она, привстав, поддернула кимано чуть выше колен, затем присела, полуоткинулась на спину и высоко задрав полы, раскрыла свое тело до живота. Трусов на ней не было. Она согнула ноги в коленях и широко развела бедра.
Ее промежность, открывшаяся взглядам мужчин, была почти голой. Она была опушена только редкими черными волосками, не более полусантиметра длиной. Продолжая улыбаться, Атсуко пальцем нащупала бугорок и начала его мелко массировать. Так продолжалось минуту другую. Мюллер смотрел на нее оторопело. Он не ожидал столь радикальной трансформации одной церемонии в другую. К тому же, судя по степени оволосения лобка девица была либо очень молода, либо сбривала растущую там растительность. Мюллер слышал, что это практикуется, хотя сам такого зрелища удостаивался впервые.
То ли от удивления, то ли от волнения у него закружилась голова. Головокружение имело двойственную природу. Первая заключалась в том, что его естество, еще до последней пертурбации, подспудно уже приготовилось отодрать эту красотку, которая сумела заинтриговать его своей странностью, сменой образов и вычурной восточной изысканностью. В контексте его отношений с Макото, ее присутствие здесь не могло означать ничего другого.
Однако, при всех своих недостатках, майор медицинской службы Мюллер был законопослушен. Как и большинство его соотечественников. Законы были незыблемы. На них держалась вселенная.
– Сколько ей лет? – сдавленно спросил он.
– Считать года – европейское занятие, – вяло ответил дайнагон, – у нас это не принято. Он прикрыл глаза и пару минут сидел неподвижно.
Однако Мюллер, любивший точность, а также имея ввиду, что когда-нибудь, за кружкой пива, он будет рассказывать приятелям об этом эпизоде своей фронтовой биографии, все же просил дайнагона уточнить это, объяснив, что интерес его носит профессиональный характер, а сам он с трудом может определять возраст азиаток.
Дайнагон без энтузиазма, изобразив на лице неудовольствие настойчивостью плохо воспитанного иноземца, пролаял «даме» вопрос, как того и требовал этикет в отношении приглашенного им гостя. Та пискнула ему что-то.
– Ее больше сорока, – перевел он ее ответ Мюллеру.
Услышав эту тираду, майор вздрогнул. Согласно инструкциям в его учреждении могли работать женщины в возрасте до 35 лет, поэтому то, что сказал японец, было для него неожиданностью. Хотя сегодняшнее приключение к его служебным обязанностям не имело отношения, ком подкатил к горлу майора, сознание поплыло, перед глазами забрезжили мутные трепещущие пятна. Усилием воли он остановил накатившую дурноту, подавив предательские спазмы в желудке. Недельная командировка, дурная водка и престарелая красотка оказались на гране того что он мог выдержать сегодня. В упор посмотрев на женщину, он так и не смог разрешить вопрос, шутит или нет его превосходительство. Теперь ему казалось, что плотный слой штукатурки, покрывавший лицо и шею «дамы», мог скрыть все что угодно. В японках он действительно разбирался плохо.
Однако Макото смотрел на него спокойно, не меняя безмятежного выражения лица, хотя и дурнота, и смятенье Мюллера от него не только не ускользнули, но и изрядно позабавили:
– Мы на территории консульства, – наконец произнес он сквозь зубы.
– Здесь действуют законы моей станы, – продолжил он тихим безжизненным голосом, – а их-то нарушить вы просто не сможете. У вас, – японец скривился, что-то припоминая, – у вас слишком тонкая кишечка.
В тоне и интонациях, которыми он произнес эту фразу, не было ничего кроме абсолютной, космически-безграничной невозмутимости. В нем не было ни капли позерства, ни капли ехидства, от которого в подобной ситуации не смог бы удержаться Мюллер, видя, как мечется его визави.
Возможно, поэтому смысл этой фразы раскрылся майору не сразу. Он понимал ее медленно, постепенно, по частям.
И только тогда, когда до Мюллера дошло значение его слов, его обдало горячей волной, которая прокатилась по телу, и материализовалась пульсирующей жилкой в правом виске. Каждое ее биение, словно колокол, отдавалось и звенело в его вдруг совершенно опустевшем, гулком, как жестяное ведро черепе.
Не в силах оторвать взгляд майор смотрел, как девица выполняет свою работу. Муть все еще мельтешившая перед ним постепенно рассеялась. Проблемы потеряли значение. Теперь он уже не сомневался, что совершит с ней сегодня множество безобразий, за которые даже ему завтра будет стыдно.
– Достаточно, – произнес Макото.
Девушка, не снимая с себя все той же приторной улыбки, которая, как ни странно, казалась абсолютно органичной ее естеству, такому же далекому от происходящего как заледеневшая глыба, летевшая в звенящей пустоте межгалактических просторов.
Потянувшись, она достала со стола пару стоявших там цилиндров, по одному ввела их в свое отверстие, и, вымазав слизью, передала мужчинам.
– Прост, – негромко произнес Макото, и, сделав глоток из бутылки, занюхал его поданной ему «ароматической палочкой».
– Прост, – словно эхо повторил Мюллер и, как сомнамбула, глотнул из бутылки, на этот раз не ощутив ни вкуса напитка, ни запаха волшебной закуски.
Глава 43
«Сад драконов» получил официальный статус в реестре «Заоблачного мира». Программу модернизировали, ненужные ограничения сняли, облегчили взаимодействие колонистов и Дикого народа. Организовали буферную зону.
На территории площадки открыли небольшой бордель. Дикий народ поставлял туда девушек, платя колонистам натурой за их обрюхачивание «божественными» генами. Колонисты, занимаясь маркетингом, обеспечивали поток клиентов, привлеченных экзотическим этническим сексом на фоне первобытной природы, собирая плату и с тех, и с других.
Ник осуществлял координацию «Сада драконов» с деятельностью фирмы. Правда, получившийся в итоге формат не мог генерировать большой поток туристов и приносить существенные доходы. Познавательный и развлекательный потенциал площадки в том виде, в котором она вышла из этой передряги, оказался невелик. В качестве плацдарма для детского и семейного отдыха она не годилась.
Оставался бордель с весьма специфическим уклоном, практически не имевший постоянных клиентов. Приключения подобного рода приедались удивительно быстро. Одно–два посещения максимум, на что они могли рассчитывать. Дикие, необученные, хотя и «чистые» девушки – товар на любителя. Впрочем, Литератор упорно работал над актуализацией этого эротического заведения и, нужно думать, его талант рано или поздно найдет изюминку и произведет некий продукт, который придаст ему необходимый шарм и популярность.
С другой стороны, много колонистам было и не нужно. Доходов вполне хватало для оплаты аренды и генерации тех немногих благ, в которых они действительно нуждались. Стоимость их была невелика. Требовалось лишь соответствующее программное обеспечение, создававшееся, к тому же, не специально для «Сада драконов», а всего комплекса площадок «Заоблачного мира» тем же Николаем и его командой.
Положение колонистов оказалось вполне приемлемым. Правда Алла – его жена в реале, категорически отказалась переселяться в виртуал, даже в виде скина. Добродетели декабристки не относились к числу ее достоинств, поэтому жизнь Николая там не отличалась стабильностью и упорядоченностью.
Время в виртуале тянулось медленно, заботы были просты и необременительны. Однако уже на второй год пребывания там сначала Глеб, а затем и Николай затосковали по Большому миру и своей работе. К тому же, всех беспокоила судьба подраставших детей. Мирок, в котором они жили, был мелок, бесперспективен, хотя до точки стратегического клиринга, который в будущем должен был зачистить нестандартные ответвления эволюционного процесса, их отделяло почти 13 миллионов лет. Так что времени было предостаточно.
Положение изменилось, когда в большом мире разработали программы, позволявшие отсылать туда компьютеры. Пересылка комков являлась проблемой не тривиальной и довольно сложной, однако ее, по требованию клиентов, привыкших иметь их в реале, включили в перечень программ обязательного сопровождения для виртуальных площадок и выполнили за счет фирмы.
Появилась возможность вернуться к профессиональной работе. И Николай, и Михалыч ею воспользовались и довольно быстро восстановили свой уровень. Они влились в коллектив «Тихого дома» и Ник (тот Ник, что в реале) даже зачислил их в штат своего отдела в качестве работников по удаленке.
Через некоторое время, после всех этих пертурбаций, «Сад драконов» посетил и сам Кондаков, до сих пор остававшийся управляющим компании. Он счел необходимым лично оценить ситуацию. Профессор был не прочь и немого отдохнуть зная, что в этом симпатичном мирке можно неплохо порыбачить в спокойной обстановке.
Его приняли тепло, хотя и без помпы, что, впрочем, нисколько Кондакова не задело. Криминала он не нашел. Ситуация была ясна и понятна. Возникла она в результате несовершенства технологических процессов по вине самой фирмы.
Площадка ему понравилась. Стоила не слишком дорого. Нормальные отношения в коллективе заслуживали того, чтобы смотреть сквозь пальцы на ее существование.
Рыбалка тоже была прекрасной. К тому же, против устройства там его небольшой фазенды никто не возражал.
На третий день командировки, когда по его словам, он уже удовлетворил свои низменные страсти, поймав чертову кучу разной рыбы, случилось непредвиденное. Подал голос мобильник, связывавший Николая с реалом. Сухие строки СМС кратко сообщили – Павел Сергеевич Кондаков около часа назад отошел в мир иной. Прямо на работе с ним случился сердечный приступ. Приехавшая скорая помочь ему не смогла и констатировала наступление смерти.
Нужно ли говорить, что это известие произвело глубокое впечатление на колонистов, не говоря уж о самом Кондакове. Их, только – только устоявшееся существование вновь оказалось под угрозой. События в фирме, от которых зависела жизнь их мирка, приобрели драматический характер.
К счастью, новые хозяева определились быстро. Предприятие разделили. Большую часть отделов перевели в Москву. Алла сумела занять в новой структуре должность коммерческого директора. В их городке остался небольшой филиал. Его возглавил Николай.
Кондаков, пытавшийся связаться с родными, имел лишь краткий разговор с супругой, после которого у нее случилось тяжелое обострение депрессии, навсегда сделавшее невозможным их дальнейшее общение. Больше никто из родственников на связь с ним не выходил.
Кондаков тяжело переживал случившееся. В одночасье он лишился родных, которым, в таком виде, оказался не нужен, своего статуса и места в Большом мире.
К счастью еще в реале, несмотря на столь неординарный приход в фирму, он сумел поладить с мужчинами, сделав все от него зависящее, чтобы новые хозяева учли их интересы. Сам он, став директором, выступал не в роли грозного, взбалмошного начальника, а скорее в качестве старшего товарища, авторитетного, полезного для дела, умевшего сделать комфортной работу каждого из сотрудников. Поэтому никто из колонистов его смерти не радовался и не злорадствовал по поводу произошедшего. Постепенно он свыкся с новым положением.
Глава 44
Вика работала на фирме уже много месяцев. Странное, поначалу, занятие постепенно перестало ее тяготить, как в первое время, когда она чувствовала неловкость перед парнями, обсуждая детали оформления борделя и его аксессуары. Однако, время шло. Она влилась в коллектив, показав свои живописные таланты. Народ их оценил, и, невысокая поначалу, зарплата выросла до почти сказочного, по меркам их заштатного городка, размера.
После переворота, новые хозяева даже ввели ее в состав акционеров фирмы, правда, скорее символически, скорее, для понижения значимости «отцов основателей», чтобы намекнуть на их заменимость. Хотя доля ее была мизерная, однако в психологическом плане это имело значение.
Помимо прочего, повышение статуса сняло проблему стеснительности. Чувствуя себя на равных с корифанами порноискусства, Вика ощутила потенции, которые раньше старалась не афишировать. Последующие странные события, с недоделанной игровой площадкой, где двух ее скинов то ли изнасиловали, то ли, наоборот, сами они перетрахали всех, кто был того достоен, сняли последние тормоза. Она почувствовала легкость и полную свободу в выражении своих эротических эмоций, больше ни мало не стесняясь коллег.
Подобные разговоры больше не раздражали, стали не без приятности щекотать воображение, и она обстоятельно отвечала на расспросы Литератора, касающиеся женского восприятия секса.
С этими вопросами Литератор приставал ко всем бордельным «дамам». Однако Алла была женой Ника. Эта «должность» не располагала к откровенности с парнями, хотя в бабьем кругу ее фантазии били ключом, и она на редкость смачно могла описать подругам, что такого она сделала с тем или иным трахенбургером, если бы тот попался ей в руки.
Кристина, в те времена, когда еще была директором, имея статус начальницы, не снисходила до ответов по существу, отделываясь плоскими шутками. Правда иногда ее стеб оказывался столь точен, что при всей своей пиитической одаренности Вика не смогла бы так ясно сформулировать мысли, рождавшиеся между ее ног.
Так, на вопрос Литератора – что для женщины является признаком идеального секса, она ответила одним словом – небезвозмездность. В качестве же количественного критерия такого перепихона она со смехом назвала – «полноту финансового потрошения» партнера. «Любовь», которой, по ее словам, женщина гордилась бы всю оставшуюся жизнь – та, которая позволит сделать это быстро и радикально. Чтобы свое дальнейшее существование ее бывший мог продолжить лишь с абсолютно чистого листа. Жаль, что такое случается редко. На худой конец, можно заниматься этим долго, как можно дольше, желательно пожизненно. Тоже приемлемо, хотя и не столь феерично и незабываемо.
Но это в идеале. Реальная жизнь – пошлая штука, и в ней приходится довольствоваться малым… Мужик измельчал и яйцами, и кошельком, уже не говоря о прочих достоинствах. Все остальное, применительно к женской сексуальности, по ее мнению, – частности, которые хотя и бывают приятны, но непостоянны, зависят от настроения, личных предпочтений, и возникают, скорее, как «трепет ожидания», в отсутствии настоящих поклевок, чем в качестве реальных знаков женского эротизма.
Вика оказалась наиболее подходящим кандидатом в консультанты Литератору. К тому же, обладая артистической натурой, умела облечь свои ощущения в слова и образы, приличные и даже романтические, к чему ни Кристина, ни Алла были абсолютно не способны. «Дамы» на эти темы, изъяснялись почти одним матом, с цинизмом, коробившим мужчин, надолго отбивая у Литератора желание заниматься женским отделением борделя. Мозг женщины – худшее из того, чем наделила ее природа. Слава богу – кто-то выдумал миф о «женской загадке», и большинству из них хватает ума его придерживаться.
Такое же впечатление женское отделение могло оказать и на клиентов-мужиков (которые туда, конечно, заглянут). В результате, те скорее отдадут предпочтение бездушным силиконовым куклам, чем бабам вообще и их заведению в частности.
Однако постепенно, далеко не сразу, Вика сумела доказать – ее творчество имеет право на существование, не противореча ни эстетическим стандартам, ни коммерческим интересам предприятия.
Заручившись клятвенным обещанием парней никогда не посещать придуманные ей аттракционы, Вика пробовала себя не только в качестве сопровождающего оформителя, но и в создании самого контента. Правда, на то, что молодые люди на самом деле станут выполнять взятые обязательства, не очень рассчитывала, понимая, что козлы (слава богу) козлами и останутся, и станут совать свои носы во все щели, которые их не касаются.
Впрочем, она не имела ввиду ничего плохого. В целом, тепло относясь к мужской части бордельной общественности, она понимала – изредка их козлиной бороде и мокрым, холодным, непослушным носам там было самое место.
Вика предпочитала делать контент не в литературной, а в живописной форме, наподобие комиксов, которые, впрочем, еще легче, чем литературные изыски Климентия, трансформировались в игровую реальность. Это позволило открыть в борделе, хотя и небольшое, отделение для дам.
Произошло это не сразу. Первые пробы пера оказались робки и неумелы. Вика вообще была девушкой несколько старомодной. В ее воспитании главную скрипку играла бабушка, воплотившая в ней представления своего поколения о том, какой должна быть порядочная девушка. Она таскала ее в художественную и музыкальную школу, в балетную студию местного драмтеатра, а потом на бальные танцы во дворец культуры.
Вероятно, ее сексуальность развивалась под влиянием этих странных занятий и оказалась прочно спаяна с ними. Первый позыв такого рода она ощутила во втором классе, когда после бессонной ночи, в балетной пачке, в составе трех «маленьких лебедей» впервые вышла на публику, состоявшую из мальчишек ее класса.
Их глаза и комментарии, которых она не слышала за звуками музыки, но явственно ощутила по вдруг заалевшим ушам, ухмылкам и вихрастым головам, склонившимся друг к другу, подействовали на нее как удар тока. Она почти наверняка знала, что шепчут их губы.
Ее сердце затрепыхалось, на секунду ослабли колени. Ей стало дурно. Именно тогда она поняла смысл этого слова, которое частенько употребляла ее бабушка. Но это ощущение тот час же исчезло, стоило ей увидеть завистливый огонек, блеснувший в глазах подружек, тоже мгновенно оценивших и голые, по самую талию, ноги и скабрезный шепот мальчишек, лицезревших ее тощие прелести.
С тех пор музыка и танцы заняли прочное место в ее эротических грезах. Особенно возбуждающе на нее действовали ламбада и танго – следующие вехи ее сексуальной биографии.
Поэтому, заведение майора Мюллера (из всех прочих, находившихся в меню «Тихого дома»), располагавшееся в конце сороковых в «Европе», как нельзя лучше подходило для ее эротических инсинуаций. Правда она никак не могла найти фабулу, чтобы «попасть» в него должным образом, в приемлемом качестве, – который был бы и достаточно звездным, и включал в себя и кое-какие другие эротически перспективные заморочки.
«Работа» же простой проституткой ее не устраивала, не давая простора фантазии. Хотелось и большей экзотики, и жара, и романтики.
Но это было поправимо.
В конце концов, подчищать сюжетные огрехи – штатная обязанность Литератора.
Придвинув клавиатуру, Вика долго листала странички Ютуба. Наконец, она нашла, что искала. Старое довоенное танго. Несколько минут она слушала его, откинувшись в кресло. Ее руки потянулись к планшету и забегали по клавишам:
Это была Аквитания – лесистые холмы, неспешные потоки, несшие воды под скалами. Полуразрушенный донжон старого замка с замшелыми стенами из грубо отесанных блоков, зарос плетями дикого винограда. Единственный вход в него проходил через ветхого вида, но еще крепкий, некогда бывший подъемным мостик, переброшенный через ров, на дне которого темнела вода, покрытая ряской и крупными листьями водяных лилий, теперь почти невидимых в сгущавшемся сумерке осеннего вечера. Настил врос в окружающий грунт, его массивные цепи провисли и были обвиты зелеными гирляндами вьюнков, украшенных белыми, синими и бордовыми цветами. Где-то наверху, на стыке серого камня и уже темневшего неба, неярко светилось оконце. Всполохи огня, с трудом прорывались сквозь старое, почти непрозрачное стекло и бросали едва различимые блики на его неровные откосы…
Майор указал Леваневской на постамент:
– Что-то мы заболтались. Марта, включи музыку! Мадам! – Ваш выход! Мы все – внимание!
Женщина вздрогнула. Как могла, она оттягивала этот момент. Однако уже зазвучала музыка. Раздался голос Лео Моно́нсо́на.
Древняя скользкая тварь влезла на ветку, раздула горловые мешки и начала свой концерт. Ее икра, ощутив священные вибрации, немедленно взволновалась, дала обильный пенный сок и начала движение в сторону выходных отверстий.
Это было – «Ты украл мое сердце»:
Колдовством своей скрипки
Ты украл мое сердце.
Песнь любви без ошибки,
Меня манит к тебе.
Будем мы неразлучны
Словно птицы и небо
Словно море и ветер
Пока живем.
Ее любимое танго. Множество раз она слушала эту пластинку, знала каждую ноту, каждый пассаж голоса. Танго струилось. Голос Лео обволакивал тело, разливался по жилам, болезненно и томно натягивая их, словно струны.
В такие моменты Леваневская сама ощущала себя скрипкой. Страстно хотелось, чтобы ее вынули из футляра, прикоснулись к ней ласковой и твердой рукой, и извлекли из нее мелодию. Такую же прекрасную. Кровь вскипала крошечными пузырьками, которые, двигаясь, заполняли самые укромные уголки тела, заставляя вибрировать в такт волшебным звукам.
Именно тогда, когда она слышала эту мелодию, она с наибольшей силой ощущала себя женщиной. В одиноких грезах, в пустой холодной комнате, куда она возвращалась после работы, при звуках этой мелодии мерзости жизни отлетали прочь, и даже образ Гюнтера переставал мучить душу.
Она представляла себя там, в Вене, где она провела пару лет стажировки. Она видела себя на Рождественском балу, куда ее пригласили однажды. Пускай она уже не с ним. Так даже лучше.
Музыка играла. Ярко красное атласное платье обвивало ее фигуру от шеи до пола.
Она кружилась в толпе мужчин. Мужчины во фраках – молодые и старые, высокие и приземистые, стройные и пузатые. Это неважно. Взгляды прикованы только к ней. Она же плавно и нервно скользила по паркету, полузакрыв глаза, после каждого па меняя партнеров.
Не переставая кружиться, она высоко поднимала точеные руки.., нажимала на рычажок застежки на шее. Платье, струясь, ниспадало на пол.
Кружение продолжалось… Ей казалось – под эту музыку, назло ему, она могла бы раздеться перед всей австрийской армией. Полюбить всех и счастливой умереть в их объятиях.
Теперь ее грезы сбывались. Если бы она знала, что будет именно так. Как же она была глупа и наивна.
Однако, танго струилось. Голос Лео обволакивал тело, черпая силу в старой, уже затвердевшей патефонной игле, нещадно царапавшей вертящуюся пластинку. Лившиеся звуки не оставляли ни единого шанса.
Замшелые стены замка, в свете зарождавшихся в густевшей темноте звезд, казалось, парили над долиной, бесконечно далеко от всего остального мира. Только здесь, высоко над прозябшими скалами, за одним лишь окном неярко горел огонь. Потрескивали дрова в камине. Волны жара, исходившего от него, накатывали, но достигая тела, как ни странно, вызывали озноб, расползавшийся по коже колючими лапками редких мурашек. В креслах вольготно развалясь сидели двое мужчин. Запах сигар и остывавшего глинтвейна делал воздух густым и терпким. Имбирные нотки будили воспоминания о теплых морях. Которые были так далеко. Уже не в этой жизни.
Музыка звучала. Она пела о бренности любви:
Колдовством своей скрипки
Ты украл мое сердце, —
пел Моно́нсо́н…
Вибрировавшие звуки заметно сипевшей пластинки, казалось, плотно, почти ощутимо заполняли пространство, сдавливая грудь, раздували угли в камине. Невысокое пламя натужно гудело. На верхних нотах, до черноты обгоревшие поленья, внезапно багровели и неожиданно стреляли снопами искр, сразу же пропадавших в дымоходе. Неяркие сполохи, сливаясь с надтреснутым голосом Моно́нсо́на, плясали затейливый танец на темных стенах из красного кирпича.
Аккордеон задавал неровный, каждую секунду готовый сорваться ритм. Удары сердца покорно следовали за ним. Потоки гонимой ими крови то бились в виске трепещущей жилкой, то замирали, будто в последний раз.
Скрипки вытягивали душу. Труба, периодически воспаряя над оркестром, сообщала, что и любовь, и жизнь кончены. Можно умирать. Действительно, если бы можно было выбирать, следовало сделать это теперь.
Однако не стоит верить прекрасным звукам. Они наверняка обманут. И слава богу.
Сидевшие в креслах мужчины – коренасты, насуплены, взгляд их тяжел. Они ждали.
Будем мы неразлучны,
Словно птицы и небо,
Словно море и ветер, —
пел Лео, —
Пока живем.
Что еще нужно для счастья?
Она была балериной. Ее спина напряглась, мышцы задвигались под тонкой кожей, образовав два тяжа по сторонам ложбинки позвоночника. Позвоночный столб натянулся, принял должный изгиб, словно бы даже кляцкнув, как хорошо смазанный затвор винтовки, принявший в ствол штатный патрон. Она подняла голову, поставила шею, и, сбросив туфли, вступила на постамент.



