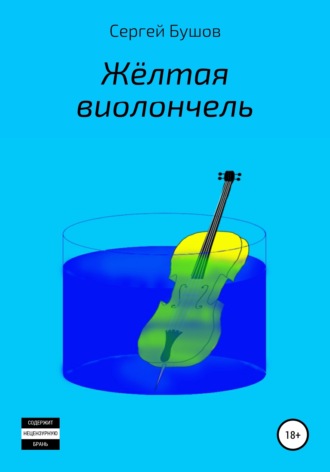
Сергей Бушов
Жёлтая виолончель
Завтра надо было поговорить с ним начистоту. Элемента я бы не выдал, но намекнул бы, что знаю кое-что. Эх, заплатил бы Левин хоть за месяц…
Я зашёл в компьютерный класс. Разобрал один из системных блоков. Снял дисковод и стал переставлять в другой компьютер.
– Привет, – послышалось из-за спины.
Я вздрогнул. Погружённый в свои мысли, не заметил, как подкрался Паша.
– Привет.
Он постоял немного, покачав своей лохматой головой высоко под потолком, потом присел на пустой стул.
– Решил попрощаться зайти, – сказал он. – Я уволился. Только что.
– Ну и правильно, – сказал я. – Что дальше будешь делать?
– Не знаю, – Паша выглядел исхудавшим и несчастным. – Не могу больше. Не знаю.
Он посидел, помолчал.
– Жанна меня бросила. Я понимаю. Я пью слишком много. У неё какой-то музыкант теперь. Вроде популярный. А я кто?
– Ты умный мужик, – сказал я. – Здоровый, симпатичный. Найдёшь себе ещё кого-нибудь.
Паша поднял на меня измученный взгляд:
– Нет. Это другое. Ты не поймёшь.
– Не пойму, – соглашаюсь я.
– Я не пью со вчерашнего дня, – сказал Паша. – Только чувствую, что снова начну. Тянет. Ничего другого не хочется. Наверно, это и называется алкоголизм. Не могу бросить.
Внезапно его взгляд оживился. Я узнал в этом взгляде прежнего Пашу, с которым общался с университета.
– А знаешь, что? – сказал он. – Это можно вылечить. Ведь пьянство – это же в мозгу. Есть какая-то точка, которая за это отвечает. Я дырочку высверлю и выковыряю её. А то, видишь ли, не лечится. Вот только узнать, что за точка.
– Сходи лучше к психотерапевту, – посоветовал я. – Поможет. У меня и визитка есть. Вот.
Он взял визитку, рассмотрел.
– Иванов, – сказал он. – Подозрительная фамилия. А ты что, тоже? Э… Ну ладно. Может, и схожу.
Он окинул взглядом класс и скелеты полуразобранных системных блоков.
– А ты что тут делаешь? Всё это барахло пытаешься оживить? Сам же говорил, что только три работающих винта.
– Это да, – сказал я. – Но я подумал… Если загружаться с дисковода, создавать виртуальный диск, а потом по сети грузить необходимый софт, то, может, прокатит…
– Хм, – сказал Паша. – Блин, гениальный план. Правда. На хрена только, непонятно. Зачем это тебе?
– Не гениальный, – вздохнул я. – Дисководы тоже все дохлые. И дискеты – это же прошлый век. А потом – даже если загружусь, что дальше? Винду же нормальную все равно не запустишь. Если только…
– Вали ты отсюда, – перебил Паша, вставая. – Пока не сгнил здесь, как я. Пока.
Он встал и пошёл к двери.
– Пока, – сказал я.
Дверь хлопнула. Я вернулся к компу. Снял дисковод, повертел в руках. Положил на стол. Задумался.
Мысли мои текли довольно странной траекторией. Я начал с Левина и желания уйти из конторы, продолжил необходимостью заплатить Жупанову за комнату и Ивановым, который обещал дать денег. Потом вспомнил уродов, пумаров и снова вернулся к Левину. Все эти мысли были не до конца оформленными, я вряд ли смог бы сформулировать их на тот момент в словах. Скорее, я перебирал в уме картинки и эмоции, которые эти картинки вызывали. Я злился. Но, с другой стороны, состояние моё после насыщенного рабочего дня было сонным.
Ещё завтра мне предстояло занятие школы, которое я обещал сделать практическим. А компьютеров, которые можно было условно назвать рабочими, по-прежнему было три. Я не видел из этой ситуации хорошего выхода, поэтому злился ещё сильнее.
Шум заставил меня встрепенуться. Судя по звуку, к воротам подъехало несколько машин. Захлопали двери, раздались голоса. Громкие, недобрые. Я не разбирал слова, но по интонациям понимал, что половина этих слов – нецензурные. У меня не возникло никакой ясной мысли о том, что происходит, но я почему-то подошёл к выключателю и погасил свет. А потом мне вдруг стало страшно.
Голоса приближались к зданию. Жалобно взвизгнула дверь. Я услышал грубые слова, нечёткие, но угрожающие, внизу, на первом этаже. Кажется, ругались с охранником. Удары, что-то упало. Опять крики. Затем топот быстро поднимающихся ног.
Я сидел не дыша. Ворвавшиеся в здание люди добрались до двери офиса, которая находилась рядом с моей.
– Здесь, похоже. Закрыто, – услышал я тот же грубый голос. – Чего стоишь? Ломай. Там он, сука. – Послышался удар и треск дерева, а затем грохот упавшей двери.
Ноги затопали дальше, в офис. Там я слышал хуже, но понял, что они подобрались к кабинету Левина. Послышалась громкая ругань, в которой я разобрал множество матерных слов, а также «Арама кидать» и «с глузда съехал».
Опять загрохотало. Послышалось несколько ударов и визг Левина. Я никогда раньше не слышал, как он кричит, и это было отвратительно.
– Не надо! – высоко, надрывно, словно лопнувшая струна, донеслось из-за двери. – Я отдам, через недельку, правда…
Последовали новые удары. Снова мат, а потом хриплый голос, видимо, принадлежавший главному из нападавших, произнёс отчётливо:
– Что-что? Полицию? Да ты совсем охерел! Вот же полиция у нас, с собой. Вован, корочки ему покажи… И врежь ему хорошенько, чтобы мозги вправить…
Я подумал о том, что надо бы потихоньку сбежать. С другой стороны, внизу мог дожидаться один из бандитов. Так что, пожалуй, сидеть тихо было наилучшим выходом. На секунду мной овладело дурацкое геройство. А что если выскочить и попытаться на них напасть? Можно было взять в качестве оружия, скажем, крышку от системного блока. Но я тут же остановил себя. Во-первых, я бы не смог справиться с ними даже при большом везении. А во-вторых – зачем мне это? Хотел ли я защищать левинский «бумер»?
Там, за стенкой, продолжался шум. Я уже не прислушивался, а просто сидел на стуле, стараясь не шевелиться.
– Два дня! – крикнул проходящий мимо моей двери главарь. – Вован, и разнеси тут всё как следует, чтобы он понял, мудак, что мы не шутим.
Прошло, наверно, минут пятнадцать. Мимо двери за это время несколько раз пробежали туда-сюда, потом всё стихло. Я осторожно выглянул в окно. С территории выезжали две большие чёрные машины – «Гелендваген» и ещё одна, которую не разглядел.
Я вышел из класса. Дверь в офис была выдрана с мясом и валялась на полу. Столы с компьютерами полыхали огнём, и я тут же подумал об Элементе. Я уже дёрнулся было бежать к своему столу, но увидел, что стол опрокинут вместе с компьютером, монитор расколот, а огонь пляшет по фальшполу вокруг длинными языками. Вряд ли я уже смог бы что-то сделать.
Справа до моего слуха донеслось слабое шевеление. Я поморщился, вспомнив про Левина. Подошёл к его кабинету. Там было разломано и раскидано то, что можно было разломать и раскидать за пятнадцать минут, то есть практически всё. Первое, что бросилось мне в глаза – расколотая пополам крышка письменного стола, прогнувшаяся в форме латинской V. По полу были разбросаны бумаги из раскрытого и выпотрошенного сейфа, который лежал на боку возле принтера с разбитой верхней крышкой. Я нагнулся и подобрал с пола серо-голубую книжечку, показавшуюся знакомой. Это была моя трудовая книжка.
– Как хорошо, что ты здесь, – услышал я из дальнего угла. – Они мне сломали что-то. Кажется, рёбрышко. И ножку, – Левин всхлипнул.
Я обогнул стол, который преграждал дорогу, и увидел его. Он полулежал на полу, прислонённый затылком к стене, и являл собой настолько нелепое зрелище, что я чуть не рассмеялся.
Левую сторону лица занимал один сплошной кровоподтёк, отчего лицо становилось похоже на маску клоуна. Глаз припух, и мне казалось, будто Левин мне подмигивает. Пиджак и рубашка, выехавшая из штанов, задрались к шее. Рубашка была тоже выпачкана тёмно-красным. Ноги торчали в разные стороны, тоненькие, как спички, и его поза напоминала мне то, как обычно изображают детских кукол в букварях. Ступня правой ноги была вывернута неестественно, и это выглядело кокетливым жестом.
– Вызови «скорую», – сказал он. – Кажется, я телефончик уронил куда-то.
Я раскрыл свою трудовую, приблизился к нему и протянул:
– Я уволиться хочу. Прямо сейчас.
Он заморгал правым, здоровым глазом:
– Плохенько мне. Вызови «скорую».
Я подобрал с пола ручку и, приложив к трудовой книжке, ткнул Левину под нос:
– Я увольняюсь. Пиши.
– Это же приказик надо выпустить, – заныл Левин. – Я же не смогу.
– Наплевать на приказ, – сказал я. – Всё равно всё сгорит.
Левин встрепенулся:
– Сгорит?
Похоже, до него только сейчас дошло, почему пахнет палёным.
– Помоги, – заверещал он. – У меня ножка… Помоги встать.
Я молчал.
Он смотрел на меня жалобно ещё секунд пять, потом вырвал из моей руки трудовую и, положив на бедро левой ноги, накорябал что-то.
– Ещё печать нужна, – сказал он. – В столе.
Я отломил часть крышки стола, достал из ящика печать со штемпельной подушкой и оставил оттиск на записи. Потом поискал глазами на полу и увидел левинский «Айфон». Подвинул к нему ногой.
– Вызывай свою скорую, – сказал я и направился к выходу из офиса. Зашёл в класс, где оставил рюкзак. Сунул трудовую книжку в его внутренний карман, застегнул, повесил рюкзак на плечо. Постоял мгновение возле выломанной двери, подумал, потом всё-таки вошёл в офис.
Огонь уже прогрыз гипсокартонную перегородку и жевал её, словно бумагу. Левин сидел в той же позе, дрожащей рукой всё ещё пытаясь разблокировать свой телефон. Я нагнулся над ним, ухватил под мышку, попробовал поднять.
– Ай! – он скорчился и вцепился в мою руку. Потом привстал и навалился на меня.
– Пошли.
Он был тяжёлым и неуклюжим. Похоже, в груди у него болело, поскольку он непрерывно охал и стискивал моё плечо. Я тащил его к лестнице, потом вниз. Когда я опустил его на ступени у входа, силы мои закончились.
– Дурак ты, Жора, – сказал я, пытаясь отдышаться. – Если у тебя есть «Ленд-Ровер», чего ты на нём на работу не ездишь? Или стыдно?
– Так ведь нужна же машинка-то, – забормотал он. – Я же и купил, потому что престижненько… Клиентики должны видеть…
Я отобрал у него «Айфон», набрал номер «скорой». Назвал адрес.
– Приезжайте скорее, пожалуйста. Тут человек раненый. Нет, я не родственник.
Я вернул телефон Левину, который всё ещё что-то мне объяснял.
– Прощай, Жора. Сейчас тебя спасут.
– А они точно приедут? – заволновался он. – У меня кровушка…
– Разберись как-нибудь сам, – сказал я и зашагал к калитке. В первые секунды я почувствовал облегчение. Можно было бесконечно ждать, когда у Левина проснётся совесть, и он выплатит зарплату. А теперь всё становилось на свои места. Теперь я был свободен. Все дороги открылись передо мной.
Но через минуту или две, когда я шёл по вечерней улице, окружённый горящими окнами и праздношатающимися подвыпившими гражданами, у которых, в отличие от меня, был обычный вечер пятницы, мне вдруг стало тоскливо. Я не мог толком сам себе этого объяснить. Вроде бы это было не из-за Жупанова с его квартплатой. И не из-за Иванова, опытов которого я не понимал и боялся. И не из-за погибшего Элемента, которого было жаль, но при этом я всё же считал его всего лишь программой. И вроде бы даже не из-за того, что я оказался безработным. Тогда из-за чего?
С работой, кстати, всё обстояло непросто. Ведь теперь надо было кого-то обзванивать, писать в кадровые агентства, искать вакансии. У меня и Интернета-то нормального не было, только телефон. Кстати, деньги на счету заканчивались. Да дело было и не в Интернете… Все эти фирмы искали людей, которые уже что-то умеют, имеют большой опыт работы, знают кучу языков и программ, а разве это относилось ко мне? Они выбирали наверняка очень придирчиво, особенно сейчас, на пике кризиса… Наверно, мне просто не хотелось искать работу. Не знаю.
Я спускался по эскалатору в метро. Всматривался в едущих наверх людей на встречном эскалаторе. Парочка влюблённых. Оба были пьяны. Она качала волосами, заглядывала в глаза. Он глупо улыбался и держал руку на её заднице, вызывая у меня отвращение. Бритый наголо мужик вёз в упаковке новые автомобильные дворники. Небось, в компании друзей любил делиться тем, что у него машина круче, чем у других. И хвастаться, как съездил на рыбалку и поймал вот такую рыбу. И рассказывать, как починил дома пылесос при помощи скотча и обычной дрели. Толстая старуха в двух платках, повязанных один поверх другого, втаскивала на эскалатор огромные мешки. Из мешков торчали мятые газеты. Куда она везла свои мешки? Зачем?
Эскалатор кончился. Я зашагал на платформу, где меня ждал сюрприз. Вся платформа была забита людьми, несмотря на позднее время. Очевидно, поезда давно не было. Возможно, очередной самоубийца бросился на рельсы. Хотел ли я тоже так поступить? Не знаю. Ведь это так просто. Или не просто? Я закрыл глаза и представил, как шагаю с платформы. Нет. Не смог бы. Я вообще мало на что мог решиться. В этом, наверно, и была моя проблема.
Люди всё прибывали. Наконец, приполз поезд, но я при взгляде на забитый вагон сразу понял, что не влезу. В следующий попытался, но дверь снова закрылась передо мной. В третий поезд втиснулся, пролез чуть право, повиснув на поручне. Со всех сторон придавили, так что опустить руку я уже не мог. Двери закрылись, поезд тронулся. Я стоял на одной ноге и пытался нащупать место для второй. Рюкзак, зажатый между чьими-то телами, я крепко держал за ручку, стараясь ни в коем случае её не выпустить. У меня под мышкой женщина невозмутимо читала сложенную вчетверо газету, положив её на грудь высокого мужчины, который был притиснут к двери.
Поезд разгонялся. Почувствовав, что я сейчас потеряю равновесие, чуть подвинул руку на поручне, задев локтем берет читающей тётки. Та обернулась, грозно блеснув очками, взглянула мне прямо в лицо и процедила:
– Молодой человек! Вам так, наверно, удобно?
Я почувствовал, как мои руки затряслись, а в висках застучала горячая кровь.
– Нет, – ответил я громко. – Вот если бы все в этом вагоне сдохли, я бы на одну кучу трупов сел, а на другую ножки положил. Тогда было бы удобно.
Мне показалось, что мир вокруг замер. Шелест книжных страниц, голоса, которыми пытались пассажиры перекричать шум метро, тиканье часов, передёргивание затворов оружия – всё умолкло на секунду. На меня уставилось несколько пар глаз. Потом они отвернулись, и всё продолжилось как раньше. Почти как раньше, потому что теперь мне стыдно было смотреть на людей. Тогда я попытался отвести взгляд туда, где их не было, и наткнулся на своё отражение в тёмном стекле вагона.
Я был некрасивым человеком с неуклюжей фигурой и рябой кожей, который висел в дурацкой позе на поручне, раздавленный толпой ненавидящих его людей, и сам их ненавидел. Одежда его была несвежей и помятой, взгляд – пустым и усталым, а из глаз бежали две блестящие капли. Мир вокруг расплывался и утекал вдаль.
Я видел снег. Или пепел? Я не мог понять. Я спускался с холма вниз, в долину. Нет, это был не холм. Это была груда строительного мусора. Вокруг меня, собственно, всё было строительным мусором. Остовы многоэтажных домов, похожие на скелеты мёртвых чудовищ, причудливо торчали со всех сторон. Поверхность, по которой я двигался, была неровной от того, что на земле были свалены кучи бетона, стекла, металла и прочих обломков. На моём пути встало торчащее из кучи металлическое ограждение в виде металлических завитков, которое пришлось обогнуть.
Я шёл не просто так. Я испытывал страх и одновременно притяжение к тому месту, куда смотрел. Я видел там фигуру, занесённую этим снежным пеплом, который непрестанно валился с небес. Тело человека лежало на боку, придавленное к земле обломком бетона, из которого торчали ржавые железные штыри. На месте груди находилось бесформенное пёстрое крошево, пронизанное насквозь кусками арматуры.
Порыв ветра сдул с тела слой пепла, открывая часть лица. Щека была содрана, обнажая белые, ровные зубы. Остекленевший глаз, вылезший из глазницы, смотрел в небо. На секунду мне показалось, что это вообще не человек. Кажется, что-то металлическое блеснуло у него во рту, хотя я не был уверен. Но почти тут же я вдруг узнал его, и от этого меня начало трясти мелкой дрожью.
Синева вокруг дрожит. Нет, это я дрожу. Я лежу на земле. Я свалился со скамейки возле подъезда на асфальт. Мне очень холодно. Стучат зубы, я не могу согреться. Я кое-как залезаю обратно на скамейку, пытаюсь осознать увиденное.
Я только что видел свой собственный труп. Что это было? Сон? Но это не похоже на сон. Это словно кусочек прошлого, которые один за другим возникают в моей голове. Может, это и есть прошлое? Может, я умер и сейчас брожу по аду в наказание за свою бестолковую жизнь?
Нет. Это точно не так. Во-первых, не верю я в ад. Во-вторых, я же видел своё тело со стороны. Значит, я был кем-то другим. Тогда кем? Да кто я вообще на самом деле?
Может, я Левин? Может, я умер тогда и увидел труп своего врага? Я чихаю. Чушь, чушь. Горло режет. Надо унять дрожь. Где-то у меня был пуховик. Вот валяется. Надеваю его. Всё ещё трясёт. То, что я видел – это может быть чем угодно. У меня лихорадка, жар. Хорошо бы сейчас в тепло. На юг. На море. На какое-нибудь Дохлое море. Погреться. Или оно Мёртвое? Нет, не надо вспоминать. Сейчас опять провалюсь туда, в весёлые картинки. Это всё неправда, там. Не может быть такой нелепой жизни. И такого бестолкового меня. Я же хороший. И неглупый вроде. Был. Если, конечно, я – это я. А может, я африканец? Тогда понятно, почему я мёрзну.
Наклоняюсь к ноге, задираю штанину. Нет, кожа светлая. А это что? Откуда такой огромный синяк? Оказывается, он ноет. И всё-таки хорошо, наверно, в Африке. Оторвали меня от моей родины, привезли в этот суровый серый край… А какой, собственно, край?
Может, это всё-таки ад? Филиал ада. Если ты попал в ад, как это понять? Там вроде пять кругов… Или не пять? Нет, пять – это Олимпиада. Не помню… Там – больно. И мне сейчас больно. Нет, в аду котлы. Виртуальные. Или горшки.
Где я? Может, я сам тут, а душа в аду? А такое бывает? И совесть тогда где? Между мирами? Я тру лоб, пытаясь привести мозг в порядок. Мысли плывут в никуда. Агатомея. Мысли. И они тоже между мирами. А я? Я-то где?
Я сижу на скамейке возле подъезда. Стоит тёмная ночь. В домах вокруг мерцает зелёным всего пара окон. Недалеко горит фонарь. Странно это всё. Что странно? Да вот то, что я вижу в прошлом. Странный этот огонь, не настоящий, который пожрал нашу шарашку. Странный Левин. Странные бандиты. Нереально это всё. Не могло такого быть. А уж курносый дворник – такого точно не бывает. И чувствую я себя странно.
Хочется пить. Трубы горят. Почему так говорится – «трубы горят»? Может, потому, что пароход? Наш пароход вперёд летит… Трубы загорелись у парохода, надо потушить. Поэтому топят его в воде вместе с людьми. Или это не трубы горят, а трупы? Крематорий. Прах к праху. Да. О чём я думал?
Трудно найти место на моём теле, которое не болит. Живот режет изнутри. Он просит еды. Наверно, можно пойти вон к тем мусорным бакам и поискать еду. Но мне слишком плохо. Меня трясёт. И нога. Почему я раньше не замечал, как она ноет?
Стоп. Кажется, опять та же мелодия из окна. Я точно её знаю. Может, я её играл раньше на виолончели? Ха-ха. Смешно. Но сейчас она точно электронная. Какая знакомая музыка… Нет! Не вспоминать! Может, просто напеть? Ля-ля-ля…В горле сипит и клокочет. Никакое это не пение, а предсмертный хрип. Но я точно слышал эту музыку… Я снова громко чихаю. Где платок, чёрт побери?
Но откуда она, эта музыка? Кажется, из того же окна. Значит, я вернулся к тому подъезду, у которого сидел в прошлый раз. А дедушка с собакой тогда вошёл или нет? Вроде бы вошёл. И эта музыка… До чего же хочется вспомнить…
– И знаете, – сказал Иванов, отходя далеко от меня, к доске, – я пришёл к ошеломляющему выводу, что ваша основная проблема кроется в вашей памяти. Вы помните, если можно так выразиться, слишком много. Вас ограничивают рамки ваших стереотипов, воспоминаний, комплексов. Уж не знаю, что там такое прячется, в вашей голове, но оно точно вам мешает. И, однако, я вижу в вас прогресс… Хм. Я же просил вас снять очки.
– Я и снял, – сказал я, находясь мыслями далеко отсюда. Я вспоминал Элемента. Пожалуй, это единственное существо, с которым я мог нормально поговорить в последнее время…
– Ну, так отложите их в сторону, не вертите! – Иванов сердился, я это отлично видел, хотя он и находился от меня на расстоянии метра в три. – Я приготовил для вас новый эликсир. Он действует совершенно по-другому. Попробую объяснить…
Он раскрыл книгу, которую всё это время держал в руке. Или это была тетрадь? Скорее тетрадь в твёрдом переплёте, исписанная убористым почерком. Иванов показал мне разворот и ткнул пальцем в маленький рисунок в углу.
– Как вы думаете, что это? – спросил он.
– Думаю, сердце, – ответил я.
– Хм. Как вы догадались? – удивился Иванов. – Там так плохо нарисовано.
– Там же подпись внизу, – объяснил я. – «Сердце в разрезе».
– Замечательно! – Иванов вдруг заулыбался, закрыл книгу и направился ко мне. – Так вот, об эликсире… Давайте уже приступим к делу. Идите за мной.
– Вы хотели что-то объяснить, – напомнил я.
– Объясню по ходу дела, – ответил Иванов. Я видел, что у него отличное настроение, лучше, чем когда бы то ни было. С чего это вдруг? Он шёл к лестнице, буквально пританцовывая, хотя выглядело это несколько чудно.
Снова мы спускались в подвал, и снова я ощущал неясное беспокойство. Да, Иванов рассказывал мне общий смысл своих экспериментов, но то ли я упускал что-то из виду, то ли он рассказывал не всё. Я всё ещё не мог понять, чего он пытается добиться и каким образом.
– Ложитесь, – сказал Иванов. – Ботинки, пожалуй, лучше снимите. Так удобнее будет.
Я послушно снял ботинки и носки и улёгся на жёсткую пружинную койку, приняв позу Осириса. Иванов заметил, что всё ещё держит в руке тетрадь, хмыкнул и положил её на стеллаж, а затем присел на одну из двух табуреток возле койки. На второй стоял металлический поднос со шприцем, бутылочкой прозрачной жидкости и ещё парой предметов.
– Понимаете ли, – сказал Иванов, – всё, что мы делали с вами раньше – это полдела. Вы частично погружались сознанием в некую абстракцию, но она в основном являлась порождением вашего же воображения, основанного на жизненном опыте, заблуждениях и психологических травмах. Я же хочу лишить вас всех эти помех. Tabula rasa. Понимаете?
– Нет, – ответил я. Я догадался – это была латынь. Пустая бочка, что ли? Нет, то вроде vacua vasa.
– Ну и прекрасно, – сказал Иванов. – Давайте руку.
Он перетянул мне предплечье ремешком.
– Поработайте кулачком.
Я начал сгибать и разгибать пальцы. Иванов тем временем наполнил шприц прозрачной жидкостью.
– Хватит, – сказал он. – Сожмите кулак.
Ремешок свалился. Игла вонзилась в вену. В меня втекала субстанция с неизвестным мне составом, не вполне понятным лечебным действием и, скорее всего, массой никем не изученных побочных эффектов.
– Профессор… – пробормотал я. Чёрт, почему я всё время называл его профессором? – А я точно не умру?
– Ну, что вы! – усмехнулся Иванов. – Вы совершенно точно умрёте. Только не думаю, что сейчас, и уж точно не от моего эликсира. Но я надеюсь на несколько ошеломительный эффект, это да. Я думаю, что сейчас вы уснёте, а когда проснётесь, абсолютно ничего не будете помнить.
Я вспомнил. Я вспомнил, что значит по-латински tabula rasa. И мне стало страшно.
– Профессор, – сказал я, пытаясь приподняться. – А это точно необходимо? И сколько это будет действовать?
– Совершенно необходимо, на мой взгляд, – отрезал Иванов. – Вы лежите, лежите. Я надеюсь, что действовать это будет всю вашу жизнь. Я планирую, что в вашем сознании произойдут необратимые изменения.
– Но вы только что сказали, что я всё забуду. Я вас правильно понял?
– Да, – ответил Иванов. – И все ваши подсознательные установки очистятся. Вы сможете начать абсолютно новую жизнь. А прошлое, как мне кажется, постепенно вы придумаете себе другое. То, которое вам более подходит.
Я не очень понимал его, но был уверен, что не хочу ничего забывать. Не хочу становиться чистой доской, на которой он будет писать то, что ему нравится.
– Это нечестно, – сказал я. – Вы должны были предупредить меня.
– Ну вот, я же и предупреждаю, – невинно улыбнулся Иванов. – А для того, чтобы вам было легче, я советую сейчас расслабиться и думать о чём-нибудь приятном. О любимом человеке, например… А, у вас же такого нет. Ну, думайте о том, что вам нравится. И не беспокойтесь. Когда вы проснётесь, я буду рядом. Вот только сейчас отойду и немного, так сказать, отпраздную мой успех.
– Успех? – я чувствовал, как на меня наваливается тяжесть. Мне уже очень хотелось спать. – Почему вы считаете, что это успех?
Иванов поправил свои очки.
– А вы не поняли, нет? Ну, учитывая, что вы всё забудете, я могу вам сказать. Сегодня я убедился, что вы можете совершенно превосходно видеть без очков. Это значит, что на вас мои методы работают.
– Без очков? – промямлил я. Да, похоже, это было так. Я отчётливо видел стеллаж за спиной Иванова и железный хлам на нём, каждую гаечку, каждую проволочку. Но они стали расплываться.
Я откинулся на жёсткую подушку. Помещение вокруг меня размывалось. Лицо Иванова помутнело. Надо думать о хорошем. О хорошем. О чём хорошем? Что у меня есть хорошего? Ну, я жив. Я не такой уж плохой. Не безнадёжный. Я пишу книгу. Зен. Он где-то там, в моей книге. Я нужен ему. Он хороший. Он хочет к морю. Я – Зен. Нет. Это я путаюсь. Я засыпаю.
Вокруг меня – тьма. Полная, беспросветная. Но вдруг справа разгорается огонёк. Ярко-оранжевый, тёплый. Словно кто-то подкинул пару поленьев в печь, и пламя разгорелось. Оно высвечивает из темноты костлявую фигуру. На её плечи наброшен лохматый платок. Жидкие седые волосы растрёпаны, лицо покрыто морщинами. Оранжевый свет, падающий сбоку, делает лицо ещё более рельефным и немного зловещим. Глаза старухи – безумные, блестящие, раскрыты широко.
– Ты не спишь? – спрашивает она.
– Нет, – отвечаю я. – А ты кто?
Старуха хмурится:
– Ты что это? Меня не узнаёшь? В твои-то §оды склероз? А§атомея я, ты ко мне всё сказки приходишь слушать.
– Прости, – отвечаю я. – Это я спросонья. Или я во сне вообще?
– Ну да, во сне, – отвечает она. – Теперь я к тебе решила прийти.
– Сказку рассказать?
Старуха поджимает подбородок.
– Нет. Я слышала, ты про отца своего узнал и про деда. Правда это?
– Да, – отвечаю я.
– Ну, так вот, – Агатомея наклоняется ко мне ближе. – Забудь ты о них.
– Почему?
– Потому что они свою жизнь жили, а ты живёшь свою. То, что ты их не помнишь, ещё не значит, что они в тебе не живут. Память – она накапливается. Не теряется никуда даже через мно§о поколений.
– А ты точно Агатомея? – спрашиваю я. – Больно мудро говоришь. Раньше ты проще говорила.
– А какая тебе разница? – Агатомея поджимает губы. – Какая приснилась, такая и есть. Ты послушай меня. Выбрось из головы своё море и походы за тридевять земель. Живи, как живётся. §ены – они коварные. Все люди совершают одни и те же ошибки. Дед твой совершал, и отец, и ты будешь. Разорви этот кру§. Будь собой.
– Но я же сам хочу к морю! – возражаю я.
– Да ты и не знаешь, что такое море, – качает головой старуха. – Это §ены в тебе говорят. Ну, и тя§а к новому, конечно, тоже. Ты меня всё равно не послушаешь. Но хотя бы подумай.
– Ты не Агатомея, – говорю я. – Это я сам себе придумал такой сон, потому что боюсь отправиться в путешествие.
– Пусть так, – кивает старуха. – Да ведь и ты не совсем Зен. Все твои предки сейчас спят вместе с тобой и видят этот сон. Ты – одно целое с ними. Ты поступаешь так, как они вынудили тебя поступить. И я говорю всем им – оставьте ребёнка в покое!
Лицо Агатомеи стало грозным, морщины вздыбились сильнее, и мне стало неуютно. Но свет вдруг потускнел, и сон охватил меня, и я хотел погрузиться в блаженство, но вдруг почувствовал, как кто-то укусил меня за палец.
Я отпрыгнул и свалился с груды грязных тряпок в углу. Хибарка, переделанная из огромного обрезка бывшей газопроводной трубы, тускло освещалась щепочкой, горящей на стене в железной миске.
Рядом со мной скалил зубы маленький голый уродец с четырьмя руками и раздвоенным хвостом, как у ящерицы. Я оттолкнул его, но услышал грозный голос мамаши Лямуш с высоты её кресла:
– Эй, приёмыш! Ты пошто малыша забижаешь?
– Так он кусается! – обиженно воскликнул я. – Вон у него какие зубищи.
– Ты как со мной разговариваешь?! – заорала Лямуш. – Он только-только из меня вылез, а ты его уже лупцуешь почём зря. Я тебе сказала тряпки выкинуть да сжечь. Это ж подгузники, они все в §овне!
– А спать на чём? – возмутился я.
– По§овори мне! Быстро взял и сжё§!
Я послушно стал собирать тряпки в драный мешок.
– Ты не понимаешь, урод двурукий, – сказала Лямуш, – какое счастье это – что кров есть над головой и тебя кормят. Всё мало тебе.
– Счастье, – пробормотал я. – Вот уж счастье…
Тряпки полетели в печь. Лямуш завизжала:
– Ты что, дурак? Вонять же будет. Быстро вынь из печки да на улицу, костёр разожги.
Из печи, трубу которой давно обещал прочистить Фасис, и правда поплыл в помещение дым, воняющий дерьмом, мочой и потом. Я сунулся в печку рукой, но было жарко.
– Вот урод! – заорала Лямуш и кинула в меня костылём. – Доставайте все противогазы!
И сама первая стала натягивать на свою угловатую голову резиновую маску с двумя глазами.
Я попытался ещё раз, но огонь уже вовсю охватил кучу вонючих подгузников, и это было бесполезно. Тогда я обмотал свои ноги тряпками, спрятанными на этот случай под тумбочкой, и направился к двери.
Лямуш что-то заорала, но сквозь противогаз её слов было не разобрать. Я выскочил из хибарки, и холодная темнота обступила меня со всех сторон.
Идёт дождь. Странный. Медленный. Тоскливый. Дождь – это когда вода с неба. Мокрая. Меня трясёт всё сильнее. Зубы колотятся друг об друга. Их немного. Но они есть. Иванов, придурок, вот твой успех! Дважды успех, идиот. Сам валяешься в своём кабинете фиолетовый от шоколадки, а твой подопытный кролик замерзает ночью под дождём, и скоро ему придёт конец. Только чудо может меня спасти. Чудо. Чудес не бывает. Это я знаю, хотя знаю мало чего. Обрывки школьных уроков засели где-то глубоко в моём мозгу, и их эликсир Иванова не вытравил. Я знаю, что вода падает вниз, а низ – это то место, куда Земля притягивает. Что там может притягивать, в Земле? Может, там ад? Меня тянет к чертям? Да нет, не верю я в них. Скалят себе зубы возле котлов, а их и нет на самом деле…
Пуховик. На черта он на мне надет? Он промок насквозь, пух внутри слипся в комки. Я их не вижу, но чувствую. Синие, должно быть. И я, наверно, весь синий. Сейчас бы чайку горячего. Или сосиску. Всё бы отдал за сосиску. А, чёрт… В животе словно ножом резануло. Выпрямиться на скамейке, чтобы не так болело. Скользкая, мерзкая, холодная скамейка. Как же я ненавижу её. Почему так светло? Ночь ведь. Или не ночь? А, это фонарь светит. Блестит скамейкой, высвечивает конусы летящей на землю воды. Сколько мне осталось? Интересно, может человек умереть от дрожи? Кончится у него энергия, и всё. Дрожать надо, а батарейка села. Надо стащить пуховик… Но сил нет. И станет ли лучше? Лучше опять сжаться в комок и не шевелиться. Чёрт, снова живот. Когда эта пытка закончится?







