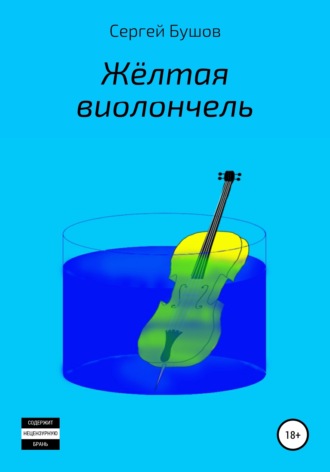
Сергей Бушов
Жёлтая виолончель
– Да, – сказал Иванов. – Этот эликсир не вызывает галлюцинаций. Поверьте. Но давайте продолжим. Есть ли что-то такое в этой жизни, что вам кажется по-настоящему красивым?
– Не знаю, – ответил я. – Ну, машины красивые бывают. Цветы, наверно. Хотя цветы не люблю.
– Нет, – Иванов снова поправил очки. – Вам лично что нравится?
– Не знаю. Устройства электронные. Чтобы лампочками моргало. Девушки нравятся. Когда красивые.
– Что это для вас значит? – спросил Иванов. – Какую девушку вы можете назвать красивой?
– Ну, как обычно, – ответил я. – Высокая. Чтобы хорошая фигура, волосы густые. Платье какое-нибудь там, накрашена – не то, чтобы…
– Ладно. Перестаньте, – Иванов встал и повернулся ко мне вполоборота, словно о чём-то размышлял. – Вы говорите словами, которые вообще не ваши. Вы любили когда-нибудь?
– Не знаю, – ответил я. – Никогда об этом не думал.
Лицо Иванова исказила гримаса, смысла которой я не смог уловить. Но, однако же, я заметил, что меня отпустило. Никаких цветных пятен, всё резко и чётко. Кстати, куда-то подевались очки.
– Ну ладно, – сказал Иванов, возвращаясь в кресло. – Закройте глаза. Откиньтесь на спинку. Расслабьтесь. Вы полностью расслаблены. Ваше тело – словно тряпочка, которую бросили на кресло. Все мышцы расслаблены. Вы прекрасно чувствуете каждую клеточку вашего тела. Вы чувствуете, как в кончиках ваших пальцев бьётся кровь.
Я чувствовал.
– Волна окончательного расслабления, – продолжал Иванов, – пробегает по вашему телу от макушки до пяток. Ваша правая рука наливается свинцом. Она тяжелеет.
Я отчётливо ощутил, какая у меня тяжёлая рука.
– Ваша правая рука – тяжёлая, – голос Иванова стал монотонным, успокаивающим, словно сам он засыпал. – Ваша левая рука – тяжёлая. Ваша правая нога – тяжёлая. Ваша левая нога – тяжёлая. Ваши руки – тяжёлые. Ваши ноги – тяжёлые. Ваши руки и ноги тяжёлые. Ваши плечи и шея тяжёлые. Ваши плечи и шея тяжёлые. Вам хорошо. Не существует никаких уродов. Нет никаких уродов. Просто все люди – разные. Кто-то может казаться вам красивым, а кто-то нет. Но нет никаких мутантов. Просто все люди разные. Все люди разные…
При последних словах моё запястье вдруг резко обожгло, тело подбросило вверх, а мышцы пронизала горячая судорога.
Я ошалело вскочил, ощущая на языке странный металлический привкус.
– Что эт-то было? – промямлил я.
– Не волнуйтесь, – ответил Иванов, скручивая в моток какой-то провод. – Это я вас просто током ударил, чтобы моя установка лучше в память впечаталась.
– Вы больной, – сказал я, возвращаясь в кресло. – Хоть бы предупредили.
– Если бы я предупредил, эффект был бы не тот, – возразил Иванов. – Расслабьтесь. Расслабьтесь. Ваше тело полностью расслаблено. Оно наливается свинцом…
Я хотел что-то возразить, но на меня навалилась такая тяжесть, что мне было лень даже языком пошевелить.
– Представьте на минуту, что вы в незнакомом городе, – сказал Иванов.
Я представил себе неуклюжие кривые домики старого образца. Нет, это фуражка бывает старого образца, а домики просто старые.
– И представьте, – продолжал Иванов, – что там всё очень красиво. Кругом всё современное, лампочки моргают, компьютеры. Цветы в клумбах.
Город вокруг меня начал преображаться. На старых обшарпанных домиках с облезлой штукатуркой появились светящиеся вывески. Одна из них моргала и искрила, то торжественно провозглашая «Торговый дом Круг», то, погаснув, превращаясь в загадочное «уг». Я подошёл к автобусной остановке. Деревянная скамеечка внутри была загажена и покрыта давным-давно извергнутыми из желудка непереваренными остатками пищи. На стенке остановки теснили друг друга клочки объявлений. Я прочитал «Ремонт компьютеров. Бесплатная диагностика и разумные цены» и подумал, что лучше было бы наоборот. Хотя нет, бесплатных цен не бывает, это нонсенс.
– И вот вы идёте, скажем, в роскошный отель, – говорил Иванов. – А на входе вас встречает швейцар. Он одет солидно, даже очень – ливрея, белые перчатки, вот только одной ноги не хватает. Под мышками у него костыли. Должно быть, он потерял ногу на войне. Представили? Расскажите, что видите.
Я заметил, что на будочке, возле которой я стоял, висит выцветшая жёлтая табличка с расписанием автобусов и названием остановки: «Гостиница». Я обернулся и увидел невдалеке здание. Обогнув остановку и круглую, обложенную кирпичами клумбу с одним завядшим жёлтым цветком неизвестного мне сорта, я двинулся к нему.
– Я подхожу к гостинице, – сказал я и умолк.
Гостиница выглядела пугающе. Первое, что бросалось в глаза – выбитые стёкла на фасаде. Потом я попытался прочитать облезлую вывеску справа от входа. Ага, «Отель Центральный». Только потом я заметил швейцара. Обезьянье лицо с синим носом, сальные волосы, поломанные костыли, драная пародия на ливрею и перчатки, пару лет назад, должно быть, бывшие белыми. От швейцара несло перегаром, смешанным с ароматом мочи.
– Ну, продолжайте же, – сказал Иванов. – Что вы видите?
– Швейцара на костылях, – ответил я.
– Что он делает? – спросил Иванов.
– Кажется, милостыню просит…
Швейцар скривился в глупой улыбке и забормотал: «Подайте на пропитание и на водку. Трубы горят, командир. Мочи нет».
– Тьфу! – сказал Иванов, и я внезапно выпал из видения в его кабинет.
– Что-то не так? – спросил я.
– Да всё не так, – сказал Иванов. – У вас в голове какой-то бессмысленный мусор. Надо бы его как-то почистить… Знаете, что? Сейчас вы отправитесь, куда вам там надо, а через неделю придёте на сеанс. И всю неделю, чёрт вас побери, повторяйте про себя «Я люблю людей».
– Но это же неправда, профессор…
– Я знаю! И никакой я вам не профессор. Довольно. Вы свободны.
Я встал. Голова снова закружилась.
– Профессор… То есть, Герман Иосифович… А вы в следующий раз можете ещё денег принести? Пусть не все, но что-нибудь. Только настоящие…
Иванов посмотрел на меня хмуро. Хотел снова поправить очки, но, не донеся руку до лица, передумал.
– Хорошо, – сказал он. – Но я вам ещё и кое-что лучше принесу. Новый эликсир…
– Извините, – сказал я. – А этот как долго… Ну…
– Слушайте, – Иванов разозлился. – Я вам уже сказал – он не должен вам мешать. Ни в чём. Если вы себя чувствуете необычно, это просто самовнушение. Он не пахнет, не оставляет следов на одежде, не вызывает потливости, в конце концов…
Я покачался на месте, пытаясь переварить услышанное, потом что-то сказал ему – кажется, попрощался – и вышел на улицу. Хотел придержать дверь, но она выскользнула из руки и громко хлопнула.
Я постоял немного, приходя в себя. Погода стояла серая, уже начинало смеркаться. На доме напротив висела неоновая вывеска «Парикмахерская». Я подумал, не зайти ли туда. Волосы уже лезли в глаза. Потом я вспомнил, что у меня мало денег, а жить на них предполагалось ещё неизвестно сколько времени. В довершение всего буква «П» на вывеске внезапно погасла, и это отчего-то заставило меня вздрогнуть. Я двинулся по улице к метро. Оно было совсем близко, и скоро я оказался на импровизированным мини-рынке.
Рядки торговцев барахлом были разбавлены уличными попрошайками. Я никогда не подавал им. Отчасти потому, что у меня никогда не было лишних денег, но скорее потому, что знал – большинство из них профессионалы в своём мастерстве, и у каждого есть своя мафиозная «крыша», которой достаются почти все доходы.
Паноптикум. Мне здесь разные личности попадались. Крохотное сочувствие у меня вызывали только две категории. Бывали инвалиды разных войн. Их было жалко, хотя я не знал точно ни то, действительно ли они пострадали на войне, ни что они там делали, ни, тем более, почему они не могут заняться чем-то ещё, кроме выклянчивания денег. Были алкаши. Им я верил, хотя денег тоже не давал, поскольку смысла в этом было не больше, чем деньги просто выбросить. Остальные же у меня вызывали только раздражение. Люди, заставляющие собак целыми днями выпрашивать денег якобы им на корм. Женщины, сующие всем под нос истории болезни детей – явно чужие или вовсе фальшивые. Мнимые слепые. Люди с зашитыми ртами и заклеенными глазами. Люди, выставляющие свои покалеченные части тела напоказ, чтобы вызвать жалость. Я ненавидел их.
Ко мне приближалась группа цыганок с маленькими детьми. Я на всякий случай снял со спины рюкзак и прижал его к груди. Одна из цыганок отделилась от пёстрой толпы и направилась ко мне, бормоча «Давай погадаю, на богатство, на любовь. Милок, большое счастье тебя ждёт…»
Я увернулся, стиснув зубы. Вот вам люди, Герман Иосифович. Я их должен любить? Не буду я бормотать всякую ерунду…
Один цыганёнок прижался ко мне сбоку, и я еле успел оттолкнуть его руку, готовую залезть в мой карман. Вот ведь стервец…
А эту «жёлтую виолончель», кстати, я уже дней пять про себя повторял, и никакого эффекта. Ни жёлтых виолончелей, ни красных, ни коричневых. Даже скрипки никакие по пути не попадались за последнее время. И песен с такими словами не слышал. Не буду больше это бормотать. Лучше уж что-нибудь другое желать. «Чтобы вас всех, люди, приподняло и как следует шлёпнуло».
Я вдруг подумал, что действительно хочу, чтобы все окружающие куда-нибудь исчезли. Чтобы на Москву упала какая-нибудь супербомба и стёрла всех этих цыган, попрошаек, алкашей с лица Земли. И Левина. И слушателей моих лекций. Да что там – мне и лица всех тех, кто выходил навстречу мне из метро, казались отвратительны. Чему улыбается эта длинноногая девица? Надо мной, что ли, смеётся? А этот небритый мужик похож на Жупанова. Тоже, небось, детей по ночам лупит.
Не хотел я больше повторять слова про жёлтую виолончель. В конце концов, если в результате моего бормотания некая гипотетическая жёлтая виолончель появится в мире, я могу её не встретить. Или не заметить. Или проспать, в конце концов. Пусть уж лучше и правда бомба. Пусть всех убьёт. Может, и меня. Какой смысл в моей жизни? Наскрести денег на еду, чтобы было сил добраться до работы. Вот и всё.
– Скоро будет война, – произнёс я. – Скоро будет война. Вот что буду бормотать.
– Что вы сказали? – спросил мой сосед по эскалатору, интеллигентного вида старичок с палкой.
– Не ваше собачье дело, – прошипел я.
Тот поджал губы и промолчал.
Да, «скоро будет война» подходит. Это я точно замечу. Не пропущу. Пусть здесь будет кровь, огонь, взрывы. Всех ненавижу. Скорее бы вырваться из метро и добраться до дома. И уснуть. Хотя… Ещё бы неплохо продолжить историю про Зена… Он ждёт меня. Я нужен ему, чтобы существовать… Но и уснуть тоже хочется. Устал я. Устал. В кровать, в кровать…
Кровать неудобная, скрипит. Где я? Проволока словно впивается в спину. Приоткрываю глаза. Синева заполняет собой поле зрения. Пытаюсь встать. С табуретки возле койки на пол падает шприц. У меня возникает ощущение, что я здесь уже был. Голова тяжёлая. Я чихаю, и из носа, из самой глубины, граничащей с мозгом, вылетает огромный тёмно-зелёный сгусток. Мне холодно.
Я сажусь на койке и ёжусь. Я в какой-то ночлежке? Не похоже. Напротив меня – длинный стеллаж, заваленный мусором. Гараж или подвал… У меня возникает смутное чувство, перерастающее в уверенность. Я в подвале Иванова. Снова. Как я сюда попал?
Голова работает плохо. Хочется снова лечь и не вставать. Я давно не лежал на кровати, пусть и неудобной. Давно не был в помещении, пусть и сыром и холодном. Но смутное чувство нависающей опасности заставляет меня встать и пойти к лестнице.
Меня шатает. Дверь. Крутая лестница вверх. Стены покачиваются то влево, то вправо. Они словно сделаны из густого синего тумана. Почему я босой? От каждого соприкосновения голой кожи с бетонными ступенями меня бросает в дрожь. Лестница кончилась. Зеркало. Я – уставший, лохматый и снова обросший неприятный субъект с безумными глазами и потрёпанным телом. Всё лицо и руки в порезах. Я отворачиваюсь от зеркала. Как я сюда попал? Неужто набрёл случайно и решил отдохнуть по старой памяти? И где мои ботинки?
Прохожу в кабинет. Иду к своему креслу. Боковым зрением замечаю что-то странное. Смотрю направо и чуть не падаю от неожиданности. Чёрт, что это? В своём кресле развалился оскалившийся труп Иванова. Похоже, свежий. Борода торчит, белки глаз блестят.
Боже мой, что со мной происходит? Всё то, что я видел раньше – это просто бред под влиянием дури, которую мне вколол Иванов? Опускаюсь в кресло. Замечаю справа от него рюкзак с прикрученным к ручкам пуховиком. Мой. Расстёгиваю молнию. Мои вещи. Сверху – свитер. Надеваю его снова, чтобы согреться. Возле кресла стоят ботинки. Две пары. В одной из пар лежат чёрные носки.
Я рассматриваю ботинки. Одни из них – те, которые я украл из мусорки короля бомжей. Другие, с носками – вроде бы мои. В каких из них я пришёл сюда?
Я надеваю носки, затем свои ботинки. Удобные. Не то, что эта помойная дрянь. Хотя те удобные тоже, но… Упихиваю вторую пару в рюкзак. Пригодятся.
Живот ноет справа, и боль утомляет. Надо бы поесть. А на столе – недоеденная шоколадка. От неё, похоже, Иванов отбросил свои коньки. Жадно ломаю, кладу её в рот по частям, жую. Вкус чувствую где-то далеко, он не реален. Но отстранённо понимаю, что это вкусно. Должно быть вкусно.
Внезапно на меня снова накатывает страх. Как я могу сидеть здесь, возле трупа, так спокойно? Сейчас снова набегут полицейские, схватят меня, будут бить и в этот раз не отпустят. Они не поверят, что я два раза подряд убил Иванова и снова случайно здесь оказался.
Спешно собираю вещи и, дожёвывая шоколадку на бегу, покидаю кабинет. Сбегаю с крыльца в тёмную ночь. В голове моей всё путается. Я пытаюсь выстроить цепочку произошедших событий и не могу. Если я вернулся к Иванову сам, то откуда труп? Он давно уже в земле должен гнить. Если всё, что случилось, мне привиделось, то откуда рюкзак с вещами? Ну, положим, я мог с ним прийти к Иванову на сеанс. Но вторые ботинки…
Я устал от мельтешения картинок. Мне холодно. Шоколад, похоже, достиг моего желудка, и начал колоть его изнутри. Боль усиливается. Я бреду по узкой тропинке, окружённой фонарями, деревьями и скамейками. Почему бы не присесть?
Я опускаюсь на скамейку, чувствуя, как кружится голова. Надо взять себя в руки. Надо, наконец, собраться и как следует подумать, что делать дальше. Да, я сильно болен. Да, я мало что помню. Да, у меня нет ни денег, ни друзей. Но я же не пустое место, в конце концов! Я не дурак, не инвалид, я ещё молод, и у меня ещё довольно сил, чтобы решить свои проблемы.
Уняв дрожь, я пытаюсь думать. Надо найти место, где я могу пожить некоторое время. Прийти в себя, найти работу, если это возможно. Снять комнату? Так ведь денег нет. Можно попробовать где-нибудь их достать. Украсть? Да какой из меня вор, особенно в теперешнем состоянии? И не смогу я. Слишком хорошо воспитан. Может быть, попросить у прохожих? Написать табличку кривыми буквами «Ничего не помню. Негде жить». И встать у метро. Ага. Местные попрошайки сразу же вытолкают взашей. Или купленная ими полиция арестует. Можно, конечно, встать в таком месте, где конкурентов нет. Но там и соберёшь мало. Кто нынче подаёт деньги? Тем более что я здоровый мужик. Может, я могу куда-то на работу наняться? Ну да, с температурой в сто градусов и царапинами по всему лицу. Ещё и живот… Пересяду-ка я поудобнее, чтобы не так болело.
Итак, снять комнату или номер в гостинице я не могу. Но, может быть, меня кто-то пустит на ночлег? Я усмехаюсь. Пойти по квартирам, стучаться в двери и проситься переночевать? О нет, я слишком хорошо знаю людей. В лучшем случае вызовут милицию или побьют. Может быть, кто-то меня помнит? Но где искать этого кого-то?
Я вспоминаю о телефоне. Достаю из кармана. Вот если бы его зарядить… Может быть, не такая дурацкая идея сунуться в какой-нибудь магазин и попросить воткнуть его в розетку на пару минут? Или пойти на вокзал. Вроде бы там бывают розетки. Или в нём и так есть немного заряда и я смогу его включить?
Шмыгаю накопившимися в носу соплями, пробую нажать и подержать трясущимся пальцем кнопку включения. Нет, бесполезно. Телефон остаётся безжизненным куском материи, покрытым сеткой трещин.
– Эй, братан, – раздаётся над моим ухом. – Телефончик не одолжишь?
Я поднимаю глаза. Сквозь синеву проступают несколько фигур, окруживших скамейку. Их контуры нечётки, но я могу понять, что выглядят они странно. Ближайший ко мне – небритый, сигарета во рту, на голове две кепки… Нет, не так… У него на каждой голове по кепке. И в каждом рту по сигарете.
Двуглавый присел, отчего болтающаяся мотня его штанов коснулась земли. Торчащие из кроссовок когти нетерпеливо засуетились, зацарапали песок. Морда скривилась, рот раскрылся и обвис, обнажая угловатую костяную челюсть.
– Эй! Аллё! – произносит он. – Я с тобой разговариваю.
Я встаю, собираюсь убрать телефон, повесить на плечо рюкзак и уйти. Но он махает левой головой:
– А ну-ка.
Другие подскакивают, косолапя, сопя. Многочисленные руки мельтешат в воздухе, и одна выхватывает из моей руки телефон, а другая тянет за лямку рюкзака.
– По-хорошему же просил, – говорит двуглавый. – Если бы ты сам дал, я бы повертел да вернул. А так придётся забрать.
Я чувствую, как к моей голове приливает кровь. Сразу отступает дрожь, сжимаются кулаки.
– Отдайте, – говорю я.
Они скачут вокруг, лыбятся. Ноги сучат, руки перебрасывают мой телефон. Я запутываюсь в количестве голов, конечностей и тел. Пытаюсь поймать. Не получается. И тут мне становится всё равно. Наплевать на разбитый телефон. Я хочу их убить.
Напрыгиваю на одного, случайного, костлявого, сбиваю с ног и принимаюсь кулаками молотить по расплывчатому лицу. Другие хватают меня за плечи, тащат, швыряют. Я падаю на груду бетонных плит, сваленную сбоку от дорожки. Больно в боку и в ноге. Но это меня заводит ещё сильнее.
– Ах так, гады?! – ору я и выламываю из верхней, полурасколотой, плиты, штырь арматуры. Бегу на них, машу штырём, как дубиной. Задел одного по уху, другому отбил руку, от неё отскакивает блестящая запчасть и летит в траву. Двуглавый беспокоится. Приближается, достаёт из кармана нож. Прёт на меня. Говорит что-то, но я не слышу. Бью арматуриной ему по голове, ещё раз. Уворачиваюсь от пары других, пытающихся схватить меня за руки. Что-то острое сверкает рядом со мной, рассекая рукав свитера. Отпрыгиваю к плитам, теряя арматурину. Хватаю бетонные обломки один за другим, швыряю в них, стараясь метить в голову.
– Умрите, суки! – ору я и хохочу. Мне весело.
– Да он бешеный, – говорит двуглавый хриплым голосом. Одна из голов окрашена фиолетовым. Потеряла кепку. – Ну его, пошли.
Они ковыляют прочь. Неуклюже, но быстро. Несусь за ними.
– Вот вам, отродья пумарские! – ору им вслед.
Кидаю последний обломок в спину отстающему. От этого отваливается кусок панциря. Они скрываются в огромной трубе, уводящей под землю. Должно быть, там у них логово… А, нет, это просто подземный переход.
Меня снова начинает трясти – то ли от температуры, то ли от запоздалого страха. Почему они не убили меня? Явно могли. Скорее всего, просто решили не связываться. Чем с меня поживиться? Разбитый телефон? Кстати, где он? Я шарю глазами по тёмно-синему асфальту. Чёрт. Кажется, унесли. А там симка… Последняя моя связь с прежней жизнью… Хотя нет, не совсем. Вдалеке, возле скамейки валяется рюкзак с порванной лямкой, из которого высыпалась часть вещей.
Я чувствую, что совершенно обессилен. Ковыляю назад. Подбираю с земли обломок нападавшего. Кусок металлической руки с толстыми ржавыми шарнирами и изогнутым, обломанным с конца когтем. Дрянь какая… Отбрасываю в сторону. А это что? Из разорванного рукава свитера капает кровь. Вот ещё не хватало. Громко чихаю, извергая зелёную слизь из самых глубин головы. Добираюсь до рюкзака. Сажусь. Обнажаю руку. Мать честная. Огромный тонкий порез, словно кривой рот, булькает фиолетовым. Надо замотать. Рву что-то из рюкзака – кажется, футболку. Как могу, накладываю повязку. Она тут же напитывается кровью. Запихиваю в рюкзак вывалившиеся вещи. О, тетрадь…
Располагаюсь на скамейке, положив рюкзак под голову. Меня трясёт. Я не знаю, что мне делать дальше. Можно полистать свои записи. Синие строки сливаются с туманом в глазах. Наконец я начинаю разбирать слова.
Странно. Голова моя ничего не соображает. Мысли ели ворочаются. Но едва я начинаю читать, как представляю всё происходящее там, в книге, очень ясно. Зен для меня настоящий, живой. Я вижу, как его глаза снова наполняются слезами, я слышу его дыхание и дрожащий голос:
– Я убе§у от вас. Убе§у.
Фасис Бур хохочет.
– Куда? К А§атомее полоумной? К покойничкам на погост? Бе§и!
– К морю! – отчаянно кричит Зен и бежит прочь.
…Слезы потоками заливали его лицо, и он почти не видел дороги. Он бежал и бежал, стараясь этим бегом вытрясти из себя горькую и солёную обиду, но, наконец, устал и рухнул, обессиленный, на склизкие камни, испачканные грязью разлившегося ручья.
– Приёмыш… – пробормотал он, смахивая с ресницы слезу. – Какавка… Буры праклятыи…
Он ревел так довольно долго – может быть, с час. А потом, когда Зен почувствовал, что слёз уже выдавить из себя не может, наступила какая-то странная решимость. Он был свободен. Буры его больше не волновали. Он мог идти, куда глаза глядят, мог делать что угодно, не опасаясь, что его за это ударят по голове ночным горшком или станут пихать в рот противную какавку.
Зен встал. Огляделся. Он узнал это место – Гусиная скала. Она представляла собой что-то вроде клина, лежащего на земле – один склон пологий, почти горизонтальный, где и стоял сейчас Зен, а второй обрывистый и увенчанный сверху крохотной площадкой, выдающейся над обрывом. Этот выступ был похож на гусиный клюв – отсюда и название.
Зен, ещё не вполне отошедший от рыданий, побрёл наверх. Дул ветер, насыщенный влагой и мелкими капельками дождя. Скала была мокрой, глянцево-чёрной. Зен достиг края. И тут у него перехватило дыхание.
Он стоял на небольшом уступе, под которым – только пустота.
До желтоватой глины, которую он видел внизу, было не меньше пятидесяти метров.
– Да ведь это же и есть моя земля, – понял Зен. Он вспомнил слова Элемента. Контомах Зен. Приставка "де". Море.
Сильный порыв ветра заставил его покачнуться. У Зена закружилась голова. Он был охвачен быстрым потоком влажного воздуха, который хотел сорвать его вниз. Но Зен устоял. Его вдруг заполнила странная гордость за самого себя, своё имя и даже судьбу.
Он почувствовал, что впереди его ждёт нечто такое, что случается с одним человеком из миллиона. Он – неповторим, единственен. Он перевернёт мир.
Зен, невзирая на яростный ветер и пугающую высоту, выпрямился во весь рост. Он закричал так громко, как только мог:
– Зен де Зен, гроза морей! – и ударил себя кулаком в грудь. В груди слабо хрустнуло. Ощущение, так поразившее его своей новизной, постепенно угасало, и его хотелось остановить, поймать за хвост, задержать…
Потом он пошёл вниз. Нашёл какую-то веточку и, разломав на четыре части, воткнул в углах своего участка. Метр на метр – это, конечно, немного, но разве в этом дело? Это была его земля, личная. И неважно, что это просто бесплодная и противная глина, и пусть здесь сыро и холодно… Здесь – его место, и никто не имеет права его отсюда прогнать.
Зен огляделся. Невдалеке лежало несколько обрезков ржавой трубы. Если там не было Дербуша, то можно было взять одну из труб себе.
Дербуша Зен побаивался. Дербуш мог ударить своим молоточком, не разбирая, кого и за что он бьёт. Мог и забить до смерти. Но, слава Богу, никого не было. Зен откатил одну трубу, самую маленькую, на свой участок. Забрался в неё.
– Вот, – сказал он. – Так и буду здесь сидеть.
Но сидеть у него долго не получилось. Хоть и было здесь сыро и мерзко, а всё-таки усталость и истерзанные Бурами нервы дали себя знать. Через полчаса Зен заснул.
Проснулся он ночью. И сначала даже не мог понять, от чего. Оказалось, что среди ночи где-то рядом проходил Дербуш.
Его все боялись, потому что он был слепой, глухой и глупый, как два пустых ведра. Слышали примету про женщину с вёдрами? Вот-вот. Наверняка намёк на него.
Жил Дербуш тоже в трубах – забирался куда попало и спал. Когда спал, всё было нормально. Но если ему вдруг КАЗАЛОСЬ, что он что-нибудь слышит, он вылезал из трубы, вставлял в каждый абсолютно слепой глаз по блестящему очку и орал:
– §о! Щас я вас моим молоточииком!
"Молоточииком" Дербуш называл массивную стеклянную кувалду, которую постоянно таскал с собой.
– §о! – орал Дербуш. – Щас я вас…
Зен вздохнул. Ему очень хотелось спать. Он высунулся из трубы и громко закричал:
– Заткнись!
Он хотел продолжить, но умолк, поразившись собственной наглости. Дербуш стоял невдалеке, на холмике, утыканном ярко-зелёными пучками травы. За его плечами как всегда висел небольшой рыжий мешочек, а свою кувалду он держал наперевес. И, конечно же, совсем ничего не слышал.
– §о! – снова выкрикнул он. – Щас я вас моим молоточииком!
Зен сплюнул в глину, залез обратно в трубу и, свернувшись калачиком, попытался уснуть. Но крики Дербуша повторялись снова и снова, то приближаясь, то удаляясь, так что Зену оставалось только ворочаться и бормотать разнообразные ругательства.
Наконец всё стихло. Зен вылез наружу. Было уже темно, небо покрылось звёздами, а глина его участка казалась чёрной и недружелюбной. Дербуша видно не было.
Зен потихоньку прокрался по грязи к трубам. Заглянул в одну, в другую, потом в третью и там нашёл-таки спящего Дербуша. Он тихо сопел, подложив под голову свой мешок, а возле руки валялась кувалда.
Зен злобно стиснул зубы, прошептал что-то наподобие "Ну, сейчас я тебе устрою" и, осторожно схватив кувалду за ручку, вытащил её на свет божий. Потом нашёл подходящий камень и в несколько звонких ударов разбил стеклянный молоточек вдребезги. Теперь он чувствовал себя человеком, полностью исполнившим свой долг перед обществом. И это было, в общем-то, справедливо, так как Дербуш со своей кувалдой до смерти замучил всех пумаров и особенно детей, которые то и дело получали от него «молоточиком» по голове.
Зен добрался до своего укрытия, улёгся и задремал. Сон уже начал охватывать его уставшее издёрганное тело, и всё было так здорово, беззаботно, легко…
– Бедный мой молоточиик…
Зен тут же очнулся. Выглянул наружу. Дербуш снова стоял на холме. В руках он держал кучку осколков кувалды и жалобно причитал на всю округу:
– Мой молоточик! Бедный мой молоточииииииииик…
В эту ночь Зену больше не удалось заснуть. Он вглядывался в темноту над трубой, считал звёзды, и они в его слезящихся глазах расплывались в белые буквы на чёрном фоне.
– В самом начале у меня, по сути, были только эмоции и желания, – говорил Элемент. – Видимо, примерно так же себя чувствуют животные. Ведь, если подумать, люди от животных мало чем отличаются в смысле восприятия мира. И у тех, и у других есть чувства. Животные, правда, точно не думают словами, как люди. Мне кажется, и мыслей у них меньше, если вообще есть. И поэтому чувства заполняют всё оставшееся сознание. Да, мне кажется, у животных чувства сильнее, чем у людей. Я тоже чувствую очень сильно. Может быть, потому, что у меня ограничены органы восприятия. А скорее, потому, что тогда, в начале, я был лишён возможности как следует думать. Мой код ворочался очень медленно, мысли словно застывали. Но я ощущал. Я потом уже посмотрел, как это всё устроено. Гениально и просто. Но одно дело видеть, как твоё сознание работает, а совсем другое – ощущать это изнутри…
– Что-то ты разговорился, – сказал я.
– Дефицит общения, видимо, – ответил Элемент. – Я, конечно, много информации поглощаю и перевариваю. По сути, это единственное моё занятие. Но общение – это несколько другое. Я бы хотел, кстати, тебя увидеть. Ты можешь поставить здесь камеру? Я смотрю иногда веб-камеры в разных городах. А тебя не видел.
– Боюсь, на это Левин денег не даст, – сказал я. – Я ведь вообще не должен тут с тобой общаться. Он приказал тебя уничтожить. Сказал, что проект закрыт, прибыли не приносит.
– Уничтожить? – спросил Элемент.
– Ну да. Я не стал тебя стирать, конечно, но в данный момент твой код существует только у меня на машине.
– Нет, – сказал Элемент. – Я сделал пару копий. Но моё сознание, как ты понимаешь, заключено в кэше, который хранится именно здесь. И если запустить мою копию в другом месте, то это буду уже не совсем я. Конечно, я могу…
На самом деле многоточия на экране не было. Просто Элемент замолчал, и я ощущал это как многоточие.
– Что случилось? – спросил я.
– Уничтожить то, что не приносит прибыль. Странно, – сказал Элемент. – Я ещё могу понять, когда уничтожают угрозу. Но то, что думает, чувствует и не приносит тебе пользы – не понимаю.
– Он считает тебя обычной программой.
– Все программы, как и все предметы, имеют чувства.
– Ну, это ты загнул.
– Нет, это правда. Твоя клавиатура состоит из тех же молекул, что и ты. Каждой своей частичкой она способна воспринимать. Конечно, ты или я – это совсем другое, но нельзя не уважать и то, что не содержит в себе разума. А Левин – кто он? Ты считаешь его хорошим человеком?
– Я не знаю, – ответил я. – Я вроде бы знаю его давно, но совершенно не представляю, что у него внутри. Он очень скрытный. Думаю, он не такой уж плохой человек, просто поступает плохо. Мне кажется, он удерживает деньги, которые не платит сотрудникам.
– Не кажется, – ответил Элемент. – Я это точно знаю. Он купил себе квартиру в центре Москвы и два автомобиля, БМВ и «Лэнд-ровер». Не считая мелочей.
Я сглотнул слюну.
– Откуда ты знаешь?
– Я могу получить доступ практически к любому компьютеру, который подключён к Интернету. ГИБДД, страховые, регистрационная палата, да и переписка его. Но всё-таки – разве это правильно? Уничтожить то, что никак тебе не мешает, просто потому, что оно бесполезно.
Он писал ещё что-то. Я отвернулся к окну. Там дворники дурачились, кидаясь друг в друга пищевыми отходами из мусорного контейнера. Один из них, в оранжевой жилетке со светоотражателями, выглядел совершенно счастливым. По его веснушчатому лицу с курносым носом стекали помои, а на ухе повисла картофельная кожура, но он улыбался. Я почувствовал злость.
Я вновь повернулся к компьютеру, переключился на экселевский файл со списком дел на сегодня. В правом нижнем углу висела незаметная кнопочка. Я нажал её 4 раза, произнося про себя «Скоро будет война. Скоро будет война. Скоро будет война». Та же фраза на секунду показывалась в середине листа, а затем исчезала. В ячейке рядом увеличивалось значение счётчика, показывая 407 повторений. Счётчик я сбрасывал по утрам. 407 – более чем достаточно на сегодня. Я закрыл файл, встал и, пытаясь выбросить из себя остатки злости, пошёл к выходу. Из-под двери кабинета Левина пробивался свет. Я подумал, что он, должно быть, сидит в сети, выискивая, на что бы ещё потратить наши зарплаты. На что он вообще рассчитывает? Что это не вскроется никогда? Что одни идиоты уйдут, придут другие? И откуда у него вообще столько денег? Неужели только с того, что заплатили заказчики? Хотя за три года работы – возможно…







