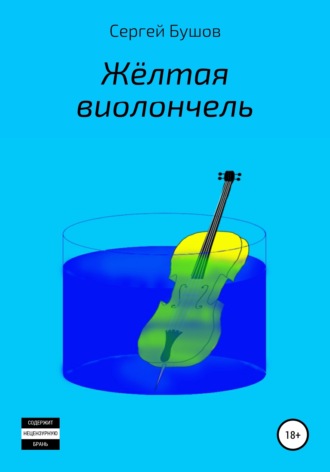
Сергей Бушов
Жёлтая виолончель
– Температуры вроде бы нет, – говорит она. – Ладно. Лежи пока, я завтрак сделаю.
Я и лежу. Кто я? Что за Хармс? Прочитает ли Паша моё сообщение? Предположим, прочитает. Тоже подумает – что за Хармс? Наверно, хочет впарить средство от похудения. Кстати, вот голод – отличное средство от похудения. Нет, для похудения. Странная эта Вера. Спасибо ей, но странная. Я её боюсь. Боюсь, что она не та, кем кажется. А кажется кем? Терминатор какой-то с грудями. Хотя терминатор ростом был выше, и лицо у него было не такое. Опять я брежу.
Она неправильная. Не может девушка жить в квартире, где нет нормальной женской одежды. И где телевизор? И чем она на жизнь зарабатывает? Может, она убивает бомжей и на мясо продаёт? И только ждёт, когда я отключусь. Да нет, чушь. Зачем лечила меня? Непонятно.
Она подходит ко мне с кружкой воды.
– Ты же таблетки не пил сегодня?
– Нет, – отвечаю я.
– Извини, не сообразила. Я тебя просила пить, но у тебя же провал.
Я проглатываю таблетку и две капсулы. Выпиваю воду. У меня закрадывается подозрение, что она хочет меня отравить.
– А что это? – запоздало интересуюсь я.
– Лекарства, – отвечает Вера по дороге на кухню.
У Иванова хоть чай был. И то вон как пробрало. А тут лекарства. Боязно. Надо скорее выбраться отсюда. Найти жильё и съехать. Но чтобы снять жильё, нужны деньги. Значит, сначала работа. Может, в «Макдоналдс» устроиться? Хотя хватит ли их зарплаты, чтобы снимать комнату? Не знаю. Не помню размера их зарплаты. И насчёт цены, по которой снимают жильё, не уверен. Уверен только, что за двадцать рублей не снимешь комнату. Это точно. Значит, придётся терпеть. Жить с девушкой-мутантом.
А есть ли выход из этого положения? Наверно, сначала надо восстановить документы. Паспорт. Это можно сделать за две недели? А без паспорта кем работать берут?
– Хармс, иди есть! – кричит Вера с кухни. – Сможешь встать?
– Смогу, – говорю я.
Голова кружится, но я успешно встаю и добираюсь до кухни. Сажусь на табуретку. Передо мной тарелка с едой и стакан компота. Ем.
– А как паспорт восстанавливают? – спрашиваю я.
– В милицию надо идти, – отвечает Вера, садясь напротив. – Заявление подавать об утере.
Я про себя отмечаю, что милицию уже давно переименовали в полицию, но молчу. Один хрен, в общем.
– А что это я ем? – спрашиваю я, понимая, что еда вкусная.
– Макароны, – отвечает Вера. – И сердца куриные.
– Тоже в парке собрала? – спрашиваю я.
– Не нравится – не ешь, – кажется, она злится. – И, если не нравится мой образ жизни, можешь валить.
– Нравится, – говорю я. – А какой у тебя образ жизни?
– Какой уж есть.
Она хмурится и погружается в еду. Разговор окончен.
– Посуду помоешь, – говорит она, закончив свою порцию. Выпивает полстакана компота, встаёт и уходит в комнату.
Я не понимаю, что делать дальше. Идти в полицию? Пытаться составить резюме? Голова работает плохо. Складываю грязную посуду в мойку, начинаю мыть.
Когда заканчиваю, Вера снова заходит в кухню.
– Я собираюсь на митинг, – говорит она. – Пойдёшь со мной?
Лицо серьёзное. Трудно понять её настроение.
– Что за митинг? – уточняю я.
– Просто митинг. Протеста.
– Против чего?
– Вопрос правильный, – говорит Вера с заметным вздохом. – Но отвечать мне на него сейчас лень. И потом, на самом деле каждый ведь против своего чего-то идёт протестовать. У каждого личная причина своя. А тебе всё в стране нравится?
– Нет, – отвечаю я. Хочу добавить, что не нравятся мутанты, но вспоминаю, что передо мной один из них.
– Ну, вот и протестуй против того, что не нравится.
Куда-то пойти – хорошая мысль. Развеюсь. И отложу на время раздумья о том, что делать дальше.
– Пошли, – говорю я, ставя тарелку в сушилку.
Дальше возникает много новых проблем. Искать носки. Надевать их. Полминуты решать, бриться или нет, хотя очевидно, что нет.
Подходит Вера. Суёт лист бумаги.
– Вот это понесёшь.
Читаю. Смысл мне не понятен, но можно догадаться, что надпись оскорбляет какого-то человека.
– Это про кого? – спрашиваю.
– А ты не догадываешься? – Вера ухмыляется.
– Нет. Но думаю, что про какого-то большого начальника.
– Ну, в принципе, да. Хорошо тебе, Хармс. Находишься в счастливом неведении. И выходить из него не хочешь.
Я смотрю на неё в упор.
– Я это не понесу.
– Чего это? – Вера убирает с лица ухмылку и хмурится.
– Я не могу на кого-то наезжать, если даже не помню, кто это. И уж точно не помню, чтобы он мне что-то плохое сделал. Ты понимаешь, я даже толком не знаю, какой у нас год на дворе. И кто сейчас правит, тем более. Пумарцы, мутанты какие-нибудь, коммунисты… Не в курсе я.
Вера смотрит из меня исподлобья, и я чувствую, что она решает – выгнать меня немедленно за непослушание или нет. Наконец, лоб её разглаживается.
– Ладно, Хармс. Убедил. Выбирай любой плакат, с которым ты согласен.
Я подхожу к углу, где свалены бумажки на палочках и без. Некоторые надписи мне абсолютно не понятны. Некоторые я понимаю, но не могу согласиться, потому что не в контексте событий. Наконец, нахожу листочек, где разнокалиберными буквами написано «Свободная пресса не даёт обществу гнить».
– Ага, – говорит Вера. – Значит, с этим ты согласен?
– А кто же с этим может быть не согласен? – удивляюсь я.
– Ну, есть люди. Молодец. Пошли.
Краем глаза замечаю, что у неё на плакате написано «Власть, не суй нос в личную жизнь». В задумчивости обуваюсь. Она скручивает свой плакат в трубочку. Я следую её примеру. Выходим в сырой тёмный подъезд и потом сразу на улицу. Чувствуется, что недавно был дождь. Воздух свежий, прохладный. Солнце светит вовсю. Вера шагает быстро. У меня ноги длиннее раза в полтора, но я еле поспеваю за ней.
– А почему митинг? – спрашиваю я. – В смысле, почему сегодня? Случилось что?
– Ну, повод – хорошего человека хотят посадить, – отвечает Вера, не останавливаясь. – Ни за что. Потому что тоже протестовал. А так вообще просто все своё что-то хотят сказать. И, кстати, забыла предупредить – митинг не разрешённый, так что нас тоже задержать могут.
– А что, бывают разрешённые? – удивляюсь я.
В моей голове митинг – это что-то против системы. У этой же системы спрашивать разрешения протестовать против неё – в голове не укладывается. Вера не отвечает. Мы заходим в метро. Вера пропускает меня через турникет своей карточкой. Я еле успеваю проскочить до клацания створок.
– Что ты такой сонный, Хармс? – ворчит Вера, присоединяясь ко мне на эскалаторе.
– Не знаю, – мямлю я. – Слабость какая-то…
– Ещё не поздно вернуться.
– Да не, я нормально…
– Ну ладно, в автозаке отдохнёшь, – соглашается Вера.
– В чём?
Она не отвечает, ускоряясь при виде подъехавшего поезда. Еле успеваю запрыгнуть за ней в закрывающиеся двери. Вокруг гудит. Синие пятна прыгают в глазах.
– Зря ты пошёл, – кричит Вера сквозь шум. – Вон бледный какой. Ещё вчера тридцать восемь было.
Я молчу. Едем. Вагон набит народом. Не могу разглядеть лиц. Зато вижу рекламу на стенах вагона. Реклама каких-то автомобилей. Совершенство, превосходство, нормочас. Зачем рекламировать автомобили? Если их будут покупать больше, воздух станет грязнее. Или я машины с сигаретами перепутал? Ну, так реклама сигарет вроде и запрещена. Так. О чём я думал? А. Чем больше машин, тем больше пробок. Тем медленнее едут машины. Тем меньше от них проку. Они пожирают сами себя. Может быть, они тоже монстры? Как Вера.
– Пошли. Что спишь? – говорит она сердито и тянет за руку. Выходим из вагона, потом вверх, вверх.
На улице всё так же свежо. Правда, мутно. Если постараться, видно далеко, но я не могу понять до конца того, что вижу. Понимаю, что мы идём вдоль по улице. В том же направлении движутся другие люди. Много. Замечаю у некоторых в руках плакаты или листы бумаги с рисунками и надписями. Значит, они идут туда же, куда и мы. Лица у людей открытые, приятные. Такое ощущение, что у них праздник. Вон девушка идёт в красном пальто и длинных сапогах. Не слишком ли тепло она одета? Пропала куда-то. Вот интеллигентный мужчина в костюме, с галстуком. Очки стильные. Недешёвые, скорее всего. В руке плакат. Успеваю прочитать «Посидите лучше сами».
Вера увлекает меня за руку всё дальше. Ноги мои заплетаются. Похоже, у меня всё ещё температура. Но всё-таки я чувствую себя не так уж плохо. Почему-то приятно идти среди всех этих людей. Пусть я и не очень понимаю, чего они хотят…
– Верок! – доносится справа.
К нам, перерезая толпу, движется высокий наголо бритый парень с круглым лицом. В руке свёрнутый флаг с каким-то рисунком. Замечаю, как Вера неслышно произносит губами непечатное слово.
– Привет. Решила всё-таки прийти? – спрашивает он, улыбаясь широкой, блестящей улыбкой.
– Привет, – говорит Вера, не останавливаясь. – Решила.
– Ты же в прошлый раз сказала: «В жопу ваши митинги».
– Я помню, – Вера старается идти быстрее.
– Не можешь без нас? – парень не отстаёт, не убирая с лица улыбку. Его армейские ботинки стучат о тротуарную плитку громко, отдаваясь в моих ушах.
– Без тебя, Ден, точно могу! – отрезает Вера. – Отстань.
– Ну, как знаешь, – парень, наконец, отстаёт.
Пару минут двигаемся молча. Толпа всё плотнее.
– Это кто? – спрашиваю я.
– Да так, – отвечает Вера. – Деятель один. Придурок. Жила я с ним по глупости. Неважно.
Я немного удивлён её откровенности, но продолжаю семенить следом. Пытаюсь понять, где мы. Здания вокруг высокие, старые. Улица широкая. По краям стоят ряды маленьких автобусов. Кажется, они называются ПАЗ. Не знаю, почему. Но вот помню. Это хорошо, наверно. Хорошо, что помню. То, что стоят, как мне кажется, не хорошо. В автобусах сидят существа в панцирях. Впереди, где толпа становится гуще, вижу ещё таких же.
Вглядываюсь вдаль. Линия бронированных мутантов окружена голубой дымкой. Они кажутся нереальными. Шевелятся. Железные загородки. Мутанты копошатся вдоль них, как мухи вокруг сладкого пятна на столе.
– Оцепление, – бормочет Вера. – Знала, что будет ОМОН, но чтобы так много… И вбок уйти некуда, нам же на площадь.
Толпа течёт всё медленнее. Впереди вижу ещё нескольких существ, которые движутся навстречу толпе. Один из них, высокий, на пару голов выше волнующейся массы людей, притягивает мой взгляд.
Поверх хитинового панциря на нём драный чёрный плащ. Голова замотана чёрной тряпкой, так что виден только один огромный зелёный глаз, вращающийся в глазнице, да выступающий далеко вперёд нос с четырьмя ноздрями. Ноздри шевелятся, каждая на длинном хоботке, и втягивают воздух. Я чувствую, как существо дышит. Ему не нравится местный воздух. Ему нехорошо здесь. Оно высовывает из-под плаща гибкие конечности и указывает когтями в сторону. Остальные, помельче, суетятся.
Я вижу окружающий их синий туман и вдруг понимаю, что происходит. Я словно снова в прошлом. Словно это уже было.
– Вера, – говорю я, замедляясь. – Стой. Я видел эту картинку.
– Что за картинку? Ты о чём? – она даже не оборачивается.
– Видишь там четырёхносого? Высокий мутант в плаще.
Вера поворачивает голову. На лице непонимание, смешанное с недоверием.
– Четырёхносого?
Понятно. Она не видит. Это мои глюки. Неважно. Надо объяснить.
– Я знаю, что будет дальше. Там высокий человек. По его приказу полицейские вылавливают случайных людей из толпы и задерживают. Мы пройдём ещё метров двести. Тебя схватят. Я разозлюсь, начну на них орать, ударю одного в плечо. Меня тоже поймают и потащат к тем машинам. Я это видел уже.
Вера продолжает идти дальше, глядя вперёд. Потом останавливается. Опускает плакат.
– Здесь всё равно уже ничего хорошего не будет, – говорит она. – Давай выбираться.
Мы лезем сквозь толпу вбок. Толкотня. Пролезаем между машинами. Подворотня. Узкий переулок. Вера забирает у меня мой листок. Комкает и выкидывает оба в урну. Лицо грустное.
– В жопу эту митинги, – говорит она. – Я давно говорю, что это бесполезно. Их слишком много, у них деньги, власть, а нас слишком мало. Не так надо действовать.
– А как? – спрашиваю я.
– Надо, чтобы больше людей вокруг понимало, что происходит. Тогда всё само изменится, – говорит Вера.
Мы идём переулками в сторону метро. Кое-как ковыляю, стараясь не отстать. Перед глазами сплошная синева.
– Чего молчишь? – спрашивает она. – Не согласен?
– Не знаю. Я-то вообще не в курсе. Совсем.
Вера смотрит на меня. Хмурится. Прикладывает руку мне ко лбу.
– Да у тебя опять температура дикая. Пошли домой скорее.
Она тащит меня в метро. Снова погружаемся в трубу. Кругом пумары. Разные. У некоторых даже одна голова. Маскируются, гады. Как же душно… Хочется вынырнуть, глотнуть воздуха.
– Хармс! Ты что падаешь? – возмущается Вера. – Мы на эскалаторе же.
Руки у неё сильные. Удержала. Хорошо. Я, кажется, улыбаюсь. Сверху, на потолке, проплывают боги с винтовками. Меня затаскивают в вагон и усаживают на сиденье.
– Спасибо, – слышу я голос Веры. Кому говорит? Не знаю.
Кружатся диски. Нет, не диски. Всё кружится. А может, только моя голова кружится, а всё остальное стоит на месте. Наверно, я всё-таки Павел Краматорский. У него же вечно болтается голова. Рядом со мной освобождается место. Вера садится рядом.
– Ты молодец, Хармс, – говорит она. – Если то, что ты говорил, правда, нам бы не просто пятнадцать суток светило. Ты как?
– Нормально, – говорю я. – Дышится только тяжело.
– Ну, это просто метро. Людей много. У меня тоже раньше паника здесь была. Ты, небось, тоже ведь не из Москвы?
– Не помню.
– Пошли, – Вера помогает мне встать.
Мы снова идём. Поднимаемся вверх по волшебной лестнице, которая едет сама. Синий свет в глаза. Моргаю. Вера поддерживает меня. Ветви деревьев плывут над головой. Нет. Так голова кружится. Лучше смотреть в землю, на мокрый асфальт. Там ползёт клубничная змея. Хочу сказать ей «привет», но вместо этого громко чихаю.
– Зря я тебя потащила, – бормочет Вера. – Тебе ещё лежать и лежать. Да и сама зря пошла. Только настроение испортила.
Мы заползаем в подъезд. Сыро, но здесь дышится легче. Наверно, перископ. Почему перископ? Что вообще такое «перископ»? Кажется, фильм такой был. Или я путаю?
– Ботинки сними. Иди сюда. Ляг.
Диван – это здорово. Под мышкой снова холодный металл градусника. Надо мной покачивается стриженая голубая голова Веры. Пищит.
– О, брат… Что-то ты не поправляешься. Ладно, подожди.
Странное состояние. Почти проваливаюсь в сон, но провалиться не могу. Может, потому, что боюсь? Может, потому, что мне не хочется уходить отсюда в несостоявшееся прошлое?
Верины руки. Она приподнимает мою голову над подушкой. Таблетки, которые она кладёт своими холодными твёрдыми пальцами мне в рот. Голубой уползающий наверх потолок.
– Ты не волнуйся, – бормочу я. – Я уйду. Сейчас вот только найду кого-нибудь, и уйду.
– Не болтай, – говорит Вера. – Спи. Сейчас поесть приготовлю.
Слышу, как задвигаются шторы. В комнате устанавливается зеленоватый полусумрак. Кутаюсь в одеяло. Кто мне может помочь с работой? Левин. Хотя его, наверно, уже поймали и расчленили. Фу, фу… Что за мысли у меня? Но от мутантов всего можно ожидать. У них челюсти и кости. И у меня тоже челюсти. Вон какие страшные. Ням, ням. Может, и я мутант?
Может быть. Хотя, наверно, и среди мутантов есть приличные. Вот, скажем, Вера. Я её знаю уже три дня. А потом забыл и теперь знаю ещё день. И она за это время ничего плохого мне не сделала. Хотя я не ручаюсь за те дни, что забыл. Она тут бинтовала меня, одевала… Мало ли что. Или это всё-таки я сам себя одевал?
Почему со мной всё это случилось? Почему я помню только фрагменты? Почему голова не может вспомнить всё сразу? Потому что Иванов, вот почему. Он сказал «перманентно», значит, перманентно. Что означает это слово? Перманент. Как-то связано с бигуди. Но Вера не пользуется бигудями. Есть такое слово – «бигудями»? Наверно, просто «бигуди». Хотя какие уж тут бигуди? У Веры и волос-то нет. Ну, почти нет.
Чуть ли не в нос мне тыкается тарелка.
– Спасибо, – говорю я, стараясь поймать рукой ложку. Ложка расплывается.
– Ладно, лежи так. Покормлю. Только на бок повернись, а то подавишься.
Вера взбивает мне подушку и усаживает полулёжа. Суёт мне в рот ложку. Разваренный рис, перемешанный с чем-то ещё. Печень, что ли? Да, похоже. Но очень вкусно. Любил ли я раньше печень? Нет, любил ли я вообще раньше хоть кого-нибудь? Почему у меня всё время путаются мысли? Надо думать о чём-нибудь определённом. Одном, твёрдом. Вот мышцы, например. Почему мышцы? Ну, наверно, потому, что передо мной одни сплошные мышцы. Зачем ей столько? Наверно, чтобы с мутантами драться. Это можно понять. Ой. Еда, кажется, кончилась.
– Всё, – говорит Вера. – Спи.
Она садится за стол. Раскрывает книгу. Поворачивается так, чтобы из-за штор на страницы падала полоска света.
– Да включи свет, – говорю я, укладываясь удобнее. – Мне не мешает.
– Электричество экономить надо, – говорит она.
– Ну, шторы приоткрой.
– Мне и так нормально, – говорит она.
Ну, ладно. Я отворачиваюсь к стене и честно пытаюсь заснуть. Один баран, два барана, три барана… Точно. Я, Паша и Левин. Кстати, вот Паша. Где он сейчас? В наркодиспансере? А существуют ли в этом мире такие учреждения? Или всех пьющих людей просто сваливают в одну большую яму? И что они там делают, интересно, в этой яме? Едят друг друга? Да нет. Этим отлично можно и не в яме заниматься. Надо спать. Спать. Но я почему-то не хочу.
Сколько сейчас времени? Не может быть вечер. Наверно, часа два или три дня. Поэтому и не спится. Но лучше поспать. Всё равно же болею. Хотя вроде не так уж и болею. Пока лежу, чувствую себя практически нормально. Может, таблетки помогли. А мысли путаются. Но они путались и тогда, когда у меня не было температуры.
Что за странные звуки? Поворачиваюсь на другой бок. Вера стоит на тренажёре. Работает руками и ногами, будто идёт на лыжах. Мышцы напрягаются и расслабляются. Лицо сосредоточенное. Пожалуй, это выглядит красиво. Всегда ведь красиво, когда что-то работает так, как ему положено. Есть мышца – работает. Или, скажем, огурец. Вот он красивый почему? Потому что его можно съесть.
Только сейчас замечаю, что играет музыка. Из магнитолки. Опять та же мелодия. Как она это назвала? Мародёр, что ли. Приятная музыка. Если закрыть глаза, представляешь девушку. Почему вообще музыка рождает зрительные образы? И зачем мне закрывать глаза и представлять себе девушку, если девушка прямо передо мной? Красивая. Ну, в некотором смысле красивая.
Нет, пожалуй, без оговорок – красивая. Просто это непривычно – столько мышц.
– Ты не спишь, что ли? – говорит Вера.
– Нет, – отвечаю я.
– Смотришь? – интонация холодная. Не похоже, что она меня в чём-то обвиняет. Но и не заигрывает.
– Смотрю. А можно попробовать?
– Да поправься сначала, – она останавливается и слезает с тренажёра. – Хотя я, в принципе, не против.
Она вынимает из стойки гантели. Начинает делать упражнение. По очереди поднимает то одну, то другую руку с гантелей, выставляя её вперёд. Фиксирует на пару секунд и опускает.
Я откидываю одеяло. Сажусь на кровати. Голова вроде не кружится. Слабость только. И синева. Встаю.
– Тапки надень, – говорит Вера чуть сурово.
– А где они? А.
Натягиваю тапки. Ковыляю к тренажёру. Пытаюсь встать на него. Педаль уплывает вниз. Чуть не падаю. А, вот так. Хорошо. Нажимаю одной, другой ногой. Тяжело. Ручки ходят вперёд-назад. И мне отчего-то кажется, что они сейчас ткнутся мне в глаз. Сделав движений десять, чувствую, что устал.
Вера тем временем откладывает гантели и переходит к штанге. Пыхтит, делая жим. Подхожу к стойке, хватаю гантель. Она намного тяжелее, чем я думал. Чуть не роняю от неожиданности. Так. Как она там делала? Меня хватает только на то, чтобы чуть отклонить руку от вертикали, после чего она безвольно падает назад.
– Лучше двумя сразу, – говорит Вера, опуская штангу. – Для равновесия.
– Да нет, – отвечаю я, укладывая двумя руками гантель на стойку. – Без толку.
– Ну, это ты зря, – говорит Вера. – Я с веса в три раза меньше начинала. И тоже не могла руку поднять. Всё можно натренировать.
– Как-нибудь потом, – говорю я, возвращаясь на диван. Замечаю, что играет уже другая музыка. Тоже электронная, без слов, но медленная. Звуки похожи на текущую воду ручья. Хочу спросить, что это, но решаю, что это не важно.
– А ты что о себе помнишь вообще? – спрашивает Вера.
– Да ничего, на самом деле, – отвечаю я. – То, что я вижу кусками – может, оно и не про меня вовсе. Может, я просто бомж, а остальное мои фантазии.
– Бомжи тоже откуда-то берутся, – говорит Вера. – Ладно. Я в ванную. Пока подумай, как работу будешь искать. Считай, тебе тринадцать дней осталось.
На её руках блестит пот. Футболка покрылась изнутри мокрыми пятнами. Она уходит. Тринадцать дней. Да, это отрезвляет. Надо что-то делать. Надо что-то делать.
Я откидываюсь на подушку. В воздухе надо мной витают синие пятна. Одно из них похоже на кролика с ушами. Нет. Скорее, на дерево. Корявое, разлапистое. Оно болтается в моём поле зрения туда-сюда, закрывая обзор. Мешает. Я напрягаюсь и пытаюсь смотреть сквозь него. Всё равно мешает. Отодвигаю его вправо. Ух ты. Получилось.
Интересно. Это что же, я могу этими пятнами управлять? Я возвращаю пятно на место. Оно всё такое же синее, но теперь уже бесформенное. Ага. Давай пририсуем к нему лапки. И ещё. И хвост. Получается что-то похожее на кошку. Здорово. Правда, пятно живёт своей жизнью. Размазывается, течёт. Вон оно уже становится обычной кляксой. Немного похоже на калач. Или на висячий замок. Тра-та-та. Или на барана. Сверху вон вроде рога. Рано-рано. Два барана. Три барана…
Почему так темно? Где я? Я поворачиваю голову вправо. Нет, я всё ещё у Веры. Вот она, в паре метров от меня, на раскладушке. Лежит спиной ко мне в майке и трусиках. Одеяло скомкано. Она прижимает его к себе спереди, словно обнимает.
Нет, всё-таки она девушка. Это видно. Вон и талия заметная. Да и грудь я у неё видел вчера. Что, правда? Не помню. Хотя даже не в этом дело. Видно же, что девушка. Чувствуется.
А почему она спит? Ночь, что ли? Ну да. Наверно, я всё-таки заснул. Мне ещё сон снился про пятна. А сейчас вот – ни в одном глазу. Нет, пятна-то как раз в обоих глазах. Сна нет.
– Ты что там бормочешь, Хармс? – спрашивает Вера.
– Я? – я удивляюсь. – Да я вроде молчал.
Вера поворачивается ко мне лицом. Раскладушка скрипит.
– Значит, думаешь громко. Выспался, что ли?
– Да вроде.
Лежим молча. Где-то за шторами проезжает автомобиль, фарами устраивая в комнате пляску зайчиков.
– Что там у тебя за бзик с мутантами? – спрашивает Вера.
– Не знаю, как объяснить, – отвечаю я. – Чудятся везде. Боюсь почему-то. Может, с детства что-нибудь.
Вера шевелит носом задумчиво.
– В нас многое с детства, – говорит она. Её зрачки дёргаются куда-то и замирают. – Я далеко отсюда родилась. Страна у нас большая. Но я детство помню, в отличие от тебя. Не знаю, что лучше – помнить или не помнить. Может, у тебя блокировка психологическая? Может, что-то страшное было с тобой?
– Может, – говорю я. – Но я не хочу вспоминать. Я боюсь отсюда опять куда-то провалиться. Надоело это мельтешение.
– У меня отец хороший человек был, – говорит Вера. – И сильный. Но, видимо, недостаточно сильный. Это время бандитов было. В наших краях всем тогда заправлял один мужик. Не помню точно фамилию. Филькин, что ли. Была у него банда и куча денег. Милиция, суды, начальники местные, газеты – всё скупил. Губернатор наш с ним дружил и на всех праздниках вперёд себя выпускал выступать. Его называли лучшим бизнесменом, главным меценатом. А занимался этот Филькин в основном тем, что заводы местные разорял. Скупал или захватывал силой завод, а потом запускал там производство нелегальной водки, например. Или, если завод что-то серьёзное делал, просто оборудование распродавал. Вот мой отец на одном таком заводе работал, машиностроительном, начальником цеха. На самом деле, конечно, оборонка. Там вокруг этого завода целая история была. Признали его якобы банкротом, объявили тендер. И какой-то человек другой, тоже вроде бандит, не знаю, этот тендер вроде как выиграл. Может, тоже денег кому дал. А Филькин разозлился. Убил этого мужика. Не лично, киллеров подослал. И остальных запугал из той банды. А сам въехал на завод с людьми своими и милицией купленной и сидит. Мой отец увидел это и стал возмущаться. Ему завод этот дорог был, много лет на нём работал. Собрал людей прямо в цеху, агитировать стал не подчиняться новым хозяевам. Их всех и выгнали с завода. Хорошо ещё, что тогда не пристрелили.
Отец мой пытался увольнение обжаловать, но, сам понимаешь, проку от этого ноль. В городе нашем работу было найти тогда тоже нереально. Заводы все стоят. Тогда он решил бизнес свой открыть. Взял небольшой кредит, арендовал уголок в магазине, стал ездить, скупать товары оптом. В первый же день, как открылся, наехал на него рэкет Филькина. Говорят, отдавай всю выручку. Он отказался. Главному рэкетиру монтировкой нос сломал. Его избили жестоко. Переломали рёбра, отбили внутренние органы – почки, печень, позвоночник повредили. Унесли весь товар, что нашли, разломали прилавки.
Отец попал в больницу. Заявление в милицию, конечно, подал. Письма из палаты всем писал. В газету, областному начальству. Сначала казалось, что поправится. Потом ноги отнялись. Почка отказала. А через два месяца умер. Сердце остановилось. Я с ним говорила вечером перед тем. Он всё говорил, что в страну перестал верить. Говорил – уезжай отсюда так далеко, как только сможешь.
– Тебе сколько тогда было? – спрашиваю я, вглядываясь в её лицо. Слёз не заметно, голос не дрожит.
– Двадцать один. Я на третьем курсе училась в местном политехе. Остались мы с мамой вдвоём. И кредит висит. Сначала я думала, что выплатим как-нибудь. Мама учительницей русского языка работала, хоть какие-то деньги. Я думала, тоже смогу что-то найти. Но не успела. Приехали к нам квартиру отбирать за долги.
– А с банком не пробовали договориться? – спрашиваю я. – Реструктурировать как-то, что ли?
Вера хмыкает.
– Не стали они с нами говорить. Этот банк принадлежал тем же бандитам. Откуда вообще здесь банки берутся? Или бандитские деньги, или государственные, уворованные какими-нибудь чиновниками или кагэбэшниками бывшими. Вот и этот банк, где мой отец кредит взял, оказался банком Филькина. Они просто пришли, показали бумаги какие-то да выгнали нас на улицу. Кое-какие вещи дали унести, и то спасибо. Мамины знакомые помогли поселиться в офицерскую общагу за городом. Это так говорится, что общага. Халупа просто. Построена она была рядом с военным городком полулегально, не принадлежала никому. Ни город о ней не заботился, ни военные. Воды там не было, канализация в подвал текла. Электричество, правда, было, но не всегда. Потому что грелись все обогревателями, готовили на плитках. Проводка нагрузки не выдерживала. Пожар был один раз сильный. Но нашей комнаты не коснулся. Короче, жили кое-как. В принципе, можно было жить. Только потом с мамой моей проблемы начались. Честно сказать, она всегда была странная. По крайней мере, я её нормальной не помню. Сильно она верующей была. Иногда чересчур просто. Ты думаешь, почему меня Верой зовут? Потому что мама моя – Софья Аркадьевна. Она мечтала, чтобы у неё три дочки родилось – Вера, Надежда и Любовь. Только не вышло. После меня был ещё у неё выкидыш, а потом рак нашли. Вырезали всё, что можно. Вылечилась, правда, но умом крепко тронулась. Сначала не очень заметно было, при отце. А потом, когда он умер, уже заметно. В школе она часто на уроках стала всякую чушь нести. Про ад в основном. Как там все горят, как мучаются. И черти ей везде мерещиться стали. Идёт человек какой-нибудь, а она на него кидается и крестить начинает с выпученными глазами. Говорит, у него клыки и когти, как у чёрта.
Я сглатываю слюну. Мне это что-то напоминает, должно быть.
– Ну, конечно, маму выгнали из школы скоро. Жить стало совсем не на что. Она сначала уборщицей пошла работать, но и там недолго продержалась. Чудила всё. То в выхлопную трубу кому-нибудь мусор запихает, то бак подожжёт. Пришлось мне пропитание добывать. А как в нашем городке девушка может заработать? Да практически никак. Даже вдоль дорог все места уже заняты. Периодически получалось что-то найти. В одной забегаловке официанткой подработала, продавщицей в палатке. Там парень со мной познакомился. Антон звали. В принципе, нормальный парень. Но алкаш. Работал с такими же, как он, на лесопилке. Считалось круто для нашей местности. Живые деньги платили. В основном-то у нас всё только обещали зарплату, да натурой кое-где давали. Сделал шестерёнку на заводе – шестерёнку и получи за работу, авось пристроишь куда. А Антон деньги зарабатывал, хоть и немного. Короче, стал за мной ухаживать. Иногда по пьяни деньги давал мне на что-нибудь. Я старалась не тратить. Но с ним жизнь не сахар была, конечно. Каждую неделю запой дней на пять. Когда трезвый, приличный был, даже интеллигентный, можно сказать. А когда выпьет, то не знаешь, чего от него ждать. То орать начнёт на тебя, то стукнет, то целоваться лезет. Я у него как-то спросила, что ему дороже – водка или я. Он мне честно сказал, что без меня он прожить может, а без водки – нет. Короче, перспектив у меня с ним не было никаких.
Мама тем временем продолжала съезжать с катушек. Иногда страшно с ней становилось. Помню, прихожу я как-то поздно домой, а в моей кровати чучело какое-то лежит, из газет скрученное. Спрашиваю, что это за дрянь, а мама так весело говорит «Это же Наденька, сестра твоя». И потом много таких Наденек разного размера я везде находила. То в банке с чаем, то в носке под подушкой, то в туфле. Жутковато, честно говоря. Но мучилась я так недолго. Как-то мама пошла гулять и на дорогу выбежала. Небось, опять чёрт где почудился. Сшибло её машиной, а потом ещё другой переехало. Я как раз из института возвращалась – смотрю, толпа собралась. Расталкиваю всех, а там она с расплющенной головой. Мне эта картинка до сих пор иногда перед глазами встаёт. Знаешь, я никогда маму особо не любила. Всё больше с отцом. Отец был крепкий, но маленького роста. Я в него пошла. А мама длинная, костлявая. Всё время в платочке, в юбке длинной. Выглядела вечно как чучело. Но когда она погибла, мне её так жалко стало, что я просто делать ничего не могла, всё плакала. Потому что представляла себя на её месте, такую бестолочь нелепую, и жизнь её бессмысленную, безысходную. И понимала, что так не хочу.
– А ты ещё и училась в институте? – уточняю я.
– Да, – отвечает Вера, поменяв позу на раскладушке. – На последнем курсе уже. Но закончить не смогла. Не потому, что тупая была. Нет. Училась я хорошо, хотя это и непросто было тогда. Просто сессию стало всё труднее сдать без взяток. Один преподаватель упёрся, открыто деньги требовал. Жаловаться я пробовала, но они там все повязаны были. Мне стало противно, и я ушла. Сразу после смерти мамы как раз. А потом Антон мой злым стал. Его стали за пьянку с работы гнать, что-то он там накосячил. Он на мне сорвался. Я понимаю, что это не он по сути был, а водка, но мне-то какая разница? Короче говоря, собрала я все деньги, какие были, продала мамины серёжки ещё. Она их не носила, но всё время прятала. И решила ехать в Москву. Про заграницу не думала тогда, нереальным казалось. А что ещё, кроме Москвы? На билет у меня денег не хватало. Стала проситься к дальнобойщикам. У нас в городе была пара мест, где они тусовались, когда останавливались. Многие меня послали в грубой форме, кто-то дикую цену заломил. Но одна парочка сжалилась. Поехала с ними. Денег половину отдала. Думала, приставать будут, уже готова была на всё, лишь бы до Москвы добраться. Но, в общем, не приставали. Старший из них, Саныч, всё говорил, что я ему как дочка. Пока ехали, всё отговаривал меня перебираться в Москву. Говорил, там самый рассадник всего того, что по стране творится. Говорил, что не смогу я тут устроиться, что или помру, или проституткой стану. В принципе, правильно говорил, но в очередную порцию его нравоучений я не выдержала. Психанула, выпрыгнула на ходу и в лес. Спряталась, плакала чего-то. Сама не понимаю, что нашло. Слышала, искали они меня, звали. Не нашли. Уехали. До Москвы уже недалеко оставалось, километров двести. До станции добралась пешком, там электричками зайцем. Приехала на вокзал, а дальше и не знала, что делать.







