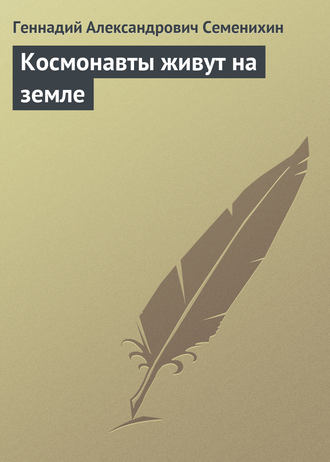
Геннадий Александрович Семенихин
Космонавты живут на земле
Лишь в дни самых жарких полевых работ, чтобы не нарождались новые морщины (они и без того уже свились от горя в углах рта у Алены), она густо мазала лицо кислым молоком. И солнце ее щадило, не старило. Когда она, полногрудая и стройная, проходила в праздник в цветастом платье по окраинным улицам или вечером на полевом стане пела с девушками и бабами песни, на нее заглядывался не один молодой мужчина.
Работала после войны Алена Дмитриевна все в том же совхозе «Заря коммунизма», где в юности встретилась в полеводческой бригаде с веселым городским парнем, приехавшим по комсомольской путевке в совхоз из самого Ленинграда.
Помнится, дежурила она одна на стане, и появился неведомо откуда этот ладный, чуть запотевший парень, с такими бесшабашными синими глазами, что в них было страшно глядеть, – совсем как в глубокий колодец. Комбайн стоял рядом, в высокой сизой пшенице – она в тот год вымахала такой, что человека в полный рост могла спрятать.
– Эй, молодица, дай-ка попить! – закричал Павел.
Она поднесла ему железный ковшик и молча смотрела, как молодой комбайнер черпал им из деревянного, перехваченного обручами бочонка студеную ключевую воду и жадно пил, так что по смуглой от загара шее – на ней бились мраморные жилки – проливалась за растегнутый воротник струйки.
– Ух, до чего и прелесть твоя вода! – сказал он, отдавая ковшик и норовя задержать ее руку в своей. – А еще разок попить к тебе прийти можно?
Усмехнулась Алена, только бровью-дугой повела:
– Отчего же. Вода у нас волжская, бесплатная.
– А я знаю, красавица, – вдруг выпалил парень, – тебя Аленушкой кличут.
– Смотри ты, вещий какой! Кому Аленушка, а кому Алена Дмитриевна.
Ничего не ответил комбайнер, а вечером, когда за волжский бугор уже пряталось солнце и тени скользили по жнивью, разыскал ее в поле, отбил от подружек и, дерзко заглядывая в глаза, спросил:
– Слушай, ты веришь в любовь с первого взгляда? Так это она ко мне пришла. Не сыщу я больше такой, как ты, если тебя потеряю. Иди за меня. Завтра же в загс явимся.
– Так ты и ступай один в этот самый загс, – отрезала Алена.
Но никакие насмешки не могли сломить упрямого парня. Стал он услужливым и кротким, ласковым и неназойливым, как иные кавалеры, добивавшиеся Алениного расположения. За лето он так понравился Алене, что всем было ясно – после уборки не миновать свадьбы.
Так оно и случилось. Легко и счастливо зажили молодые. У Павлуши были золотые руки, перед которыми ничто не могло устоять. Не без помощи дружков поставил он на окраине Верхневолжска небольшой светлый домишко с голубыми наличниками, на премиальные обзавелся мебелью: что купил, что сам смастерил. Даже самодельный приемник осилил и поставил в самой большой комнате. Словом, хоть петь, хоть работать, хоть любить – был он щедрой души человек.
И в домике под цинковой крышей не ждали по веснам аиста, потому что не мог бы он, поджарый, принести сюда большего счастья, чем то, что уже тут поселилось.
В конце сорокового почувствовала себя Алена Дмитриевна тяжелой, и Павел не знал, куда деваться от радости. А потом пыльная фронтовая дорога властно позвала его, как и всех других парней и мужиков из Верхневолжского зерносовхоза. И уже без него, в горькую лихую осень сорок первого, родился сын Алешка. Вместо подарка на крестины прислал отец армейскую газету со своей фотографией на первой странице, где он был снят в полном танкистском облачении, а короткая подпись гласила, что при освобождении Калуги командир среднего танка лейтенант Павел Горелов уничтожил около десяти вражеских орудий и награжден за это орденом боевого Красного Знамени.
Она тогда прослезилась, но вовсе не потому, что ее поразил орден и растрогало лаконичное описание подвига. Она прослезилась от радости, что он жив и здоров, и всю ночь думала о том, как много еще таких боев предстоит перенести ее Павлуше.
Когда хромой почтальон Яков разносил по улице почту, она вздрагивала, боясь, что вместо письма получит дурное известие. Но время шло, а от мужа по-прежнему приходили короткие ласковые письма. Подрастал Алешка. Ему было около года, когда в душную августовскую ночь усталая после полевых работ Алена была разбужена громким стуком. Простоволосая, почти нагишом, она выбежала в сенцы и, задыхаясь от радостного предчувствия, спросила:
– Кто?
И услышала такой незабываемый голос:
– Да открывай, не бойся, Аленушка. Я это.
Она так долго шарила в темноте, силясь сбросить три крючка и цепочку, что он не выдержал и засмеялся:
– Да что ты, или засов позабыла снять!
– Руки дрожат, Павлуша, – призналась она, унимая заколотившееся сердце.
– Не надо, ласточка. Живой я, здоровый, не волнуйся.
Когда в проеме двери на фоне высокого звездного неба увидела Алена окутанную сумерками фигуру мужа с заплечным солдатским вещевым мешком, охнула, чуть не ударилась о дверной косяк. Неподатливыми руками ввела мужа в дом, разула, раздела. Сколько радости испытала она той ночью! Оказывается, Павел был отпущен на побывку перед новым наступлением за какой-то новый подвиг, и только на двое суток. Утром он брал на руки розового Алешку, щекотал колючей щекой и, жмурясь от счастья, приговаривал:
– Медведь пришел, парень.
* * *
Два дня побывки! Их и не заметил никто по-настоящему в дружной семье Гореловых. А потом в такую же душную ночь Алена снова проводила мужа на фронт. И растаяла в сумерках высокая солдатская фигура.
Осенью сорок третьего она получила похоронную. Товарищи Павла рассказали в письме, что на глазах у них его танк был подожжен термитным снарядом и, не выходя из боя, врезался в дот, мешавший продвижению пехотинцев.
Хромой Яков три дня не решался переступить порог ее дома, а как только вошел, она сразу все поняла по его виновато опущенным глазам.
– Ты тово, Алена Дмитриевна… – хрипло пробормотал старик, – ты это самое… не больно убивайся-то. Всякое на фронте случается. Иной раз человека погибшим считают, а он жив… сквозь пламя и воду т огненные реки пробьется. Ты повремени убиваться. И потом сыночек у тебя какой, Алена! Кто же ему крылышки отрастит, если мать этак убиваться будет… Не у одной у тебя горе, доченька. До всего народа добралось оно в эти годы.
И она была благодарна Якову за добрые слова. И долгие годы после этого старалась себя уверить, что, может, не все еще потеряно и что муж ее терпит беды и лишения в фашистских лагерях, а потом вернется. Дважды за Алену Дмитриевну сватались, но она гордо отказывала и выходила к сватам в черном траурном платье, сшитом на первую годовщину гибели Павла. Бесплодная надежда оставила в ней какие-то слабые, не убитые временем ростки. Но в 1952 году, накопив деньжонок, вместе с подросшим Алешей она съездила на место гибели мужа на юг Украины и действительно на берегу Днепра, около деревни, указанной в похоронной, нашла серый гранитный обелиск, обнесенный свежевыкрашенной оградой, и на мраморной плите прочла надпись, не оставляющую больше никаких сомнений: «Здесь 12.9 1943 года геройски погиб танковый экипаж в составе старшего лейтенанта П.Н.Горелова, механика-водителя старшины Боровых Г.Х. и башенного стрелка Косенко А.Г. Вечная память героям!»
Она села на небольшой пригорок, а десятилетний Алеша, сжав кулачки, остался стоять и не вытирал слез, катившихся по загорелым щекам. Он не всхлипывал, стоял молча, будто вслушивался, как гудит под крутояром растревоженный серый Днепр и чайки, задевая крыльями гребни волн, мечутся над его серединой. Потом, хмуря широкий лоб, скупо сказал:
– Уйдем, мама. Здесь тяжело.
Вот в этот день и погасли окончательно слабые ростки надежды в душе у Алены Дмитриевны. Весной следующего года вышла она замуж за старшего агронома совхоза, вдового сорокапятилетнего Никиту Петровича Крылова. Был он лысоват, низкоросл, но лицом недурен, и настрадавшаяся за долгие годы вдовьей своей жизни Алена надеялась если не на любовь, то на доброе отношение и ласку. И все, может быть, между ними так бы и было, если бы не Алешка. Она долго скрывала от мальчика правду. Когда агроном все чаще и чаще стал наведываться в голубенький домик на Огородной, Алеша не задал матери ни одного вопроса. С угрюмым любопытством приглядывался он к малознакомому пожилому мужчине, и в глазах у него появлялась недетская печаль. Соседки уговорили Алену Дмитриевну отвести в день свадьбы сына к родственнице, жившей на другом конце Верхневолжска.
– Не надо его сердечко испытывать, – говорили они, – пусть лучше потом узнает, когда все свершится. Твоя свадьба для него не радость.
Алена подумала и согласилась.
На свадьбе было много тостов и песен. Когда подгулявшие гости опустошили за ужином огромный жбан с крепкой брагой и нарядно одетая, почему-то невеселая Алена сидела в центре стола рука об руку с агрономом, случилось непоправимое. В те минуты, когда гости нестройно кричали «горько», а жених в черной тройке с нафиксатуренными редкими, на пробор зачесанными волосами целовал Алену, неожиданно появился в разодранной рубашке Алеша.
Мальчик остолбенело остановился в дверях, не зная куда девать свои не по росту длинные руки.
– Подойди, сыночек, – тихо сказала совершенно трезвая мать. – Ты видишь Никиту Петровича, сыночек?
– Вижу, – глухо отозвался он.
– Никита Петрович теперь мой муж, и ты должен называть его папой.
– Папой? – пересохшим голосом спросил Алеша.
– Да. Папой, – при всеобщем молчании повторила мать.
Алеша не тронулся с места. Он застыл, остановленный какой-то ему одному понятной думой. Решив, что неловкая пауза прошла, гости уже стали наливать «по новой». И вдруг Алеша подошел к портрету отца, висевшему на стене над празднично накрытым столом. Павел Горелов в танковом шлеме и гимнастерке с боевыми орденами, чуть прищурившись, смотрел со стены на шумевших гостей.
– Мама, ты хочешь, чтобы я называл Никиту Петровича папой?
– Да, сынок, – повторила Алена Дмитриевна строже.
– А это кто же, мама? – спросил Алеша, рукой показывая на портрет, и, захлебнувшись жалобным плачем, бросился куда глаза глядят из дома.
Прошло несколько недель. Алеша и вида не подавал о случившемся. Он исправно помогал матери, относил ей на покос обед, а иной раз и ужин, встречаясь с агрономом дома и в поле, коротко и сдержанно обменивался ничего не значащими фразами. Никита Павлович попробовал было задобрить пасынка и однажды позвал в кино. Но Алеша спросил, какая идет картина, и тотчас же соврал, что уже несколько раз ее видел. Никита Павлович попытался действовать строгостью, но и это не помогло. Он запретил Алеше задерживаться на улице с ребятишками по вечерам, играть в футбол, чтобы не изнашивать обувку. Но Алеша по-прежнему возвращался домой поздно, влезал через окно, открытое матерью в его каморку, и, раздевшись, долго вздыхал под одеялом.
Однажды он услышал доносившиеся из спальни приглушенные шорохи и голоса.
– Как там ни суди ни ряди, а нехорошо получается, – прокуренным басом говорил агроном, – я, конечно, не в претензии к тебе, Алена, но и ты пойми меня правильно. Надо с первых шагов к порядку и уважению парня приучить. Иначе не наладим мы с тобою хорошей семейной жизни. Это я говорю точно.
– Так чего же ты хочешь? – сквозь слезы спросила Алена. – Взял бы да и побеседовал с ним первый.
– Это я, разумеется, сделаю, – закашлялся Никита Павлович, – но и ты, Алена, не сиди сложа руки. Должна тоже мне помощь в этом оказать.
– Какую же, например?
– А вот с портретом хотя бы.
– Это с каким же портретом?
– А с тем, что висит в нашей комнате.
– С Павлушиным, что ли?
– Сняла бы ты его, Алена. Я, пойми, плохих чувств к погибшему твоему мужу не питаю. Грешно бы это было. Да и сам жену имел, покойницу ныне. Но посуди сама, раз я занял в твоем доме его место…
– Так тебе, значит, мертвый уже помешал, – сдавленным голосом перебила его Алена.
Но Крылов, не собиравшийся, по-видимому, ссориться, вкрадчивым голосом поправился:
– Да нет, не поняла ты меня, женушка. Это я к слову.
– Так вот что, Никита Петрович, – тихо и решительно произнесла Алена Дмитриевна, – о портрете этом больше я от тебя чтобы ни слова. Где он есть – там ему и быть, пока я жива. Понял?..
Голоса в спальне сбились на неразборчивый шепот, а Алеша, лежа со стиснутыми губами, с горечью думал, зачем это хорошая и добрая его мать, говорившая об отце всегда одни только ласковые слова, пустила в их дом этого пожилого, чужого ему примака, пропахшего табачным дымом. «Еще отцом его называй, – зло подумал мальчик, – а фигу не хотел?»
И пошли у отчима с пасынком раздоры, да такие, что хоть святых выноси. Отчим – слово, пасынок ему – два. Ни наяву, ни во сне не мог простить Алексей этого замужества своей матери. А когда заметил, что Никита Петрович всякий раз морщился, если речь заходила о его отце, невзлюбил его еще больше. И однажды вспыхнула меж ними крутая ссора, приведшая к недобрым последствиям.
Была у отчима блестящая иностранная зажигалка. Никогда он сам не служил из-за своего плоскостопия ни в армии, ни на флоте; трофейную эту зажигалку кто-то ему подарил. Стоило только нажать кнопку, крышка зажигалки распахивалась, и оттуда выскакивал маленький чертик, извергающий изо рта огонь. Очень она приглянулась мальчику. ВО время летних каникул, когда агроном находился в поле, взял Алеша ее на игрище с ребятами, да и потерял где-то.
Отчим приехал с поля ночью злой и усталый. Были у него на уборочной какие-то свои заботы и неприятности. Разве мало их у агронома, отвечающего за такое большое хозяйство, каким был совхоз «Заря коммунизма»! Наскоро похлебав щей и молока, захотел он перед сном выкурить папироску. Потянулся за своей любимой зажигалкой – на месте ее нет. Долго сопел агроном, рылся во всех ящиках и вазах – нигде не нашел. Тогда, как к последней решительной мере, прибегнул к допросу Алешки. Зажег в его комнате свет и по тому, как тот вздрогнул, сразу понял, что не спит он, а только притворяется спящим. И мгновенно вспыхнула у Никиты Петровича безотчетная злость.
– Слышь, Алексей, очнись-ка на минуту.
– Ну чего вам? – неохотно открывая глаза, протянул мальчик. Он уже с тоской ожидал неизбежной развязки. – Может, завтра меня спросите? Глаза слипаются.
– Ты мою зажигалку, случаем, не брал? Весь дом перерыл, отыскать не могу.
– Брал, – глухо сознался Алексей, не пытавшийся врать.
– Почему же на место не положил? – недобро покосился на него отчим. – По-моему, если уж взял чужую вещь, то по крайней мере, должен положить ее на место. Это как минимум. Так ведь, кажется?
Мальчик неловким движением опустил на пол босые загорелые ноги, не поднимая головы, подавленно буркнул:
– А у меня ее нет, Никита Петрович.
– Как так нет? – взорвался отчим. – Что же, ее святой дух забрал, что ли?
– Я ее потерял, – еле слышно пробормотал Алеша. – Мы с ребятами в казаки-разбойники играли, а потом борьбу на Покровском бугре устроили. Там в траве она и пропала. Целый час я ее искал, Никита Петрович. И куда только могла деться!..
Отчим неловко вытер со лба холодный пот, чувствуя, что злое удушье мешает ему говорить.
– По-по-те-рял? – тихо переспросил он. И вдруг сорвался, закричал тонким фальцетом: – Когда чужую вещь берут без спросу и она исчезает – это не называется потерял. Украл!
– Я не вор! – вскинув голову, обиженно сказал Алексей. – Я не вор, – повторил он. – Если беда случилась и я потерял вашу зажигалку, это еще не значит, что я вор. Я копилку свою раскрою и все деньги вам верну, какие она стоит, эта зажигалка. Я в долгу у вас не останусь.
– Молчать! – заорал Никита Петрович и в исступлении стал снимать с себя ремень. – Я тебе сейчас покажу, как чужие вещи без спроса брать. Живо отучу.
Он занес над своей лысоватой головой ремень и стал медленно приближаться к мальчику. И тут случилось неожиданное. Бледный Алешка метнулся к двери, схватил черный задымленный рогач, каким мать вынимала из печи кастрюли и сковородки, и воинственно встал на пороге.
– Не троньте! – крикнул он звенящим голосом. – Слышите, не троньте! Меня еще никто сроду не бил: ни отец, ни мать. Хоть в милицию ведите, если вором считаете, а бить не смейте.
– Отец, говоришь, не бил, – злым шепотом продолжал отчим, – отец не бил… А я тебя огрею, да так огрею, что навек отучу воровать!
Свистнул ремень, и пряжка шмякнула об пол в полуметре от босых мальчишеских ног. Пока озверевший отчим замахивался снова, Алешка как штык выставил вперед рогач и сухими гневными глазами ожег Никиту Петровича.
– Слышите, не троньте, иначе и я вдарю. И на то, что вы взрослый, не посмотрю.
Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы на заскрипела за спиной у мальчика дверь и на пороге не появилась усталая, вернувшаяся с совхозного поля с последней машиной мать.
– Батюшки-светы, да что же у вас такое делается! – воскликнула она, испуганно хватаясь за голову. – За какие-такие преступления ты его, сиротинушку, пороть собрался, Никита?
Агроном опустил ремень.
– Полюбуйся. Жулик у нас растет, Алена. Жу-лик! Он у меня зажигалку украл.
– Да не украл я, мама, – ставя на место рогач, протянул Алешка совсем уж другим, жалким и плаксивым голосом. – Я ее только на полчаса поиграть взял и сам не знаю, как она выпала.
Алена Дмитриевна видела нахохлившуюся, решительную фигуру сына, его торчащие на голове, начинавшие курчавиться волосы, видела немытый пол, кровать со смятым одеялом. Неожиданно ей показалось, будто под кроватью что-то блеснуло.
– Погоди-ка, сынок, – тяжело дыша, сказала мать, – что это там у тебя под коечкой виднеется? Слазь, посмотри.
Алеша нагнулся, достал из-под своей кровати не что иное, как ту самую зажигалку, и протянул отчиму.
– Вот она, – сказал он обрадованно. – Зря я считал ее пропавшей. Возьмите свою зажигалку.
Агроном сконфуженно засопел.
– Он тебя ударил? – спросила мать.
– Не-е, – протянул Алеша. – Я вовремя отскочил. Его пряжка вот тут только кусочек краски с пола соскребла.
– Хорошо, Алеша, – как-то неестественно спокойно сказала мать. – Выдь на несколько минут из дому. Надо нам с Никитой Петровичем перемолвиться.
Когда дверь за мальчиком закрылась, Алена Дмитриевна скинула с головы платок и с побледневшим лицом шагнула к мужу.
– За что же ты руку на него поднял, Никита? – спросила она тихо. – За что ты сиротинку вором-разбойником назвал? Или тебе мало, что он до сих пор по отцу погибшему тоскует? Кто тебе дал право над душой его изыматься? Разве не он из школы табель с одними пятерками и четверками принес? Разве не о нем в пионерском отряде самые добрые слова говорят? За что же ты его острой пряжкой хотел секануть?
– Но позволь, Алена… он же мою вещь без спроса взял.
– Не позволю! – повысила она голос. – Слышишь, не позволю! Была промеж нами любовь, горькая, но была. А теперь ее нет. Вот что я тебе скажу, Никита. Пойди верни мальчишку и немедленно перед ним извинись за то, что вором напрасно обозвал. Дескать, так и так, не будет больше этого, чтобы я руку на тебя подымал, и точка.
– Но постой, Алена! – взорвался поначалу оторопевший агроном. – Может, мне еще в ногах у него поваляться прикажешь, ручки ему поцеловать?! Нет уж, извини. Пусть я погорячился, вышел из себя. Но ведь если малец не почувствует крепкой мужской руки, он вовсе от порядка отобьется. Так что не гневись, но я Алешу в строгости и повиновении держать буду.
– Значит, не извинишься?
– Нет.
– И правым себя продолжаешь считать?
– В известной мере, да.
– Тогда не о чем нам говорить, Никита. Сына калечить я никому не позволю. Подумай лучше, а завтра будем решать.
Всю ночь проплакала Алена Дмитриевна, проклиная горькую свою долю. Не спал всю ночь и Никита Петрович, беспрерывно вышагивал по комнате, прикуривая от папиросы папиросу.
На рассвете он упаковал свои вещи в большой коричневый чемодан, перенес в совхозную контору – красный кирпичный домик в самом дальнем конце Верхневолжска, в свой кабинет. А через месяц, будто назло Алене Дмитриевне, он снова женился.
* * *
На самой окраинной из городских улиц – Огородной, где жили Гореловы, почти напротив их калитки, чернела водоразборная колонка. Была она во все времена года местом постоянных сходок, на коих бабы с коромыслами и без коромысел, гремя ведрами, окликали друг дружку, охотно останавливались на несчитанное время, делились последними новостями и только потом, все обсудив и разложив по полочкам, осанисто возвращались к своим домам. В войну здесь можно было узнать, когда и в какой дом принесли с фронта похоронку, к каким счастливцам завернул на побывку муж или сын, какая вдова, нарушив благочестие, в горькой полынной утехе впустила на ночь проходящего военного и подарила ему короткую свою любовь, кого из верхневолжцев, обитателей этой окраины, произвели в новое звание или же прославили боевыми орденами.
И теперь здесь тоже судачили бабы. После того как Никита Петрович ушел от Алены Дмитриевны, их разрыв не однажды обсуждался у колонки, под звон тугой струи, падающей в ведра.
– Слышь, Матрена, – обращалась старуха с кирпичным лицом к своей собеседнице, – а это правда, что Аленка из-за сынка со своим агрономом разошлась?
– Болтают, правда.
– Вот аспид треклятый! И что за молодежь такая растет! Нешто можно, чтобы сын лишал свою мать последнего бабьего счастья? Если бы не он, чего бы им не пожить. Алена еще в годах и телом справная. Агроном этот тоже серьезный и обстоятельный.
– Да полно тебе брехать, – подходя к колонке и со звоном снимая с коромысла ведра, резала ее под самый, что называется, дых костистая, с басовитым голосом соседка Гореловых пятидесятилетняя Аграфена, всегда миловавшая и жалевшая Алешку, – жмот жмотом твой агроном! Мало того, что примаком в дом ихний вошел, так еще в ежовых рукавицах держать всех решил. Почти ни копеечки на хозяйство – все свои оклады в сберкассу норовит сносить. Кому такой колорадский жук, спрашивается, нужен?..
Разговоры эти долетали и до Алены Дмитриевны. Оставшись в одиночестве, она первое время как-то потускнела, пригорюнилась, но потом отошла и стала еще сердечнее относиться к сыну. Алешка, чувствуя себя виновником происшедшего, не знал, как ей только угодить. Он и на базар сам бегал, и воду носил, и с курами возился, и даже полы научился мыть.
Осенью ушла Алена Дмитриевна из полевой бригады на курсы счетоводов, а потом стала работать в совхозной конторе, до которой от их домика рукой подать. Незаметно бежало время. Сын по-прежнему хорошо учился, слыл среди школьных товарищей справедливым и рассудительным.
Был он уже в седьмом классе, когда вспыхнула у него страсть к рисованию. Мальчик стал посещать школьный кружок, приходил оттуда поздно вечером. В маленькой его комнатке появились краски, холсты и даже этюдник.
По вечерам при тусклом свете электрической лампочки Алеша так разрисовывал классные стенные газеты дружескими шаржами, что, уходя на работу, мать не могла смотреть на их без улыбки. Часто уходил Алеша то на Покровский бугор, то в городской сад или на совхозные поля с альбомом и карандашами, чтобы сделать наброски.
Однажды, когда он уже спал, Алена Дмитриевна, покончившая со стиркой, присела к маленькому столику, заваленному учебниками, и раскрыла один из его альбомов. Первый же карандашный рисунок заставил ее заинтересоваться. Возле водоразборочной колонки стояли несколько женщин, и она точас же узнала высокую Аграфену, ее соседку Дуняшку, даже ее дворового пса, прозванного за свою черноту Вороном. Перевернула страницу, там комбайн на косовице и знакомый им дядя Федор на рулевом мостике. Еще страница – Волга и пароход, плывущий под высоким правым берегом.
– Как похоже все, – обрадованно сказала она и посмотрела на курчавую голову спящего сына.
С одной стороны, она радовалась, что это увлечение оберегает Алешу от опасных уличных забав, а с другой – рисование казалось ей делом совсем-совсем зряшным. Иной раз она и вздыхала:
– Эх, Леша, Леша! Пятнадцатый годок тебе пожаловал. Пора бы уж и дело какое присматривать.
Сын на нее не обижался. Он только улыбался застенчиво:
– Подожди, мама. Москва и та не сразу строилась. Придет время – выберу дело себе по душе.
Однажды – было это дождливой осенью – вызвали ее в школу.
Ждать долго не заставили, сразу провели к директору. Не успела она присесть на обитый коричневый дерматином стул, вошел в кабинет еще один человек, немолодой, с буйной, успевшей поседеть шевелюрой, в пестром костюме и рубашке с вольно расстегнутым воротом. Пристально оглядел ее живыми глазами.
– Познакомьтесь, Алена Дмитриевна, – вежливо сказал директор, – это Павел Платоныч, наш учитель рисования.
Учитель присел рядом и легонько притронулся к ее локтю.
– Давно хотел с вами поговорить, Алена Дмитриевна. У вашего сына Алеши большие способности к рисованию. Если он будет их упорно совершенствовать – далеко пойдет. Он уже сейчас маслом пишет. Такой этюд недавно закончил!
Она положила заскорузлые, с набрякшими от труда венами ладони на колени и в растерянности сказала:
– А я-то думала, пустяки, игрушки. Я ему так об этом и говорила.
– Вот и напрасно, Алена Дмитриевна, – покачал головой ее собеседник и длинными точеными пальцами стал застегивать ворот своей рубахи, – совершенно напрасно.
– Так а что же я должна сделать? – растерялась она окончательно. – Вы уж извините меня, пожалуйста. Все-таки я не очень-то грамотная, не во всем научилась разбираться.
– Прежде всего вам надо серьезно отнестись к начинаниям сына, – убежденно сказал учитель. – Смотреть на его рисование как на серьезное дело. Мы организуем в школе небольшую студию. Алеша будет один из ее, так сказать, зачинателей.
Недели через две Алеша радостно прибежал из школы и развернул перед матерью золотыми буквами написанную грамоту.
– Мама, смотри. Это мне за рисунки. Первую премию дали. И еще фотоаппарат «Зоркий» в награду. Его на днях привезут.
Она читала двоившиеся буквы, и складывались они в короткий текст, извещающий, что решением жюри облоно первая премия на конкурсе «Юный художник» присуждена ученику седьмого класса Верхневолжской средней школы № 5 Алексею Горелову за картину «Обелиск над крутояром».
– Дай-ка очки, я еще раз прочитаю, Алешенька, – сказала мать, чтобы незаметно от сына прикрыть очками мокрые глаза.
На следующее утро у черной водоразборной колонки острая на язык бабка Додониха уже шумела, обращаясь к своей товарке:
– Слышь, Аграфена, а это правда, что гореловскому Алешке в области диплом за картину дали?
– И не в области, а в самой Москве, – гордо подтвердила верная их соседка, – и не только диплом, но и премию. Золотые часы с именной надписью.
Вечером мать спросила:
– Сынок, а что на ней нарисовано, на этой твоей картине? Ты бы хоть мне ее показал, что ли.
– Непременно, мама, – обрадовался Алеша. – Но ее только через неделю с выставки возвратят. И мне там кое-что поправить хочется.
– Зачем же поправлять, сынок, если картину твою премировали?
– Чтобы тебе показывать, мама, – смеялся сын, – ты для меня выше любого жюри. Я хочу, чтобы картина еще лучше стала. Тогда покажу.
Алексей сдержал слово. Дней через десять он принес большой, размером в оконную раму, плотный сверток, туго перетянутый шпагатом. Алена Дмитриевна, стиравшая в корыте белье, отняла руки, покрытые мыльной пеной.
– Это что, сынок?
– Картина, мама.
– Та самая?
– Ну конечно.
– И можно уже смотреть?
– Нет, подожди. Тут надо кое-что приготовить. Я для тебя все как на настоящей выставке хочу сделать.
Он прошел в свою крохотную комнату, разрезал веревки и с шуршанием отбросил в сторону оберточную бумагу. Насвистывая, он двигался по комнате, ставил картину то в одном, то в другом месте, стараясь определить, откуда на нее будет падать больше света, чтобы краски от этого не холсте как можно ярче заиграли. Наконец понял, что дневного света явно не хватает, потому что, блеклое и вялое, оно уже падало за Волгу. Тогда он затворил ставни и включил электричество. Картина ожила. Он обрадовался и мгновенно сменил сорокасвечовую лампочку на стовсечовую. Старательно завесил картину белым полотном и весело позвал:
– Мама. Готово.
Алена Дмитриевна вынула руки из мыльной пены, старательно их ополоснула и вытерла мохнатым полотенцем.
– Где же твоя картина, Алешенька, показывай, – сказала она, входя в его комнату. – Да тут же только белое рядно.
– Это так надо, мама. А теперь стань чуть подальше, к дверному косяку, и смотри, – командовал приободренный Алексей. – Раз, два, три. – Он сдернул белое полотно и торжественно прошептал: – Вот это и есть мой «Обелиск над крутояром».
Мать пораженно вздрогнула, та так и застыла.
На холсте алел закат. Яркое солнце догорало под розовыми перистыми облаками, наполовину утонув в водах широкой реки. Неспокойной была эта река. Сизые чайки над ее серединой низко припадали к белым гребешкам волн. Крутым яром обрывался правый берег над водой. Желтыми языками выступали глиняные оползни на неприветливом и почти голом обрыве. Лишь кое-где виднелись низкорослые жесткие кусты орешника, которым, по всему видать, очень неуютно было тут гнездиться. На берегу ветер безжалостно мотал ветлы одинокой ивы. Кривое дерево опустило их до самой земли. Под этой ивой, в безлюдной унылой степи, сиротливо стоял солдатский обелиск, увенчанный меаленькой пятиконечной звездочкой.
Столько таких обелисков было на нашей земле! Но этот, при виде которого так дрогнуло сердце, был единственным для Алены Дмитриевны. У этого обелиска, спиной к зрителю, стояли две скорбные молчаливые фигуры: высокая женщина в темном платье, повязанная по-крестьянски скромным, таким же темным, как платье, платком, и мальчонка в полосатой рубашке и стоптанных дешевых полуботинках, подпоясанный черным ремешком, курчавый, с немного оттопыренными ушами. В этих фигурах было так много горя, что Алена Дмитриевна вздохнула:
– Алешенька! Так это ты отцову могилу нарисовал? Ой как похоже, аж плакать хочется.
Но она не заплакала. Она только притянула к себе голову сына и, глядя на него темными глазами, стала гладить мягкие кудри. Вдруг она увидела его словно впервые, и чем-то новым поразил ее сын. Она заметила, что стал он и выше ростом, и раздался в плечах, а над прямой, тонкой, как у отца, полосой упрямого рта уже пробивался не детский мягкий пушок, хотя и реденькие, но настоящие мужские усики. Да и голос будто сломался. Стал резче и громче.
Как завороженная, вглядывалась мать в каждую черточку бесценного лица.
– Ой, Алешка! Да ты у меня совсем большой. Вот-вот тебе уже и бритва понадобится. – Она поцеловала его в губы, а потом в щеки, как прежде, и грустно прибавила: – Большой-то большой, а справить тебе одежонку как следует не в силах. Вон и пиджачишко подызносился, и ботинки на ладан дышат.







