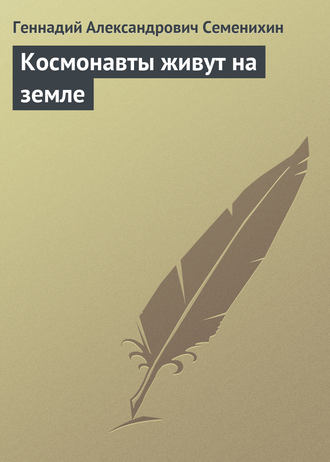
Геннадий Александрович Семенихин
Космонавты живут на земле
– Космонавт Горелов к испытанию готов.
– На-чи-на-ем, – чуточку нараспев предупредила Зара Мамедовна. – Раз, два, три… включаем.
Он почувствовал небольшой толчок, и сразу же пришло то чудесное ощущение, какое он испытывал всякий раз в полете. Машина устремляется ввысь, распарывая невесомый воздух, а твое тело пружинисто прижимает к жесткому пилотскому сиденью. Немножко сдавлено дыхание, но хочется петь от радости. Однако в полете такое ощущение быстро проходит. Здесь же оно осталось постоянным и только усилилось, как показалось Алеше, немного.
– Включаем пять Ж, восемь, десять… – услышал он.
На экране возникло число «223». Такое же число зажглось над одной из кнопок. Оно несколько подрагивало, но не расплывалось. Горелов не почувствовал, но пришло новое – ему стало гораздо труднее дышать. Он попытался поднять правую руку, она была неимоверно тяжелой. «Ерунда, осилю!» – крикнул он себе требовательно, потому что контрольная цифра на экране продолжала гореть. Он сделал новое усилие, вложив в него злость и упрямство. Рука повиновалась, и Алеша загасил кнопку.
– Молодец! – донесся восхищенный голос Зары Мамедовны. – Это при одиннадцати-то Ж. Как чувствуете себя?
Он хотел ответить, но не смог разжать рта и тогда вспомнил о шнуре с кнопкой. Три раза ее надавил, что означало: отлично. Вероятно, центрифуга вращалась еще быстрее. Ему стало казаться, что на все его тело – грудь, плечи, бедра – положили тяжелую холодную плиту и он не в силах ее снять. Он должен покориться, терпеть. Перенести во что бы то ни стало. Спину и грудь ломило, болели плечи, зеленые искорки полыхали в глазах. Сипло дыша, он думал: «Это я в настоящем космическом корабле. Это я прохожу через плотные слои. Впереди черный космос и орбита. Надо терпеть, Алешка!»
– Двенадцать Ж! – выкрикнула Зара Мамедовна.
Человек переносит до двадцати. Значит, в резерве у жизни еще восемь перегрузок…
– Тринадцать Ж! – сказали в это время над пультом, и стрелка послушно остановилась против этой цифры.
Но Горелову стало отчего-то чуточку легче, будто попробовал кто-то столкнуть с него невыносимую плиту и она на мгновение поколебалась, чтобы затем еще прочнее его оседлать. Он сидел сгорбившись, глазами припав к экрану, не в силах поднять чугунной головы. Нет, в авиации такого он не испытывал. Когда же эта голубая, безмятежная с виду машина прекратит свое бешеное вращение? Как она не понимает, что для него, усталого беспредельно, сейчас каждая секунда кажется часом? И машина наконец поняла. Голосом Зары Мамедовны, очень радостным почему-то, она воскликнула:
– Десять Ж… восемь… пять.
На экране появилась цифра «123», яркая, четкая, совсем не подрагивающая. Куда-то упала невидимая холодная плита. Он свободно ворочал теперь руками и ногами, даже петь захотелось. Он только не сразу понял, что центрифуга замерла. Он это установил, когда над ним распахнулась крышка кабины и Федор Федорович стал отстегивать цепкими жилистыми руками ремни, привязывавшие его к сиденью. Широко улыбаясь, инженер-майор потрепал Горелова по плечу.
– Жарко было?
– Жарко.
– Голова не гудит?
– Еще не разберусь. Кажется, гудит.
– А то был у нас тут один корреспондент и написал, что после центрифуги космонавты из этого зала бодро-весело уходят с песней на устах.
– Не Рогов ли, наш друг?
– Он самый.
– И как же вы на это отреагировали?
– Весьма просто. Посадили его в это кресло и дали пять Ж. Больше он так не писал.
Алеша пружинисто выбросил свое тело из кабины. Зара Мамедовна встретила его в пультовой восторженно.
– Голубчик вы мой! У вас изумительной крепости организм. Я была с вами крайне суровой, довела перегрузку чуть ли не до четырнадцати, а вы таким молодцом из кабины вышли.
Алексей рассмеялся:
– Если в свое время Россия выдержала поход четырнадцати держав, почему же мне не выдержать ваши четырнадцать Ж.
– Молодчина! Посмотрите, какая ровная кардиограмма. Не сердце, а перпетуум-мобиле.
Он удовлетворенно кивнул головой, внутренне ликуя от всех этих комплиментов, и не сразу встретился с глазами находившегося в пультовой Кострова. Тот уже успел сменить тренировочный свитер на обычный военный костюм.
– Поздравляю, – негромко произнес Костров. – А вот у меня, кажется, не все нормально.
В светлой пультовой повисла неловкая тишина. Костров держал в руке обрывок белой ленты с записями, оставленными на ней осциллографом. У него было какое-то серое, покрытое мелкими-мелкими бисеринками пота лицо, невероятно бледные губы и очень растерянные глаза. – Вот… взял на память, – вымученно улыбнулся он и протянул огрызок ленты. – Посмотри, как линия жизни пляшет… экстрасистола, так называется.
– Не понимаю, – недоуменно протянул Горелов.
– И дай тебе бог никогда не понимать.
За своим рабочим столиком Зара Мамедовна, лаборантка и дежурный врач сосредоточенно рассматривали ленту и след, оставленный на нее зубцами осциллографа, напоминающий линию горного хребта, с провалами ущелий и остриями вершин.
– Экстрасистола – это нарушение ритма в работе сердца, – рассеянно вымолвила Зара Мамедовна, – чертовски досадно, Владимир, но я обязана докладывать об этом своему начальству. Обязана! – И подняла на Кострова добрые, все понимающие глаза.
* * *
Дурная весть – что перекати-поле. Подхваченный ветром, сохлый сорняк витает над пахотной землей и сеет, сеет во все стороны ненужные семена, которым не радуются ни поле, ни люди.
Не успел Володя Костров вернуться в городок, а весть о том, что он не выдержал зачетной тренировки на центрифуге, уже облетела очень и очень многих. Узнали об этом и те, кому, как говорится, не было положено по штату. Стоустый шепоток бежал от человека к человеку. Даже капитан Кольский, комендант гарнизона, и тот вздохнул, повстречавшись с Костровым у входа в штаб.
– Ничего, ничего, Владимир Павлович! Не унывайте…
Генерала Мочалова на месте не оказалось, и Костров влетел в кабинет начальника медслужбы полковника Лапотникова. Подслеповато щурясь, тот развел руками. Он не был никогда перестраховщиком, но авторитету больших людей всегда доверял и часто самые категорические их заключения старался преподносить в смягченной форме.
– Ну так что же, – сложил он руки на груди, – сдали, батенька мой? Вопрос становится весьма остро.
– Как именно? – нервно спросил Костров.
Лапотников притянул к себе поодаль лежавшие очки и стал их вертеть, держа за конец тонкой оправы. Когда очки сделали третий оборот, он снова положил их на место.
– Вы не подумайте, что я хочу подсластить пилюлю. Зара Мамедовна пыталась вас защищать, высказывалась в пользу дополнительных тренировок, но генерал медицинской службы Заботин непоколебим. Он считает, что человеческий организм, не выдерживающий нагрузок, нетренируем. Разумеется, он будет настаивать на вашем отчислении.
Костров вздрогнул и весь подался вперед. Казалось, обычная выдержка вот-вот его покинет. Потемнели глаза, и складки зыбью побежали от уголков рта.
– Меня отчислить… после стольких лет тренировки?
Лапотников подавленно вздохнул:
– Все это верно, и я ваше состояние понимаю. Но экстрасистолы – паршивая вещь, и при наличии их вряд ли разрешит медицина сажать человека в космический корабль, зная, что при проходе сквозь плотные слои человек этот должен переносить большие перегрузки. Где гарантия, что он останется, мягко выражаясь, невредимым?
– Значит, и вы с ними заодно? – вспыльчиво спросил Володя.
Полковник Лапотников нравоучительно поднял указательный палец.
– Генерал Заботин – ученый с мировым именем.
– В основном исследовавший Стрелок и Белок! – взорвался Костров. – А я че-ло-век! Понимаете, че-ло-век!
– Вы еще и летчик-космонавт, майор Костров, – услышал он за спиной рассерженный бас и резко обернулся.
В дверях стоял генерал Мочалов. Костров моментально подобрался, вытянул руки по швам.
– Как вам не стыдно! – сказал Мочалов. – Садитесь. – И сам сел напротив. – С такой нервной системой, как у вас, майор Костров, вероятно, будет нелегко переносить перегрузки, одиночество и невесомость в настоящем космическом полете. Жизнь вам задала всего один суровый урок, а вы уже готовы пасть духом.
– Неправда! – вспыльчиво перебил Костров. – Я готов драться.
– Драться? – переспросил генерал, и глаза его потеплели. – Вот это по-моему. – Он дружелюбно хлопнул майора по коленке, искоса посмотрел на полковника Лапотникова. – Драться и мне неоднократно приходилось. Только давайте разберемся, против чего надо драться. Как-то на фронте мой «ил» подбили над целью. Пришлось садиться во вражеском тылу. Когда я увидел, что ко мне спешат фашистские мотоциклисты, я твердо знал, за что буду драться, и был готов вести бой до последнего патрона. После войны, уже в мирное время, пришлось мне однажды садиться без горючего в горах, голодать, ждать помощи. Там я тоже знал, за что дерусь, и не спасовал. Но был в моей жизни и другой случай. На учениях. Мы уже на реактивных истребителях летали, и наш начальник штаба, замещавший в ту пору командующего, приказал в воздушном бою против соседнего полка применить массированные атаки. Я вышел из его кабинета, сказал: «Слушаюсь», а сам думаю: «До чего же это дремучая чепуха! Разве можно такой тактикой пользоваться в нашей молодой реактивной авиации, разве она применима? Скорости огромны, групповой маневр чрезвычайно осложнен…» А начальнику штаба ой как хотелось блеснуть перед генерал-инспектором!
– И вы его не послушались? – вопросительно поглядел на него Костров.
– Не послушался, Володя, – весело закончил Мочалов, – мелкими группами ударил. По-своему.
– А потом?
Мочалов рассмеялся и встал.
– Дело прошлое. Начальник штаба приказ о моем освобождении от обязанностей командира полка заготовил. А генерал-инспектор за самостоятельное решение благодарность объявил.
– Значит, вы меня учите непослушанию, товарищ генерал? – невесело пошутил космонавт.
– Твердости, товарищ майор, – сурово поправил Мочалов, – и считаю, что каждый советский офицер, если он верит в справедливость своего замысла, должен доказывать свою правоту всеми средствами. Не нарушая наших уставов, разумеется, при этом. Вы вот тут в полемическом запале, так сказать, не совсем лестно о генерале Заботине отозвались, Костров. А так ли это? Заботин действительно крупный ученый, и сводить его роль к исследованиям Стрелок и Белок, как вы тут выразились, это оскорбительно. Я знаю, например, что Орест Михайлович заканчивает интересный труд «Человек и невесомость». Но что поделаешь, космическая наука еще очень молода. Творцы ее производят много смелых экспериментов… И поверьте, они вам не враги. Даже перестраховка, если она есть, только заботой о вашем здоровье вызвана и стремлением, чтобы все наши космические полеты без ненужных жертв совершались. Ну а вы должны за себя побороться. Словом, считайте, что я на вашей стороне, – закончил генерал Мочалов.
* * *
Костров покидал штаб несколько ободренным. У входа его нагнал Олег Локтев, обнял за плечи.
– Дружище, мало ли с кем не бывает… Мы бороться за тебя будем. Сейчас иди к Горелову. Там «большой сбор» трубят. Сережа Ножиков инициатор.
Ясный апрельский день властвовал над землей. Зрело на голубом небе щедрое солнце, и нагретый им воздух дрожал и струился совсем как летом. Первые ласточки жадно тянулись к солнцу. Чисто выметенные дорожки городка сияли, словно умытые. На здании клуба красили крышу в ярко-зеленый, такой же, как и первая травка, цвет. Горелов, посланный товарищами встретить Кострова, увидел, что Володя у самого подъезда тихо и мирно беседует с плечистым, небольшого роста майором. Этого офицера Горелов уже видел однажды в спортзале, когда команда космонавтов сражалась в баскетбол с командой штаба.
Несмотря на то что за штаб выступал приехавший к ним в отряд Гагарин, отменный баскетболист, они долго вели игру с разрывом в четыре очка. А перед самым перерывом появился этот майор. У него были удивительно цепкие голубые глаза, умевшие как-то быстро схватывать все окружающее. Чуть выпуклые, с маленькими прожилками, они не скользили по сторонам, как это бывает у многих любопытствующих людей, а смотрели как бы в одном направлении и видели все. Офицер этот пришел тогда в меховой шапке. Из-под нее проглядывали пышные белые волосы. Но когда майор шапку снял, оказалось – он почти совсем лыс. Майор встал на сторону штабной команды вместо выбывшего из игры начальника физподготовки Баринова и за десять минут несколькими бросками выровнял счет. Космонавты в тот день проиграли. Сейчас он, улыбаясь, ободрял приунывшего Володю:
– Что ты, Костров! Я не медик, но тоже понимаю: раз по всем видам ты перегрузки сносишь нормально, а на центрифуге споткнулся, значит, к тебе особый ключик надо искать. И найдут его! – воскликнул он убежденно.
– Володя, это кто? – тихо спросил Горелов, когда майор ушел.
Костров долгим взглядом проводил собеседника.
– Иван Михайлович Дробышев. Мужик что надо.
– Врач?
– Нет, Алеша. Из госбезопасности.
– А-а! – понимающе протянул Горелов. – Меня за тобой ребята прислали. На квартире «большой сбор». Идем.
Они вошли в приоткрытую дверь тринадцатой квартиры. За исключением Жени Светловой, которая была на тренировке в сурдокамере, здесь находились все космонавты. На диване с пылающим лицом сидела только что высказавшаяся Марина Бережкова, размахивал руками Андрей Субботин, что-то объясняя Виталию Карпову. Игорь Дремов внимательно слушал. Все сделали вид, что не заметили появившегося Кострова. Заговорил Ножиков:
=Марина совершенно права. Разве тут удержишься от волнения? И мы не позволим, чтобы судьба человека решалась в одночасье на основании одной, может совершенно случайной, неудачи. Сейчас же я заправляю свою «антилопу-гну» и поеду к генералу Заботину. Буду с ним говорить от вашего имени и от имени всего партбюро. Добьюсь, чтобы Володю отправили на самое объективное медицинское обследование и чтобы попал он в руки самого лучшего терапевта. Согласны?
– Уполномачиваем! – загудели космонавты.
* * *
«Антилопой-гну» Сергей Ножиков именовал свой собственный, недавно приобретенный на двухгодичные отчисления из офицерского оклада автомобиль «Москвич». Ножиков, спокойный с виду и очень рассудительный человек, просто преображался, когда садился за руль. Нет, никто бы не сказал, что это именно он, майор Сергей Ножиков, секретарь партийной организации отряда космонавтов, так лихо гонит машину. При этом Сергей никогда не нарушал режима скорости или правил движения. Просто он так умел этой скоростью пользоваться и так смело обходил впереди идущие автомобили, управляемые нерасторопными водителями, что могло показаться – едет самый что ни на есть забубенный лихач.
Сегодня он особенно торопился, потому что знал – генерал Заботин принимает только с трех до пяти, а ровно в пять у него начинается методическое совещание и тогда – прощай: генеральский кабинет превратится в неприступную крепость.
Все-таки он успел. Вошел в приемную, когда на часах было без десяти пять.
– У генерала кто-нибудь есть?
Секретарша отрицательно покачала головой, и Ножиков, поняв это как разрешение, отворил дверь. Отодвинув от стола старомодное кресло с резными подлокотниками, генерал стоя читал какую-то рукопись. Был он в штатском. Черная без единой сединки шевелюра, остроносое лицо. При появлении Ножикова не оторвал взгляд от рукописи.
– Слушаю вас, товарищ.
– Я по поводу космонавта майора Кострова, – начал Сергей, – его отстранили от дальнейших тренировок.
Глаза Заботина уперлись в Ножикова.
– Вот как! – удивленно, чуть в нос пробаритонил генерал. – Вы что же, командир отряда космонавтов?
– Никак нет.
– Его заместитель?
– Тоже нет.
– Тогда, быть может, начальник штаба? – продолжал Заботин, подавляя раздражение, вызванное неожиданным вторжением в его кабинет этого широкоплечего майора.
– Нет.
– Тогда вы, быть может, скажете, по чьему поручению задаете мне такой вопрос? – вкрадчиво произнес Заботин и, опираясь на прочные подлокотники, медленно осел в кресле.
– Скажу, – отрубил Ножиков. – По поручению нашей партийной организации.
– Позвольте, – перебил Заботин сурово, – ответственность за судьбу Кострова лежит все-таки на мне, и, если ваша партийная организация снабдит его новым сердцем, без явлений экстрасистолы, я охотно оставлю неподписанным документ об отчислении его из группы летчиков-космонавтов.
В темных глазах Ножикова вспыхнула буря.
– Послушайте, товарищ генерал, – почти выкрикнул Ножиков, – майору Владимиру Кострову не надо нового сердца. У него есть свое – хорошее и надежное сердце… Если вы даже в нем и обнаружили эту самую экстрасистолу.
Генерал Заботин с интересом посмотрел на майора. Он любил людей настойчивых и строптивых. С такими он ожесточенно спорил, если, по его мнению, они защищали или высказывали неверную точку зрения. Но стоило только Заботину убедиться, что правы они, а не он, и он мужественно в этом признавался.
– Чего же вы добиваетесь? – спросил Заботин тихо.
– Чуткого отношения к Кострову.
– Нельзя ли поконкретнее?
– Чтобы майор Костров был немедленно отправлен на самое глубокое медицинское исследование, под наблюдение лучших терапевтов.
– И вы уверены, что это все нам объяснит?
– Уверен, товарищ генерал.
– Ладно, будь по-вашему, – согласился вдруг Заботин и усмехнулся: – Однако и крутоватый же вы мужичок.
– Какой уж есть, – насупившись, проговорил Ножиков.
* * *
Жене Светловой ужасно не повезло. Даже Первое мая она провела в сурдокамере. Где-то в это время звенели голоса друзей и подруг. Они, возможно, веселились за праздничным столом, а может, их всех увезли в Звездный городок. Туда на праздники всегда приезжали знаменитые артисты и поэты. В Звездный городок наверняка приехал и Леня Рогов, которому замполит Нелидов, наверное, послал пригласительный билет.
Рогова Женя не видела уже около месяца. Они провели с ним одно из воскресений в Третьяковке, пообедали в молодежном кафе «Романтика». И в тот же день по редакционной командировке Рогов уехал в Сибирь. Теперь он в Москве и, вероятно, уже навестил их городок. Может, заходил в сурдокамеру и видел ее на экране телевизора. «Видел или нет? – спросила себя Женя и тут же обрезала: – А тебе этого хотелось, а?» Усмехнулась, потому что не нашла на этот вопрос ответа.
С тех пор как Женя Светлова безошибочно почувствовала свою власть над добродушным, медлительным Леней Роговым, она потеряла покой. Странные превращения происходили с ней. «Ты ему нравишься. Возможно, он тебя любит, – рассуждала Женя. – А ты его?» И оставляла этот вопрос безответным, вела бесконечные поединки сама с собой. «Тебе уже двадцать второй год, – говорил ей серьезный укоряющий голос, – и ты уже не та сумасбродная девчонка, что бросалась в Иртыш с высоченного моста. Пора бы и разобраться посерьезнее в своих чувствах». – «Ну и что же? – возражала этому рассудительному голосу другой, очень веселый. – Леня очень и очень неплохой человек». – «Но значит ли это, что он тот единственный, кого ты можешь полюбить?» И веселый озорной голос торжествовал: «А для чего тебе так срочно отвечать на этот вопрос? Ты что, замуж собралась?»
Леня… То он казался ей хорошим парнем, то она видела в нем человека, потрепанного жизнью, утратившего самое, по ее мнению, главное – веру в большое чувство. «А если он и обо мне начнет думать, как о той женщине с фарфоровыми глазами?! Чушь! Ерунда! – тут же обрывала она себя. – Он так не может».
Когда однажды Марина Бережкова спросила: «Слушай, Женька, неужели ты влюбилась в этого толстячка?» – она вся вспыхнула и оскорбленно перебила: «Как тебе не стыдно это говорить!» Может быть, так и было на самом деле. Леня ей нравился, но она опасалась принять за любовь обыкновенную дружескую привязанность. А сейчас она хотела его видеть. Очень хотела. Но может, это от тоски по людям, навеваемой камерой молчания, да и только?..
Прошумели майские праздники, а потом настало шестое число. В сурдокамере Женя проводила время по так называемому перевернутому графику: день за ночь. Василий Николаевич Рябцев, напутствуя ее, объяснил, что один из ныне известных всему миру космонавт подобным образом готовился к полету. По ее счету, был поздний вечер, и Женя деловито расчесывала перед зеркалом волосы, готовясь к «отбою», когда внешний мир заговорил с ней торжественным голосом Рябцева:
– Евгения Яковлевна, ваш опыт подходит к концу. Через час мы вас будем поздравлять с успешным завершением задания.
– Вот как! – воскликнула обрадованная Женя. – А я спать хотела укладываться.
– О каком сне может идти речь! Утро в полном разгаре. Вы разве забыли об условии своего пребывания в тишине?
– Нет, Василий Николаевич, – засмеялась Светлова, – не забыла. Значит, с перевернутым графиком покончено?
– Покончено, покончено, – подтвердил Рябцев, – а теперь ждите дальнейших указаний.
Женя не знала, что происходило в эти минуты за массивными звуконепроницаемыми дверями. Леня Рогов еще с утра появился в городке космонавтов. Разбудив заспанную лаборантку Сонечку, он уместился на стуле напротив телевизора и неотрывно следил за Женей, задумчиво двигавшейся по тесному пространству камеры. Он нашел ее мало изменившейся. Простенькая прическа делала ее похожей на десятиклассницу. Появился Василий Николаевич Рябцев, старательно, как всегда, выбритый, подмигнул недвусмысленно белокурой Соне.
– Пресса, оказывается, уже здесь.
– Вчера прилетел из Сибири, и вот, как видите… – сообщил Рогов.
– Вижу, вижу, – засмеялся Рябцев, – чуть свет, и я у ваших ног…
– Послушайте, Василий Николаевич, – пропуская шутку мимо ушей, продолжал корреспондент, – это правда, что Женя сегодня выходит?
– Абсолютная. Ровно через час я освобожу ее из заточения. Причем, без всяких амнистий. Свой срок она отбыла не только полностью, но даже и оценку отличную заслужила.
Рогов ничего не ответил, только вдруг резко повернулся и вышел из лаборатории.
…Когда, освободившись от электродов, пройдя последнее медицинское обследование, Женя вышла из сурдокамеры, майское голубое небо и пышная разросшаяся на густых деревьях зелень заполнили ей глаза. Остановившись у подоконника, она жадно вдыхала родниково-чистый воздух. Бродили в ней острые запахи клейкой ели, смолистых сосенок и осин. Были эти запахи настолько сильными и дурманящими, что ей стало трудно дышать. Женя увидела стены и крыши родного городка, разбегавшиеся во все стороны от учебного корпуса аллейки, редких пешеходов на них. Потом недоуменно стала оглядываться.
– Мы, кажется, погрустнели? – лукаво заметил Василий Николаевич. – Это по какой же причине? Или вас не радует вновь обретенная свобода? Или еще что? Ах, знаю. Вы решили, что некий рыцарь печального образа, именуемый Леонидом Дмитриевичем Роговым, не пришел вас встретить. Успокойтесь и подойдите к другому окошку.
Светлана, не ответив, подошла к другому окну и, перегнувшись через свежевыкрашенный подоконник, увидела на порожках главного входа журналиста. В руках он держал букет цветов, такой пышный и яркий, что все проходившие мимо не могли удержаться от улыбок.
– Леонид Дмитриевич! – закричала звонкоголосая Женя. – Я сейчас. – И стуча каблучками, выбежала из лаборатории.
Педантичный Рябцев только головой покачал вслед.
А Женины каблучки уже отбивали дробь на последних ступеньках лестницы. Кивнув часовому, девушка вихрем вылетела из здания. Ветер колыхнул светлые волосы. Она увидела Рогова, неловко прижимавшего букет к серому, старательно выутюженному костюму.
– Леонид Дмитриевич! Леня! Ну, здравствуйте!
Светлова была вся наполнена радостью оттого, что наконец-то вновь увидела голубое небо и что тугой весенний воздух плещется ей в лицо, что снова она шагает по асфальтовым дорожкам городка. Рогов по-своему истолковал ее порыв. И когда она, захлебываясь от восторга, воскликнула: «Вот мы и встретились!» – он не совсем уверенно решил: «Значит, соскучилась». Глаза его засветились.
– А я вчера вечером из Сибири прилетел… чтобы к вашему выходу из сурдокамеры поспеть. Ну а вы-то, вы… вспомнили обо мне хоть раз в своем заточении?
Обогнув здание корпуса, они пошли вдаль от центральной части городка. Аллейка упиралась в зеленый забор. Сели на дальней скамейке. Глаза Жени, щурясь от острого солнца, жадно ощупывали далекую кромку горизонта. Там небо сливалось с зубчаткой леса, и от этого линия горизонта казалась зеленой. Если бы Светлову сейчас спросили, счастлива ли она, как бы она громко воскликнула: да! Над скамейкой, словно две свечи, возвышались тоненькие березы. Под тугим ветерком звонко шепталась на хрупких ветвях листва. Женя вскочила, вскинула вверх руки, продекламировала:
Я пришла к тебе с рассветом
Рассказать, что солнце встало…
Рогов восторженно вздохнул:
– А знаете, Женя? Представьте себе такую картину. В недалеком будущем вы достигнете какой-нибудь планеты, станете на ее поверхность и обратитесь к вечному светилу вот так же.
– Что вы говорите! – лукаво воскликнула девушка. – Думаете, так может быть? Вы понимаете, Леонид Дмитриевич! Я сейчас, после душной сурдокамеры, готова обнять весь мир…
– Женя, – проговорил Рогов с тихой улыбкой, – вы будете когда-нибудь обращаться ко мне на «ты»?
Светлова удивленно расширила глаза.
– Обязательно, Леня! Честное пионерское – буду. А почему вы сегодня такой торжественный? Совсем как министр иностранных дел, прибывший на очередную сессию ООН.
Рогов вздохнул. На его небрежно выбритой щеке вздрогнула родинка.
– Женя, – проговорил он тихо, – Женя… я сегодня ехал, чтобы сказать вам… Я очень серьезно…
Она все поняла, возвратилась к скамейке и положила на ее спинку тонкую руку. От сбежавшей с лица улыбки лицо ее как-то сразу осунулось и посерело.
– Ой, Леня, – испуганно произнесла она, – я вас очень, очень прошу. Не надо сейчас никаких серьезных разговоров. Вы же очень для меня дорогой человек и должны мою просьбу выполнить. Смотрите, вон Марина, Алеша Горелов и Субботин. Нас ищут. Идемте.
И, схватив помрачневшего Рогова за руку, Светлова потащила его по аллейке – совсем как расшалившаяся девочка тащит за собой на веревочке игрушечного бычка, вовсе не заботясь о том, катится ли он за ней на колесиках или уже давным-давно волочится на боку.
– Ребята, мы тут! – разнесся ее звонкий голос по городку.
* * *
Майор Ножиков усиленно надраивал тряпкой красный каркас «Москвича», когда к нему подошли Горелов и Дробышев. По всему было видно – оба только из столовой: Горелов держал в руке надкусанное яблоко, а Дробышев нес несколько пачек сигарет.
Голубые глаза Дробышева с тонкими густыми прожилками критически окинули машину.
– Вот что делает с людьми частная собственность! – засмеялся Дробышев. – С нашего партийного секретаря аж седьмой пот сходит.
Ножиков выпрямился, разминая замлевшую спину.
– Не частная, а личная собственность трудящегося, – поправил он.
Дробышев протянул руку:
– Здорово, Сережа.
– Здорово, Иван Михалыч.
Из распахнутых дверей гаража пахло бензином и промасленной ветошью – на цементном полу просыхали небольшие лужицы, в беспорядке стояли канистры.
Дробышев деловито потрогал ногой новенькие, тугие скаты.
– Вопрос к тебе имею, Сережа.
– Я знаю, что не приходишь без вопросов, Иван Михалыч.
– Спасибо, что деловым человеком считаешь.
Ножиков подошел к водопроводной колонке, стал мыть руки.
– Чем же на этот раз интересуешься?
– Володей Костровым.
– И с каких же позиций?
– С позиций воинского товарищества. Володя уже пятые сутки на исследовании. Утром мне сказали – одного-двух к нему могут на короткое время пропустить. Надо бы решить этот вопрос, товарищ партийный секретарь.
Ножиков застегнул воротник, надел галстук.
– А чего ж его решать, если все решено? Тебе, Иван Михалыч, надо было попрямее спросить, зачем я надраиваю свою «антилопу-гну». К нему сейчас поеду, к Володе. Вот и Горелова взял бы, но у него вестибулярные тренировки. Ты, может быть, составишь компанию?
– Я сегодня тоже не могу, – вздохнул Дробышев.
– Ну, вольному воля, – сдался Ножиков.
Через полчаса красный «Москвич», сияя всеми ручками, стеклами и дисками, подкатил к проходной, и часовой, которому Ножиков показал в окошко раскрытый пропуск, напутственно пожелал:
– Счастливого пути, товарищ майор.
Сразу за проходной веселой орущей стайкой машину обступила детвора. Ребятишки бегали по мягким лесным дорожкам копать для рыбалки червей и сейчас, возвращаясь в городок, были рады встрече с Ножиковым. Из всех космонавтов не было для них более дорогого и доступного, чем этот широколицый майор.
– Дядя Сережа, прокати! – закричали самые смелые.
– Дай погудеть, дядя Сережа!
– А сколько «Москвич» стоит?
– А сто километров он дает?
– Ишь вы, неугомонные, – заворчал на них Ножиков с напускной строгостью. – Кто домашние уроки сделал, садись в фюзеляж.
– Мы все сделали, – заверил белобрысый Митька, Андрея Субботина сын.
Насажав полную машину ребятни, Ножиков дал газ и промчался с километр по пустынному шоссе. Стрелка на приборе скорости, задрожав, слилась с цифрой «100», и кто-то из ребят восторженно выкрикнул:
– Вот дает! На первой космической прямо!
Погасив скорость, Ножиков развернулся, подвез ребят назад к проходной. Мальчишки высыпали из «Москвича», как горох, дружно прокричали:
– Спасибо, дядя Сережа!
У Ножикова не было своих ребят. Еще в сорок девятом, через год после того как он женился на Елене Пряхиной, школьной учительнице, в муках родила она сына-недоноска, но спасти его не удалось: мальчик умер на третьи сутки. А после этого жена не беременела. Жили Ножиковы дружно и тихо, были удивительно чутки друг к другу. В их небольшой квартире всегда царил идеальный порядок. При виде чужих ребятишек Сергей не однажды вздыхал. Оттого что не было детей, он посвящал свой досуг делам самым разнообразным: то за новым ружьем центрального боя начинал усиленно ухаживать, то рыболовными снастями занимался самозабвенно или прикипал к фотоаппаратам и кинокамерам. А теперь «Москвич» напрочь вытеснил прежние увлечения. Сергей содержал его в такой чистоте и опрятности, так ревностно за ним ухаживал, что сразу же навлек на себя остроты товарищей. Алеша Горелов, начавший вместе с Андреем Субботиным выпускать стенную газету «Нептун», в первом же номере наградил его карикатурой: обливающийся потом Ножиков орудует над «Москвичом» гаечным ключом. И подпись: «Ни сна, ни отдыха измученной душе».
Майор Ножиков, как и все летчики-истребители, не мог ездить на малых скоростях. Едва только красная машина проскочила затерянный в густых подмосковных лесах железнодорожный разъезд и, преодолев три километра плохой дороги, вырвалась на шоссе, он включил все восемьдесят. И только перед населенными пунктами сбавлял газ. Теплый майский ветер тугой струей гудел за стеклами, бился о чистый капот. Грохотало шоссе под твердыми шинами, и было приятно на душе. Сильные, в волосах руки Ножикова лежали на баранке. Фуражку и форменный китель он снял, садясь за руль. Сейчас они подпрыгивали рядом с ним на мягком сиденье. Ножиков быстро установил причину хорошего настроения. Она заключалась не только в том, что ему удалось поколебать генерала Заботина и теперь с Володей Костровым все должно было решиться хорошо. Радовала Сергея еще и бесценная весть. Вчера вечером спокойный и уравновешенный их замполит Нелидов затащил его к себе в кабинет и сказал, сияя прищуренными глазами:







