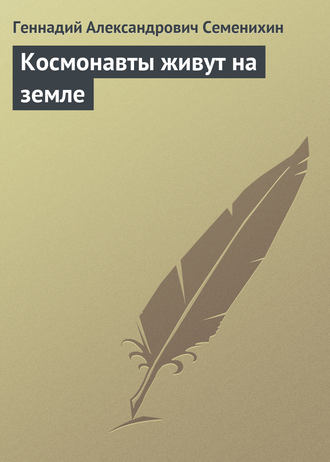
Геннадий Александрович Семенихин
Космонавты живут на земле
– Сергей Никанорович, когда же вы настоящую температуру дадите?
– Батенька вы мой, – засмеялся Зайцев, – да у меня наушники так накалились, что, того гляди, ожоги получу, а вам все мало. Вы уже двадцать восемь минут под термовоздействием, и на довольно суровом режиме.
– Не может быть! – удивился Горелов.
Ему вдруг вспомнился полет наперехват, отказ двигателя и та одуряющая, туманящая сознание жара, что хлынула тогда в кабину реактивного истребителя, едва не лишив его сознания. Разве ее можно сравнить с этой тренировкой? Только в последние минуты почувствовал Алексей некоторую тяжесть. Его одежда стала тяжелой от пота, но дышать было все же нетрудно, никаких для этого усилий не требовалось.
Внезапно шум в черной трубе смолк, дверь распахнулась, и Зайцев провозгласил:
– Опыт закончен, Алексей Павлович. Поздравляю с крещением и превосходными результатами!
В лаборатории Горелова взвесили – сначала в пропитанной потом одежде, затем без нее. Оказалось, он потерял семьсот граммов. Температура после тренировки была чуть повышенной. Оля захлопала в ладоши.
– Алексей Павлович, браво! С таким организмом хоть на Марс, хоть на Луну…
Обследованный врачами Алексей покинул лабораторию. Зайцев был настолько обрадован удачным опытом, что Женю Светлову встретил довольно рассеянно, чего с ним никогда не случалось. Сама Женя едва ли обратила на это внимание. Здесь она уже не считалась новичком. А короткое, всего в двадцать минут, пребывание в отсеке ей запланировали потому, что у нее был перерыв в тренировках. С помощью Оленьки она быстро приготовилась к опыту и вышла из-за ширмы в кирзовых сапогах, с ног до головы окутанная проводами датчиков. На ее голове был черный шлемофон. В левой руке девушка держала пучок проводов. Федя расстегнул рукав ее комбинезона и закатал его выше локтя, чтобы наложить жгут. Ему надо было замерить кровяное давление. Худенькая тонкая рука лежала послушно на столе. Женя сидела, чуть ссутулив хрупкие плечи. На остроносом лице пробивались веснушки. Шлемофон, этот суровый головной убор летчиков, никак не сочетался с нежностью ее лица.
Появился чуть припоздавший Рогов. Решив не смущать Женю своим присутствием, он сел на круглый табурет в самом дальнем углу. На какое-то мгновение их глаза встретились, и Рогов неуверенно кивнул. Тонкие губы девушки едва приметно дрогнули.
Зайцев ласково потрепал ее по плечу:
– Женечка, нам пора.
Она встала, придерживая левой рукой пучок проводов, в правой руке у нее была книга.
– Концерт Чайковского в камеру дать? – осведомился Зайцев.
Девушка отрицательно покачала головой:
– Ничего не надо. Читать буду.
Тяжелая дверь в камеру захлопнулась.
Спустя минут пять Рогов подошел к окошку. Увидел часть отсека и кресло с космонавткой. Женя сидела, откинувшись на спинку, на ее коленях лежала раскрытая книга. Вот лицо ее порозовело: давала себя знать температура. Женя полотенцем отерла пот. Вскоре ей снова пришлось взяться за полотенце… Леня Рогов стоял в стороне и думал: «Как бы узнать название книги? Это же здорово можно обыграть в очерке! Блестящая деталь. Девушка среди адской жары спокойно читает… ну кого… Пушкина, Тургенева, Блока, может, Маяковского».
Незаметно истекло время опыта, и Женя с книгой в руке проследовала из камеры мимо Рогова. Сопровождаемая Олей, она скрылась за ширмой, откуда вслед за тем донеслось легкое шуршание сбрасываемой одежды. Один раз лаборантка неосторожно приоткрыла край ширмы, и Леня увидел голую спину девушки. Ему стало неловко, он встал и вышел из лаборатории.
Когда Рогов возвратился, Светлова была уже одета.
– Последняя формальность, Женечка, – попросил Зайцев, – еще раз термометр под язычок.
Девушка согласно кивнула головой, придвинула к себе стул. Оля протянул ей тонкий градусник. Светлова взяла его в рот, и вдруг лицо ее страдальчески исказилось.
– Что такое? – всполошился Федя.
– Неужели градусник попал в раствор Ц? – воскликнула Оленька, которой часто мерещились ужасы.
– А ну-ка, дайте его мне, – решительно распорядился Зайцев и протянул руку.
Продолжая морщиться, Женя положила на его ладонь термометр. Зайцев сунул его тонким концом в рот и произнес:
– Ничего особенного… это же спирт. Чистейший медицинский спирт.
В лаборатории грянул дружный смех.
– Да ну вас, – отмахнулась космонавтка, – откуда же мне было знать! Чуть не задохнулась… я за всю свою жизнь ничего такого не пробовала, кроме шампанского.
Рогов вышел из комнаты. Прохладный коридор цокольного этажа был пуст. Шаги гулко впечатывались в тишину. В раздевалке он не торопясь снял пальто с вешалки. Ему уже некуда было спешить. Кое-что он обязательно запишет сегодня вечером в блокнот. Сцена в термокамере – это живой материал…
Рогов разматывал красный широкий шарф. Шорох за спиной не привлек его внимания. Мало ли кто мог одеваться рядом… Рогов обернулся и замер. В двух шагах от него надевала свое белое меховое пальто Женя. Они были одни в раздевалке, и пройти молча мимо нее Рогов посчитал неловким. Он решил дождаться, пока она выйдет из раздевалки. Но и Женя не торопилась. Подошла к зеркалу, поправила выбившиеся из-под теплого платка светлые волосы и внезапно улыбнулась.
– Между прочим, я читала сейчас вашу книгу «Тропы Алтая», – сказала она.
– Ну и как?.. – совершенно растерянный, никак этого не ожидавший, спросил Леня.
– Очень вы скучно написали о целинниках: ни людей, ни природы, ни сюжетов интересных…
У Рогова поплыли перед глазами зеленые круги. Собрав не без труда всю свою выдержку, он проговорил:
– Ну что же, спасибо за откровенность.
Светлова быстро прошла мимо опустившего руки журналиста, остановилась в дверях и мягко закончила:
– Только вы не обижайтесь, товарищ Рогов. Ваши очерки об Алтае действительно слабые… а вот репортажи с южного полюса и путевые заметки об Индии замечательно написаны. Ну, извините, я побежала на астрономию.
* * *
Запоздалый московский рассвет вползал в комнату сквозь давно не глаженные пыльные занавески. На часах было семь, и металлический корпус будильника сотрясался от звона. Рогов стремительно вскочил с мягкого широкого дивана, зажег ночник. Комната наполнилась бледным светом. В ней ощущалась сумятица, свойственная обычно жилищам, где женская рука не прикасается ежедневно к мебели и некому убрать лишние, не на месте оказавшиеся предметы. Тонким слоем лежала беспощадная пыль на телевизоре, коричневой крышке пианино, на подрамниках картин, слабо освещенных ночником, свет которого смешивался с серым и тусклым светом наступающего дня. В дальнем темном углу стояло белое чучело. Было оно когда-то живым пингвином Васькой, вывезенным с Южного полюса. Походил, походил смешной и важный посланец антарктических льдов по квартире, да не выдержал тоски по собратьям и унылой московской зимы с мокрыми снегопадами. Нашел его хозяин однажды лежащим на полу с распахнутыми крыльями. Но расстаться не захотел. Вот и стоит он теперь белым чучелом в углу.
Рогов не спеша оделся, напился чаю, потом убрал постель и как человек, у которого много неясностей, присел на мгновение на диван и задумался. Мысли его были о Жене Светловой. Вот уже несколько раз порывался он набросать ее литературный портрет. Однако все выходило как-то тускло.
И вдруг незаметно для самого себя Рогов впервые подумал о Жене Светловой не как о будущей космонавтке и героине его очерка, а просто как о понравившейся ему девушке. Вспомнил, как Женя играла в бильярд. Кажется, тогда от нее можно было ждать любой дерзкой выходки. Игорю Дремову, во всяком случае, досталось. И тут же представил ее в термокамере: тихую, всю какую-то собранную, терпеливо переносившую адскую жару. Память подсказала и другое: обнаженную спину Жени, мелькнувшую за занавеской ширмы в лаборатории. «Уж не влюбился ли я?» – подумал Леня. Он встал и прошелся по комнате. Искоса посмотрел на свое отражение в зеркале. Лысоватый лоб бугрился под редкими волосами, глаза были сосредоточенные и грустные. Он покачал головой: «Тебе ли ловить такую жар-птицу! Нет, у этой Джульетты будет другой Ромео».
* * *
Рогов взбежал по лестнице учебного корпуса на второй этаж. Дверь радиокласса была украшена табличкой: «Идут занятия», но он не обратил на нее внимания. Приоткрыл дверь и вошел. В совершенно пустом классе за первым столиком сидела Женя Светлова и выстукивала на быстроту заданный текст. Тонко и ритмично позвякивал ключ. Как ни старался Рогов двигаться тихо, но, садясь, в дальнем конце класса за столик, он скрипнул стулом. Женя быстро обернулась, хмуро кивнула ему и продолжала выстукивать. На Лене был сегодня строгий черный костюм. К лацкану пиджака привинчена его единственная награда – медаль «За отвагу». Вечером Рогову предстояла встреча с товарищами, с которыми он служил в полку: вот почему он был сегодня такой торжественный.
Светлова внезапно поперхнулась коротким смешком. Звуки морзянки стали четче. Ключ под ее рукой так и пел: «Ти-та, ти-та, та-ти-та». Леня внимательно вслушивался в передачу, карандашом быстро записал слова на бумагу. Вот Женя закончила передачу и обернулась всего на секунду. В серых глазах ее мелькнула усмешка. Лене не надо было разгадывать смысл этой усмешки. На столе перед ним лежал текст, который передала Женя: «Смешной и напыщенный корреспондент. Сидит с индюшиной важностью и ничего не понимает. Передачу вела Светлова».
Рогов, стараясь держаться серьезным, быстро перевел на своем столе ключ в рабочее положение, и, пока девушка готовилась к передаче нового текста, застучал – четко и уверенно. Точки и тире посыпались градом. Женя удивленно пожала плечами и стала принимать. Через три минуты мочки ее ушей уже пылали. Она расшифровала текст, принятый от Рогова.
«Дерзкая девчонка! Я делаю вам замечание за непростительную самоуверенность и словесный мусор в эфире. Передачу вел Рогов».
Женя отбросила карандаш и повернула к нему смеющееся лицо.
– Товарищ Рогов, вы меня убили наповал. Только не обижайтесь на меня…
– Да что вы! – улыбнулся Леня. – Я не сердитый. Но как видите, вынужден был наказать вас за непочтение к старшим.
– Да, – согласилась Женя. – Никогда бы не подумала, что вы так чисто работаете. Наш преподаватель безусловно поставил бы вам пятерку. Один – ноль в вашу пользу…
Леня потрогал узел галстука и, пользуясь ее хорошим настроением, решительно произнес:
– Победитель требует в знак капитуляции выполнить некоторые условия.
– Сколько же их, этих условий? – поинтересовалась Светлова. – Надеюсь, не слишком много?
– Только одно. Первое и последнее. Сорокаминутная беседа.
– О чем же я должна беседовать с вами?
– О своей жизни, Женя.
Светлова поднялась из-за столика и подошла к Рогову.
– Хорошо, я согласна, – ответила она коротко, – но если я потерпела поражение, то хочу в свою очередь знать и его причину. Где вас так научили морзянке?
– В армии, – объяснил Рогов, – я же был стрелком-радистом на бомбардировщике.
– А медаль «за отвагу»?
– Тоже в армии.
– Странно, – протянула она, нахмурив лоб. – На вид вам едва ли больше тридцати. Значит, на войне вы быть не могли.
– В мирное время иногда тоже награждают.
– Да. Но чтобы получить медаль «За отвагу», эту отвагу надо проявить.
– Очевидно, те, кто меня награждал, сочли, что я ее проявил, – улыбнулся Леня.
– Как же это случилось? – спросила Светлова, садясь напротив.
– Очень и очень просто. Я летал стрелком-радистом на дальнем бомбардировщике. Гоняли новые машины на предельную дальность. Под крылом – то берега Северного Ледовитого океана, то приамурские степи, то горы Кавказа… А в официальном наградном документе сказано было весьма лаконично: «За освоение новой авиационной техники наградить сержанта Рогова медалью „За отвагу“. Вот и все.
– Боже мой, как вы скучно рассказываете!
– Что поделаешь, – вздохнул Леня, – вероятно, журналисты могут только задавать вопросы, но не отвечать на них. Вот я и приступаю теперь к этому, Женя. Расскажите о своем детстве и о том, как жили вы до приезда в этот городок.
* * *
В детстве женя Светлова очень любила цветы и стихи. После летних каникул она приносила в школу богатые гербарии. Между плотными листами альбомов можно было найти красные лепестки рододендрона, редкие цветки бамбукового дерева, белые листья магнолии, огненные маки, скромные васильки, пышные субтропические гортензии.
Поэзией она увлекалась так же самозабвенно, как и цветами. Наизусть знала многие стихи Блока, Есенина, Маяковского, Пушкина… Когда школьные подружки охотились в десятом классе за тонкими книжечками некоторых модных молодых поэтов, она пожимала плечами и говорила им словами Есенина: «Все пройдет, как с белых яблонь дым».
В небольшой комнатке, где стояла ее кровать, она повесила на стене портреты самых разных поэтов. Маяковский соседствовал с Есениным, Пушкин и Лермонтов попали в окружение Байрона и Гейне. Задумчивый Фет смотрел с противоположной стены на своего «визави» – Некрасова. Когда Женю спрашивали, почему она не пишет стихи сама, девушка отвечала:
– Зачем менять прочную позицию читателя на шаткую позицию автора-неудачника? Разве от этого, ребята, что-нибудь выиграешь?
У нее была добрая мать и такой же добрый отец – Яков Прокофьевич, со спокойным взглядом серых бесхитростных глаз, чуть сутулый оттого, что много времени на своем веку провел за станком. Женя родилась в начале сорок второго, но Яков Прокофьевич увидел ее лишь в августе сорок шестого, когда вернулся в свой маленький домик с войны. Отдохнув, он пошел работать на тот же самый «Красный металлист», с которого уходил на фронт. Снова его имя стало появляться на Досках почета, а иногда и на столбцах городской газеты. И на одном из собраний директор «Красного металлиста» Ветлугин, сам в прошлом кадровый рабочий, сказал, что на таких, как Яков Прокофьевич Светлов, не только завод – Советская власть держится.
После войны Женин отец с десяток лет проработал в цехе. Однажды вызвали его в горком партии, спросили, что делал на фронте. Помялся Яков Прокофьевич и довольно-таки определенно ответил:
– Все, что приказывали.
– А что же приказывали? – заинтересовался первый секретарь.
– Всякое. Сначала рядовым был. Назначили командиром отделения – отделение принял. Убили в атаке командира взвода – на его место встал. В сорок третьем послали на шестимесячные курсы политработников. Вернулся с них и до самого конца войны в замполитах командира стрелкового батальона проходил. В смысле опасности – разница маленькая. В пехоте не спрячешься. Что комбат, что заместитель по политчасти, что боец рядовой – в наступлении все равно в одной цепи идешь.
– Вот и останетесь в рабочей цепи, – серьезно заключил первый секретарь, – парторгом ЦК на завод пойдете.
В том же месяце перешел Яков Прокофьевич на новую работу. Забот теперь прибавилось, и нередко он возвращался домой в поздний час, даже с Женей не успевал переговорить. Училась девочка прилично, но отца и мать беспокоило какое-то дерзкое выражение в ее глазах, какого они не примечали за ней раньше. Она смеялась, если мать просила ее пораньше возвращаться домой, потому что на их заводской окраине еще не перевелись хулиганы, отмахивалась от родителей, если они убеждали ее не заплывать далеко, когда она купалась в быстром, широком Иртыше.
Яков Прокофьевич в субботние дни и дни получек любил вместе с прежними дружками по цеху забрести иной раз по пути домой к голубому ларьку, выпить одну-другую кружечку янтарного пивца. В один из таких дней его окликнул седой как лунь табельщик Петрович, которого четвертый год не могли всем заводским коллективом уговорить выйти на пенсию. На седых усах Петровича таяла пивная пена.
– Яша, а Яша, – поманил он Светлова.
– Чего тебе Петрович? – чуть насмешливо спросил Светлов. – Пену с усов отряхнуть, что ли?
– Пену я и сам отряхну, – хмыкнул старик, – а вот ты бы того… за дочкой своей присматривал.
– А что? – встрепенулся Яков Прокофьевич, ощутив неясную тревогу.
– Мост через Иртыш знаешь?
– Какой – железнодорожный или автотранспортный?
– Железнодорожный охраняется. Я тебе про автотранспортный толкую. Сколько там, по-твоему, от верхних перил и до воды будет?
– Не считал. Около двадцати, наверное.
– Так вот прыгала с тех перил твоя Женька в воду. Своими глазами видел.
У Якова Прокофьевича захватило дух.
– Да я ей!..
Домой он вернулся туча тучей. Женя сидела за письменным столиком над учебником геометрии. Тоненькие свои косички за то, что они плохо отрасли, она отрезала и стянула жидковатые волосы на затылке. Мать это одобряла, отец – нет: косы ему нравились. Сейчас это ему показалось совсем нетерпимым. Но Яков Прокофьевич сдержался и, насупив лохматые брови, спросил:
– Ты что же, дочка, в воздушные гимнасты собралась поступать после десятилетки.
– Нет, папа, – не отрываясь от тетрадок, кротко ответила Женя, – если не срежусь по геометрии, в пединститут, на физико-математический факультет пойду.
– Ты мне своими факультетами зубы не заговаривай! – прикрикнул он. – Мать, пойди-ка сюда! Ты знаешь, какой нам сюрприз доченька преподнесла? Вчера с автодорожного моста в Иртыш пригнула.
– С этого высоченного? – всплеснула руками мать.
– Вот именно, с него. Кто же тебе это разрешил, героиня нашего времени? А?
Женя закрыла лежавшую перед ней тетрадь и, встав со стула, спокойно посмотрела отцу в глаза.
– Ты, папочка!
– Я? – Яков Прокофьевич от такой дерзости даже попятился.
– Да, ты, – повторила Женя. – Помнишь свои три заповеди? Я тебе их напомню. Заповедь первая: если растерялись или дрогнули товарищи и надо показать им пример, будь впереди. Заповедь вторая: никогда на полпути не останавливайся. Заповедь третья: всегда говори правду… Твои слова это или не твои?
– Кажется, мои.
– Вот я им и последовала, – быстро заключила Женя.
На мосту же произошло вот что. Готовясь к очередному экзамену, ребята устроили перерыв и убежали на песчаную речную отмель купаться. Оттуда любовались проплывающими теплоходами, поездами, что с грохотом проносились по железнодорожному мосту. Одноклассники Жени – Миша и Жора – заспорили, что прыгнут с такого же высокого, как и железнодорожный, автотранспортного моста в реку. Мост находился поблизости от того места, где они купались. Женя и ее подруга Ленка стали над мальчиками подтрунивать. Тогда ребята, наскоро одевшись, направились к мосту. Жора первым заглянул вниз через перила. Иртыш бурлил и пенился, хотя и был в этом месте несколько поспокойнее.
– За чем же стало дело? Раздевайся и прыгай, – предложила Женя, но Жора отпрянул от перил и пробормотал:
– Пусть Мишка первый.
Однако Мишка отрицательно покачал головой.
– Эх вы! А еще мужчины! – сказала Женя презрительно. – Хвастуны вы и трусы, вот кто!
– Может быть, ты прыгнешь? – огрызнулся Жора. – Храбрая!
– Я? – Женя уничтожающе взглянула на них. – А вот и прыгну.
На глазах у ошеломленных ребят она сбросила с себя ситцевый сарафанчик и туфли. Смело вскарабкалась на перила. Свежий теплый ветер обрадованно плеснул ей в лицо, а высота будто звала.
– Женька, сумасшедшая, остановись! – донесся испуганный Ленкин голос.
Женя увидела далеко внизу серую, рябую от солнечных бликов воду. «Метров пятнадцать, не меньше», – мгновенно оценила она. Железные перила, нагревшиеся на июньском солнце, обжигали ноги. По мосту с грохотом проносились грузовики. Водители с удивлением высовывались из кабин и смотрели на хрупкую девичью фигурку, приготовившуюся к прыжку.
– Раз, два – пли! – решительно выкрикнула Женя и оттолкнулась от перил.
Она прыгнула ногами вниз, вытянув руки по швам. Ветер устрашающе загудел в ушах. На мгновение Жене показалось, что она теряет равновесие. Она инстинктивно развела руки в стороны и скорее почувствовала, чем увидела, что Иртыш рядом. Наконец он все закрыл перед ее глазами. Женя не видела решительно ничего, кроме его серой бурлящей поверхности, и поняла, что самое ужасное мгновение наступило. Девушка сильнее прижала руки в бедрам и в этот миг ноги ее коснулись воды. Обжигая бедра и плечи, она глубоко погружалась в нее. Но теперь уже было не страшно. Открыв глаза и задержав дыхание, Женя увидела совсем близко всполохнувшийся косяк рыб, зеленый подводный мир реки. Инстинкт подсказал ей, что надо раскинуть руки. Зеленое мелькание в глазах прекратилось, и новая сила потянула ее вверх. Молоточками в голове стучала мысль: «Ничего, река. Ты вовсе не страшная, река. Ты не возьмешь меня, как взяла в свое время Ермака в тяжелой кольчуге. Неужели мне не хватит дыхания? А как же охотники за жемчугом? Им же труднее».
Работая руками и ногами, она всплыла на поверхность, увидела голубое свежее небо и облегченно вздохнула. Иртыш бережно пронес ее между двумя каменными быками. Лежа на спине и слабо шевеля руками, Женя увидела своих друзей, перебежавших на другую сторону моста. Они ей махали, ошеломленные и встревоженные. Она также помахала им из воды и, собрав силы, поплыла к берегу вразмашку, не противясь уносившему ее течению.
Примерно в полукилометре от моста Женя выбралась на берег. Голова кружилась. Издали черный мост казался великаном. «Неужели это я с самой его верхотуры?» – подумала Женя, и у нее захолонуло сердце от страха. Но лишь на секунду, не больше. А затем пришла радость, огромная радость покоренной высоты, и мост уже не казался страшным.
По берегу к ней во весь опор бежали ребята. Ленка отстала, долговязый Жора, лучший в школе волейболист, и боксер Миша пришли первыми. Запрокинув голые гибкие руки, Женя поправляла мокрые волосы. Небрежно спросила:
– Ах, это вы, мальчики? Ну что, нытики-хнытики, барахлишко принесли? Давайте его сюда, рыцари вы мои милые.
История с ее прыжком наделала в школе много шуму. Педагоги отнеслись к Жениной выходке по-разному.
– И она осталась жива? – спросил флегматичный учитель естествознания.
– Какая метаморфоза! – воскликнул более эмоциональный химик. – Кто бы мог подумать, что эта хрупкая девочка способна на такое!
– У этой Жени Светловой характер Жанны д'Дарк! – воскликнула черноглазая историчка Вера Иосифовна.
– Ради бога, – развел руками директор, – не говорите так ребятам, иначе сумасбродная выходка Жени станет у нас эталоном мужества для всех старшеклассников.
Осенью Женя поступила в педагогический институт, но не на математический факультет, как предполагала, а на литературный. Той же осенью ее приняли и в аэроклуб.
О первом прыжке с высоты восемьсот метров с парашютом она никогда не вспоминала. Слишком он показался будничным. Все было обычным, столько раз прорепетированным на земле.
Не прошло и года, как Женя Светлова выдвинулась в число лучших парашютисток аэроклуба. На майские праздники несколько ее подруг должны были совершить групповой прыжок. Жене Светловой и инструктору аэроклуба Владимиру Гребневу поручалось показать затяжной.
– Высотенка у вас будет на сей раз приличная, – напутствовал их начальник аэроклуба, – три тысячи метров. Прыгать будете с интервалом в одиннадцать секунд. Гребнев, как более опытный, раскрывает парашют на высоте шестьсот метров. Светлова – на высоте восемьсот метров. Накануне получите полный штурманский расчет.
Женя плохо спала в эту ночь. Снился ей черный мост через Иртыш, она, босоногая, прыгает сверху в быстротечную реку и летит, летит, не достигая поверхности…
На аэродром она приехала рано, с твердым решением, известным одной только ей.
Маленький зеленый Ан-2 поднял их в воздух и долго набирал высоту. Начальник аэроклуба, сидевший в пилотской кабине на правом кресле, вышел к ним. Борттехник распахнул дверцу. Гребнев и Женя встали, поправляя на себе зеленые мешки, проверяя в последний раз кольца основного и запасного парашютов.
– Пошел, – громко сказал начальник аэроклуба, и Гребнев, подмигнув Светловой, исчез за овальным отверстием люка.
Оставалось еще одиннадцать секунд. Женя почувствовала, как по всему ее телу мурашками пробежало волнение.
– Светлова, пора!
Головой вниз устремилась Женя в необъятное пространство голубого дня. Под собой она видела широкое поле ипподрома и черный, такой маленький с трех тысяч метров, прямоугольник людей, пришедших туда на досаафовский праздник. Точными движениями рук и ног управляла Женя падением. «Чем же я хуже? – весело думала она. – Почему мне дали высоту раскрытия парашюта не такую, как Гребневу? Потому что я девчонка? Еще посмотрим».
Земля надвигалась широким разливом речной поймы, панорамой беленьких чистеньких городских улиц. Фигура парившего внизу Гребнева с растопыренными руками и ногами казалась похожа на лягушку. «Так некрасиво», – решила Женя. Она высвободилась из струйного течения и теперь падала отвесно, тоненькая, как свечка.
Над головой Гребнева золотистым от солнечного освещения цветком вспыхнул купол, а Женя продолжала мчаться вниз. Она уже обогнала в падении своего инструктора. Потом медленно отсчитала до десяти и рванула кольцо. Ее встряхнуло, и тотчас же всем существом девушки овладело то блаженное состояние, которое охватывает человека, осознавшего, что опасность уже за плечами. Под звуки духового оркестра и аплодисменты она опустилась на маленькую площадку, очерченную белым кругом, как было задано. Гребнев приземлился вторым. Отстегнув ремни и погасив купол, подошел к Светловой.
– Давай лапу, Женька, – сказал он грубовато. – Ты же раскрыла парашют в трестах метрах от земли. Смотри, влетит тебе за эту самодеятельность.
Гребнев оказался прав. За нарушение дисциплины Светлова получила строгий выговор, но за точность приземления и смелый технический прыжок присутствовавший на досаафовском празднике спортивный комиссар отобрал ее кандидатом в сборную команду страны.
Осенью Женя выступала на больших соревнованиях под Москвой. Выступала успешно, оказавшись в пятерке победителей. Она была уверена, что получив грамоту и приз, с первым пассажирским самолетом возвратится домой. Но именно в эти часы ее вызвал к себе представитель ВВС и предложил идти в отряд генерала Мочалова. Ну кто же из девушек-парашютисток мог отказаться от такого предложения!
Вот и вся недолгая жизнь Жени Светловой. Конечно, в разговоре с Роговым она обо всем рассказывала сухо и многое пропускала, опасаясь показаться нескромной, но это была одна только правда.
– А вы почти ничего и не записали? – с удивлением спросила она журналиста.
– Это мой метод, Женя.
– Метод? – приподняла она брови.
– Если делаешь записи во время разговора, ты этим как бы отпугиваешь собеседника, – пояснил Рогов, – он теряется. А если по ходу рассказа начнешь уточнять или переспрашивать, получается еще хуже. Поэтому я стараюсь слушать и запоминать, а дома, после беседы, в полном одиночестве записываю. Конечно, какие-то детали забудутся. Нам, Женя, еще раз надо было бы встретиться для уточнения.
Девушка смущенно пожала плечами:
– Вы же к нам, вероятно, еще будете приезжать?
– Конечно буду, Женя, – подтвердил он с готовностью, – но дней пятнадцать теперь мне придется провести в городе. А тянуть с уточнением записей не хочется.
– Так как же быть?
– А вы, Женя, за это время в Москве не появитесь?
– Пожалуй, да. В воскресенье собираюсь в Третьяковку.
– Вот и чудесно! – обрадовался Рогов. – Я от нее недалеко обитаю. На Комсомольском проспекте. Если сможете, позвоните. Я весь день буду дома.
– Постараюсь, – пообещала Светлова не совсем уверенно.
* * *
Если сухощавого подполковника медицинской службы Зайцева, руководившего испытаниями в термокамере, заглазно именовали «хозяином пара и вара», то Василия Ивановича Рябцева, работавшего в сурдокамере, называли «начальником одиночества». Небольшого роста, с нервным очерком рта на полном смуглом лице, с резкими складками, избороздившими большой лоб, слыл он за вдумчивого и очень корректного человека.
Алешу Горелова, пришедшего уточнить сроки пребывания в сурдокамере, Рябцев неожиданно спросил:
– На гауптвахте когда-нибудь сидели?
– Не приходилось, – ответил озадаченный Алеша.
– Ну а в тюремной одиночке тем более, – весело продолжал Рябцев, – значит, опыта переносить длительное одиночество у вас никакого. Тем лучше для меня, врача-психолога. Я получу самые точные данные о вашей способности переносить тишину. Зачем космонавту проходить сурдокамеру, вы уже знаете. Космические полеты с каждым годом удлиняются по времени. Не за горами день, когда будем стартовать куда-нибудь подальше, чем в околоземное пространство. А в любом полете космонавт одинок. Черный воздух, бешеная скорость корабля, ощущение невесомости – все это по-разному отражается на человеческой психике. Значит, нужна закалка. Здесь, у нас, так сказать, публичное одиночество, – указал он на тяжелую, окованную металлом дверь, ведущую в сурдокамеру, – космонавт ничего не видит и не слышит, его же видят все. Каждый шаг и каждый вздох на учете. Вот эти приборы, – кивнул он на многочисленные осциллографы, – будут записывать решительно все: работу вашего сердца, дыхание, биотоки мозга, состояние нервной системы. Так что вы постоянно будете помнить, что подконтрольны, а следовательно, и вести себя станете соответственно, совсем не так, как вели бы себя, будучи уверенным, что за вами никто не подглядывает. А знаете, Алексей Павлович, как это было бы интересно понаблюдать за человеком, который знает, что его одиночество никто не контролирует. Даже самые великие в таком одиночестве проявляют себя необычно. Кто-то подсмотрел, что Наполеон прыгает на одной ноге, один из наших русских писателей-классиков выкрикивал по-петушиному и так далее. У вас же будет публичное одиночество, – назидательно повторил Рябцев.
– Василий Николаевич, – перебил его Горелов. – Я читал, будто Титов выучил в сурдокамере главу из «Евгения Онегина». Может, и мне чем-нибудь запастись, чтобы скрасить свое бытие?
Рябцев подтвердил:
– Да, да… журналисты этим очень умилялись. Это, конечно, было эффектно – учить стихи. Но мы сейчас против того, чтобы космонавт приходил в сурдокамеру с книгой. Чтение снижает суровость испытания. М притом, уважаемый Алексей Павлович, позволю себе уверить вас, что в реальном космическом полете парить с книжкой в руке в малогабаритной кабине – удовольствие не из больших.
– Стало быть, пойду в камеру с голыми руками.
– Нет, я этого не сказал. Кое-что мы разрешаем. Например, лобзик для выпиливания и кусок дерева в придачу. Карандаш и бумагу также… Но вы же, говорят, живописью увлекаетесь. Что может быть лучше? Берите краски и дело в шляпе.
– Значит, рисовать можно? – оживился Горелов.
– Можно, можно… Да вот посмотрите, сейчас в камере капитан Карпов. Чем он, однако, занимается? – Щелкнула кнопка на пульте, и на голубоватом экране телевизора возникла часть сурдокамеры и расхаживающий по ней Карпов, у которого уже выросла солидная борода. Карпов походил немного, потом уселся за рабочий столик, что-то записал в журнал-дневник и откуда-то снизу, из невидимой части сурдокамеры, достал вытесанную из деревянного бруса модель трехмачтового фрегата. Раскрыв перочинный нож, он деловито подстрогал изогнувшийся, словно под напором ветра, деревянный парус, отдалив от себя игрушку, пристально посмотрел на нее и под нос себе пропел фальшивым баритоном:







