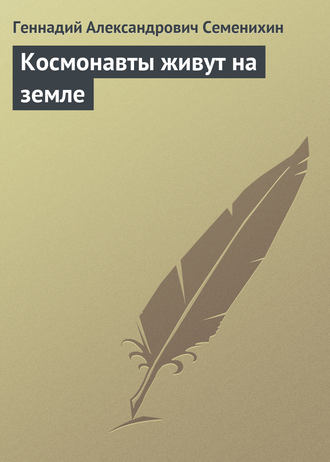
Геннадий Александрович Семенихин
Космонавты живут на земле
Алеша слушал, не проронив ни одного слова.
– Это не кости, Сергей. Кости тут ни при чем, это – воля!
– Воля, говоришь? – захохотал Ножиков. – Так я же умышленно это слово опустил. Иначе ты опять бы сказал, что я тут партбюро провожу. На-ка, возьми лучше, – закончил Сергей, протягивая Алексею его рапорт.
Горелов взял рапорт, порвал его на клочки…
* * *
Горелов часто думал о том, как встретится с Юрием Гагариным. Но так случалось, что космонавт-1, наезжавший иногда по служебным делам в их отряд, появлялся здесь в те дни, когда Алексей или бывал на занятиях в академии, или на учебных полетах, в сурдокамере, или на вестибулярных тренировках. Однако встреча эта состоялась неожиданно и до крайности просто.
Ранним утром шел Горелов в штаб по широкой асфальтовой дорожке и у цветочной клумбы наткнулся на веселую группу людей. В центре с непокрытой головой стоял генерал Мочалов, рядом щурился на солнце замполит Нелидов. Их окружали космонавты, что-то наперебой рассказывавшие под одобрительные раскаты генеральского смеха. В центре группы Андрей Субботин совсем вольно обнимал крепко сложенного молодого полковника. Подошел Алексей, всем откозырял да так и ахнул: это же Гагарин! Удивительно солнечными были глаза первого космонавта, а на губах трепетала та самая «гагаринская» улыбка, которая столько раз была воспета на всех языках мира и только здесь, в городке космонавтов, среди своих, была такой по-домашнему простой. Андрей Субботин совсем фамильярно подергал Гагарина за локоть и, перекрывая голоса других, сказал:
– Юра, а вот это наш новенький. Старший лейтенант Горелов.
– А я знаю, – просто сказал знаменитый космонавт. – Но он настолько неуловим, что езжу, езжу, а застать не могу. Здравствуйте, Алексей Павлович. Рад с вами познакомиться.
– А уж меня и не спрашивайте о радости, Юрий Алексеевич! – воскликнул Горелов и потряс его руку.
Поправляя встрепанную ветром шевелюру, генерал Мочалов напомнил:
– Это он пробивался к вам, Юрий Алексеевич, с рапортом в Верхневолжске, когда вы проезжали этот город.
– Ах, Верхневолжск! – оживился Гагарин. – Это где нас колокольным звоном встречали. Помню, помню. Что же, Алексей Павлович, не удалось тогда рапорт вручить?
Серые глаза Горелова брызнули смехом:
– Куда там, Юрий Алексеевич. Даже за дверцу вашей машины подержаться не пришлось.
– Верю, – засмеялся первый космонавт, – придет время, сами еще не раз убедитесь, что далеко не всегда легко бывает космонавту быть доступным и внимательным, когда его встречают тысячи.
Гагарин, перестав смеяться, посмотрел на часы.
– Ну вот что, – сказал он, обращаясь к Горелову. – Делу время – потехе час. Сейчас мы будем совещаться, а в пятнадцать десять заходи в кабинет начальника штаба. Потолкуем, волжак.
Алеша явился в назначенное время. Юрий Алексеевич без кителя сидел за столом полковника Иванникова, что-то писал. Сильные его лопатки туго обтягивала офицерская рубашка. Судя по подстриженным вискам, он недавно побывал в парикмахерской. Метнув на Горелова беглый взгляд, одобрительно отметил:
– А-а, пришел, волжак. Отлично. Сядь подожди.
Минуту спустя он закрыл записную книжку, спрятал в карман авторучку – и потекла беседа. Сначала Юрий Алексеевич заставил Горелова рассказать о себе. Слушал терпеливо, подперев рукой подбородок. Потом заговорил сам и незаметно увлекся. Вспоминал первые тренировки космонавтов, первых тренеров и врачей, руководивших опытами, приводил разные смешные истории, которые произошли либо с ним самим, либо с Титовым, Быковским, Николаевым. Горелов смотрел на его молодое, свежее, будто росой умытое, лицо и дивился: сколько энергии таится во взгляде веселых глаз космонавта, в росчерке рта и его точных, выдающих ловкость и силу движениях! И, глядя на него, думал Алексей: «Вот сидит передо мной человек, которому суждено навечно остаться в истории. Будут проходить десятилетия и столетия, совершаться революции и землетрясения, уходить в прошлое и сменяться более совершенными социальные системы, а имя Юрия Гагарина вечно будет жить в истории, точно так же, как и имя Главного конструктора, создавшего первый космический корабль. А ведь всего на неполных семь лет старше меня Гагарин».
Неожиданно улыбка сбежала с лица Юрия Алексеевича, и он спросил:
– Значит, обжился, говоришь, и в отряде понравилось?
– Понравилось, товарищ полковник, – подтвердил Горелов, почувствовав, что сейчас надо отвечать деловито. И действительно, Гагарин заговорил строже, даже на подчеркнутое «вы» перешел, и подумал Алеша, что таким суровым и требовательным едва ли представляет Юрия Гагарина кто-либо из тех, кто знает его только по портретам, газетным очеркам да кинофильмам.
– С вашей подготовкой меня генерал Мочалов ознакомил, – продолжал Гагарин, – видел я и отчеты, и расшифрованные кардиограммы. Хорошие показатели, товарищ старший лейтенант. Значит, надо еще упорнее над собой работать. Профессия летчика-космонавта среди героических профессий самая молодая. Но и она уже имеет два поколения. Побывавшие в космосе – одно поколение, готовящиеся к запускам – другое. Первое поколение тем мир удивило, что побороло силы земного притяжения и вырвалось в космос. Вы же пойдете дальше, вам будет интереснее и сложнее. Готовы ли вы к трудностям? Лично вы, старший лейтенант Горелов?
Алеша поднялся и твердо, не избегая испытующего гагаринского взгляда, ответил:
– Готов, товарищ полковник. Всегда готов.
И первый космонавт снова осветился доброй улыбкой, давая понять, что уводит его от официальной беседы в русло дружеского доверительного разговора.
* * *
Володе Кострову далеко не всегда было весело. В маленьком отряде космонавтов за ним давно уже укоренилась репутация самого уравновешенного и вдумчивого человека. Даже наиболее строптивый, порою задиристый и острый на слово Андрей Субботин воспринимал любой его совет, как приказ самого высокого начальника. Горелов его попросту боготворил, Дремов и Карпов часто обращались к Кострову за помощью и в житейских делах, и в учебе. Женя и Марина угадывали в его мягких, адресованных им замечаниях трогательную заботу старшего о младших. Сергей Ножиков – тот, пожалуй, не выносил на обсуждение в партийном порядке ни одного вопроса, не согласовав его с Володей. И когда в самых задушевных беседах космонавты размышляли, кто из них будет кандидатом на очередной полет, рослый Олег Локтев или порывистый, всегда чуть возбужденный Игорь Дремов при всеобщем одобрении говорили:
– Как кто? Конечно же, майор Костров.
Но самому Кострову далеко не всегда казалось, что это будет так.
У всякого человека есть широкий круг друзей, которым он свободно рассказывает о себе почти все. Есть и более узкий круг, с которым он делится своими тайнами, замыслами. И есть, наконец, своя собственная совесть – беспощадный и неподкупный судья и советчик. Ты можешь поступать так или иначе, внимать или не внимать ее голосу, но совесть все равно скажет свое беспристрастное слово, скажет одному тебе – прямо, без обиняков.
Володя Костров часто советовался с собственной совестью. Она представала перед ним в образе тихого и с виду застенчивого человека с небольшими темными усиками и мягкой прядью волос на лбу. Этого человека он не видел с июня сорок первого года, но единственную фотографию его бережно хранил и в эвакуации, и потом, когда умерла состарившаяся от горя мать, оставив в немногочисленных бумагах официальную справку со страшными словами: «Пропал без вести». И когда возникала необходимость посоветоваться о чем-то самом сокровенном с собой, он мысленно обращался к этому человеку, как к собственной совести. «Ты меня выслушай, отец. Выслушай и скажи, что бы ты сделал на моем месте. Все ребята намного меня моложе и сильнее. И Карпов, и Дремов, и тем более Горелов. Они сложены не хуже, чем римские гладиаторы, легко переходят с турника на брусья, оттуда на кольца или батуд. А я тихонько отхожу после первого же комплекса упражнений в сторону, потому что учащенное дыхание распирает мне грудь. И отхожу в сторону я только затем, чтобы ничего этого не заметил наш физрук Баринов. Однако он всевидец. Он уже давно отметил, что мои прыжки через голову над сеткой батуда стали тяжелее и падаю я не так ловко, как три-четыре года назад. Но он подходит ко мне и по-братски шепчет в самое ухо – так, чтобы другие не услыхали: „Ничего, Володя. Мы же старая гвардия. Нам трудно с такими, как они, тягаться. Успокойся. Полторы минуты передышки, и снова к снарядам“. Я беру себя в руки и опять, как на поединок, выхожу к снаряду. Но мои тридцать семь! Они никак не хотят соревноваться с двадцатью шестью Игоря, двадцатью восемью Карпова и тем более двадцатью тремя самого молодого и крепкого среди нас – Алеши Горелова. Так же и в термокамере, на вестибулярных тренировках, когда ты с закрытыми глазами раскачиваешься на качелях или вращаешься на стуле, устроенном в полосатом шатре, а белые и черные полосы, густо нарисованные на холсте, мечутся перед твоими глазами, извиваясь, словно змеи. Выходишь, а потом тебя сдержанно успокаивают: „Сносные показатели“. Сносные! Шесть, пять лет назад они были отличными. И чего скрывать: тогда, на рубеже первого запуска, я тоже лелеял надежду занять место в кабине первого космического корабля. Но я не полетел ни тогда, ни в следующий раз. Два года назад меня обнадежили: следующий полет – твой. Нелепая, совершенно случайная операция, и я на три месяца выбыл из строя накануне стартовой горячки. А годы прибавились. Даже вес стало тяжелее регулировать, чем раньше. Того и гляди, белая прядка засветится в голове. Вот ты и скажи мне, отец, что делать?» – спрашивал Володя Костров свою собственную совесть, так похожую на отца. Но она молчала, и он ходил погруженный в сомнения.
Был у него, правда, и еще один человек, которому он доверял все: жена, Вера. Еще лейтенантом, рядовым летчиком реактивного истребительного полка познакомился он на молодежном балу с нею, тогда студенткой пединститута. Заглянул в глубокие черные глаза девушки и почувствовал: другой не надо. Вызвался проводить ее домой, и за длинную дорогу до городской окраины Вера успела рассказать ему о своей недолгой жизни, увлечениях и привязанностях. В первый же вечер, когда невысокая калитка у заборчика захлопнулась за ней и легкая тень девушки метнулась к крыльцу, он окликнул:
– Вера.
Она остановилась, теребя прозрачную косынку, наброшенную на смуглую шею.
– Чего?
– А я на вас женюсь… вот увидите.
Она приняла это за шутку и, давясь смехом, убежала. Проводив ее во второй раз, он крикнул на прощание те же слова. Девушка молча ушла. А когда Володя в третий раз грустно и мрачно вымолвил при расставании: «Я на вас женюсь», она кокетливо повела плечом.
– Это что же?.. Карфаген будет разрушен? Знаете такую фразу?
– Знаю, – отмахнулся Володя, – не одни инструкции по технике пилотирования изучал. Имел и по Древнему Риму в свое время пятерку. Только я поупорнее Сцинионов.
– Вы странный, – сказала девушка и, помолчав, добавила: – Если не боитесь проспать завтра полеты, давайте еще немного побродим по берегу реки.
Той же осенью они сыграли свадьбу. А теперь у них уже двое ребятишек: черноглазая, вся в Веру, Тамара и похожий на него Алька.
И однажды Володя все рассказал жене. Случилось это совсем на днях. Была светлая весенняя ночь за окном, и он, беспокойно ворочаясь с боку на бок, вдруг заметил, что Вера не спит. Она только притворялась спящей.
– Вера, ты же не спишь, – усмехнулся он.
– разве заснешь, если ты так волнуешься, – ответила она.
– Откуда ты взяла, чудачка? Я спокоен. В космосе – как на Шипке.
– Ты никудышный конспиратор, Володя. Я уже целую неделю примечаю, как ты волнуешься. Даже по ночам два раза стонал.
– Это плохо, – вздохнул Костров, – слава богу, мне сурдокамеру больше не проходить. Иначе бы Рябцев к разряду психически неуравновешенных причислил.
– Что тебя мучает, Володя? Расскажи, – попросила Вера.
И он рассказал ей о своих сомнениях, о нарушениях в дыхании, иногда возникающих после трудных физических упражнений.
– Ты понимаешь, Вера, что будет, если я не полечу еще год, другой, третий. Какой я в сорок лет космонавт!
Она громко вздохнула.
– Через три года тебе будет сорок, а мне – тридцать семь. Какая все же короткая у человека молодость!.. Послушай, Володя, – заговорила она шепотом, – мы тоже очень хотим, чтобы ты стал космонавтом и чтобы твой корабль так же благополучно, как и все предыдущие, опустился после полета на землю. И чтобы задание ты выполнил самое героическое. Посмотри на Альку. Он уже в третий ходит и кое-что понимает. Как он тобой гордится! Недавно с ним учительница беседу затеяла на тему «Кем быть». Так он знаешь что ответил? Хочу быть, как папа… Но знаешь что?.. – Вера вдруг отняла руки от его головы, жестко спросила: – А если ты вообще не полетишь?
Он даже вздрогнул от неожиданности и привстал в кровати.
– То есть как это?
– Да очень просто. То ли здоровье подведет, то ли по каким другим причинам.
– Вера, зачем ты так шутишь? Этого быть не может.
– Я не шучу, – тихо продолжала Вера. – Ну а если не полетишь? Разве тогда вся дальнейшая жизнь станет для тебя сплошным разочарованием и ты не найдешь себе места? Стыдись, Володя. Ты же прекрасный летчик, авиационный инженер. Какое будущее пророча тебе руководители твоей работы по математике! А мы? Неужели оттого, что ты не полетишь в космос, мы станем меньше тебя любить? Думаешь, нам обязательно нужно, чтобы ты прошагал по ковру на Внуковском аэродроме и отрапортовал секретарю ЦК, чтобы везде, даже на марках и спичечных коробках, красовались твои портреты? Конечно, слава – вещь заманчивая и мы бы тобой гордились. Но пойми, ты и без славы этой нам дорог. Помнишь, как несколько лет назад мы жили на зарплату рядового летчика? Комнату с окошком на Дон снимали. На двоих – два чемодана…
– Да, да, – в тон ей ответил он. – И любовь наша, которую ни в какие космические габариты не упрячешь… Нет, Верка, за свою судьбу космонавта я еще постою…
– Конечно, Володя, разве мы против? – Вера придвинулась к нему. – Ты должен взять себя в руки и освободиться от малейшей неуверенности. Я знаю, ты еще поцелуешь нас перед тем, как ехать на космодром, а потом мы будем ждать, ждать, и слезы я не однажды вытру, пока ты будешь носиться по далекой орбите. А наш Алька – тот до твоего возвращения даст в школе не одно интервью.
– А может, не будет орбиты? – мечтательно произнес Костров. – Может, повыше куда-нибудь.
– К Венере, что ли? – перебила его весело Вера, и в ней проснулась прежняя озорная девчонка. – Нет, туда я тебя не пущу, а то еще во второй раз женишься. Эта планета небось вся красавицами заселена. Так и фантасты наши считают. Ты лети лучше на Марс, Володенька…
* * *
В пятницу Костров возвратился домой озабоченный и чуть усталый. Раскладывая свои рабочие тетради, не переставал хмуриться, и даже трехлетней Тамарочке, вернувшейся из детского сада, ответил односложно.
Подошла Вера, пытливо всмотрелась:
– Ты чего такой скучный?
– Тяжелый день завтра, женушка. – Он встал из-за стола. Темные глаза его глядели настороженно. – На центрифугу надо ехать. В этом году последняя тренировка. Обойдется благополучно – смогу рассчитывать на полет… Вот так-то! – И прищелкнул пальцами над головой дочери, возившейся в углу с игрушками.
Вера прекрасно понимала, что он бодрится, пытаясь побороть внутреннюю тревогу.
– Один поедешь на центрифугу?
– Нет, Вера. Полковник Иванников наметил еще Горелова.
– Алешу?
– Так точно, женушка…
В передней послышался звонок. Вера пошла открывать.
– Ну и легки же вы на помине, Алексей Павлович, – донесся из коридора ее голос. – Володя дома, проходите.
– Кто же меня тут поминал? – спросил, входя в комнату, Алеша, обычно почему-то смущавшийся при встречах с Верой.
– Мы с Верой о тебе говорили, – ответил за нее Костров. – Садись с нами ужинать.
– Спасибо, Володя, – отказался Горелов. – Я по делу, и всего на минуту.
– Тогда выкладывай.
– Завтра у нас центрифуга, и прибыть туда надо к двенадцати.
– Совершенно верно.
– Я думаю на часок раньше прийти. Все-таки в первый раз. Хочется еще до тренировки осмотреть это сооружение. Интересно очень.
Костров пожал плечами.
– Да разве я против? Но с кем ты уедешь? Машина ровно на одиннадцать заказана.
– Все уже продумано, – улыбнулся Горелов. – Я с майором Ножиковым. Он в академию на своем «Москвиче» поедет и меня захватит.
* * *
Алеша Горелов, волнуясь, вошел в просторное куполообразное здание, напоминавшее своими размерами и очертаниями цирк. Было здесь удивительно светло и тихо. В дверях его встретила моложавая женщина в строгом коричневом костюме с университетским значком на отвороте жакета. Женщина вопросительно взглянула по Алеше темными продолговатыми глазами. Их восточный разрез да густые черные брови сразу убедили Горелова, что перед ним Зара Мамедовна, «хозяйка центрифуги», как именовали ее летчики-испытатели и космонавты. Он подробно объяснил, почему приехал на целый час раньше. Зара Мамедовна внимательно посмотрела на него, кивнула головой:
– Очень хорошо, товарищ Горелов!
По узкой винтовой лесенке она провела его на железную площадку, с которой хорошо обозревалось все помещение. Это был огромный зал. Голубая яркая центрифуга возвышалась посредине. И оттого, что ее со всех сторон окружало пустое пространство, а в большие высокие сводчатые окна вливался солнечный свет, она казалась еще более внушительной. Тонкие сплетения ферм сверкали своей белизной в тех местах, где не были покрыты голубыми листами металла. Один конец центрифуги был увенчан пилотской кабиной, а другой – кабиной для испытания грузов и аппаратов, которым предстояло выдерживать большие перегрузки. «Как дальнобойное орудие, – подумал Алексей. – Стоит тихо, мирно, будто дремлет. А подвези снаряды, пальни, и все вокруг задрожит от небывалой силы огня и гула».
Сотни проводов с черной и красной изоляцией тянулись к центрифуге, оплетали ее агрегаты, уходили наверх к застекленной пультовой, так остро напомнившей Горелову аэродромный командный пункт. Зара Мамедовна терпеливо дала ему осмотреться, потом спросила:
– Понравилось наше сооружение?
– Да-а, ничего, – протянул Алеша, – внушительно выглядит.
На смуглом лице Зары Мамедовны появился румянец.
– Вы сейчас увидите маленькую центрифугу в действии, Алексей Павлович. Я вас проведу в другой зал. Так как раз через пять минут начнется опыт. Она вас неминуемо разочарует. О! Это не очень приятное зрелище – наблюдать работу маленькой центрифуги. Ничего эстетического. А моя, большая, – просто красавица в сравнении с ней. Я так и называю ее: красавица! Движения у нее плавные, сосредоточенные – залюбуешься. Но это потом. А сейчас пройдемте…
По тем же узким железным лесенкам-переходам она провела Алексея в соседнее помещение. Здесь зал был гораздо меньше. Меньше была и площадь, занимаемая центрифугой. На консолях машины располагались маленькие кабины, и Горелов догадался, что предназначены они для животных. Рослый человек в белом халате опускал в распахнутую кабину какой-то неподвижный ком. Мужчина средних лет в штатском, вероятно инженер, приводивший в движение маленькую центрифугу, деловито осведомился:
– Так будем собаку крутить или нет? Она же все равно не выживет. Сколько ей дадим?
– От десяти до сорока, – флегматично ответил врач и полез в карман за папиросами, – на режиме сорок подержим пару минут. После операции этот пудель долго не протянет. Надо испытать крепость собачьего организма при сорока Ж…
– Живодерня, а не центрифуга, – проворчал Алеша.
У Зары Мамедовны дрогнули тонкие губы.
– Вы очень жестоко о них отзываетесь, Алексей Павлович. Примите во внимание, что Павел Матвеевич, который сейчас устраивает в кабину этого пуделя, давал в свое время «добро» на космический полет и Белке и Стрелке. Наука требует жертв…
Алексей ничего не ответил. Он внимательно следил за тем, что происходит в зале. Вот Павел Матвеевич отошел от центрифуги, а инженер захлопнул крышку кабины, затянутую прочным плексигласом. Потом они поднялись на помост, к столику-пульту, и до Алеши донесся хрипловатый голос инженера: «Начнем?» Алеша посмотрел вниз на два маленьких лотка. В одном из них увидел лохматого пуделя, доставленного из операционной.
Окрашенная в кремовый цвет центрифуга мирно дремала внизу. На пульте загорелись разноцветные лампочки. Желтая, две зеленые, еще раз желтая… Инженер сосредоточенно нажимал кнопки. И вдруг центрифуга ожила, ее консоли описали над полом круг, второй, третий. Секунда – и они быстро завертелись вокруг своей оси.
– Даю пять Ж! – выкрикивал инженер. – Десять, пятнадцать, тридцать, сорок!
Вся комната от пола до потолка наполнилась гулом. Со стола инженера вихрь сорвал забытые бумажные листки и закружил их по залу. Железный помост, на котором стояли Горелов и Зара Мамедовна, задрожал, охваченный мелким ознобом. Казалось, центрифуга вот-вот разлетится на куски. А какой тяжестью для бедного пуделя были сорок Ж! Каждое Ж – это нагрузка, равная весу испытываемого существа. Бедный лохматый пес, только что весивший на операционном столе каких-нибудь десять килограммов, находился сейчас под давлением почти полутонны. Но вот реостат был выключен, и ветер, поднятый центрифугой, тотчас же стих. Желтая молотилка сделала несколько последних оборотов и замерла. Пронесли неподвижное тело пуделя, стянутое ремнями, державшими на себе электроды. Врач, разглядывавший над осциллографом кардиограмму, воскликнул:
– Дышит. И не подозревает псина, какую услугу оказала сейчас космической медицине!
Зара Мамедовна тронула Горелова за локоть.
– Пойдемте, Алексей Павлович, теперь нашу пультовую посмотрим.
Пультовая большой центрифуги была просторнее и уютнее. Тонкий запах краски и металла улавливался в воздухе. На двух столах под стеклянными чашечками приборов дремали стрелки. Белые надписи над кнопками и рычагами напоминали об их назначении. Два реостата управляли вращением центрифуги. Один, вмонтированный в правый стол, позволял плавно или резко включать перегрузки до десяти Ж. Если надо было перегрузку добавить, включалась ручка второго реостата. Слева виднелся экран телевизора. На всем протяжении опыта Зара Мамедовна могла наблюдать за лицом космонавта и по нему судить о состоянии человека, находившегося в машине. Тут же работали два осциллографа, пропуская сквозь свои зубцы длинные ленты, на которые наносился каждый толчок сердца и удар пульса. Существовали и еще два вида связи с космонавтом: по радио и световая. На вопрос «Как себя чувствуете?» человек, находящийся в бешено вращающейся центрифуге, отвечал миганиями зеленой лампочки. Три мигания – отлично. Два – хорошо. Одно – удовлетворительно. Там, в кабине, космонавт на всем протяжении опыта держит в руке шнур с кнопкой. И только в одном случае отпускается палец, если станет ему невыносимо плохо. Тогда в пультовую ворвется тревожный звуковой сигнал, и при помощи реостата вращение огромного механизма будет немедленно остановлено. Времени для этого много не надо. Ведь за пять-шесть секунд центрифуга набирает скорость, обеспечивающую десять Ж.
– А я все равно не снял бы палец с этой кнопки, – задиристо объявил Заре Мамедовне Горелов, – пусть хоть сто зеленых чертиков в глазах появилось, не снял бы.
Женщина с любопытством посмотрела на него решительно сдвинутые брови и такие мирные и добрые кудряшки. Усмехнулась:
– Оптимизм, конечно, дело хорошее, Алексей Павлович, да только не здесь. Ни за что не отпускать кнопку, говорите? Некоторые так стараются. Но это неверно. Даже нечестно, если на то пошло. – Порывистым жестом правой руки она указала на телевизор. – Спасибо вот этому экрану. Если бы не он, я бы однажды взяла, что называется, грех на душу.
Горелов с интересом на нее посмотрел.
– Как же это?
Зара Мамедовна вздохнула.
– Очень просто, Алексей Павлович. Из-за одного оптимиста. Вы когда-нибудь видели, как человек падает в обморок?
– Не-ет. Я же не в институте благородных девиц учился, а в авиации.
– В авиации это тоже бывает. Неприятно такое наблюдать. Видишь на экране лицо человека. Видишь, как ему становится тяжело от нарастающей перегрузки. Нижняя челюсть отвисает, кривит рот, одни глаза сохраняют осознанность. Ты запрашиваешь о самочувствии, а он тебе в ответ два, а то и три мигания зеленым светом: мол, отлично. И вдруг ты видишь, как его глаза останавливаются, расширяются, а потом делаются мутными, потусторонними. Даже белые яблоки в синеву одеваются и голова заваливается либо влево, либо вправо, либо вперед. Только не назад, потому что спинка кресла не позволяет. Вот мы и испытывали подобным образом одного известного летчика. За плечами у него три войны, грудь в орденах, летать стремится, как юноша. Но голова уже седая, под глазами синие тени, да и по паспорту пятьдесят первый пошел. Довела ему перегрузку до одиннадцати Ж. Вижу и по экрану: плохо человеку. Но как ни спрошу, лампочка загорается трижды. Хотела уже выключать машину, но, спасибо, внутренний голос какой-то добрый подсказал: подержи под нагрузкой еще две-три секунды. И вот голова моего подопечного завалилась влево. Глубокий обморок… И как же хорошо, что я дала ему эти лишние секунды! Ведь иначе все это с ним бы случилось не на высоте в полтора-два метра от пола да в такой красивой кабине, а в стратосфере на высоте в восемнадцать-двадцать километров. Вот и все. А тут написала ему жесткое заключение, что к перенесению больших перегрузок организм уже не приспособлен, и точка.
– И как же он пережил это ваше вмешательство?
– Довольно темпераментно, Алексей Павлович. Сначала настолько рассвирепел, что здороваться перестал. А потом все вошло в свое русло. Мы иногда встречаемся, и бедняга полковник, уже переживший серьезный сердечный приступ, только благодарит за своевременное вмешательство в его судьбу.
Бодрый голос Кострова прозвучал в эту минуту с порога:
– Здравствуйте, Зара Мамедовна. Позвольте вас одарить этими вот знаками весны. – Майор протянул ей букетик цветов.
Зара Мамедовна смутилась.
– Благодарю вас, Володя. Давненько мы не виделись. Как чувствуете себя?
– Вопрос весьма широкого диапазона: физически, морально, материально? Смотря, что вас интересует?
– Я врач. Следовательно, здоровье прежде всего.
– Я так и знал, – Володя изобразил на лице разочарование и с тяжелым вздохом опустил руки. – Как древний спартанец, воспитанный по законам Ликурга…
Она пристально вгляделась в его лицо, отметила легкую синеву под глазами, но ничего не сказала. Кострову замерили давление крови, пульс. Пультовая незаметно наполнилась людьми. Пришла лаборантка и стала настраивать осциллограф. Дежурный врач, готовивший Кострова к тренировке, стал рядом с ним. Появился рослый, спортивного вида инженер – майор Федор Федорович Захаров, руководивший технической эксплуатацией большой центрифуги. Потом Кострова повели вниз. Горелов вышел из пультовой. Но вниз не стал спускаться, посчитал неловким, и за тем, как Кострова сажали в пилотскую кабину и авали ему перед тренировкой последние указания, наблюдал с верхней площадки. Зара Мамедовна громко сказала:
– Вам ознакомительную нагрузку давать?
В пустоватом зале смех Володи прозвучал гулко:
– Ерунда. Давайте сразу основную.
– Смотрите, – неопределенно проворчал Федор Федорович, – повторение – мать учения.
– А ученого учить – только время терять, – возразил Костров весело.
Потом кабину закрыли, и все поднялись наверх. Так же неподвижно голубела внизу большая центрифуга, но теперь в ее испытательной кабине находился человек. Алексею она показалась большой нахохлившейся птицей, готовой вот-вот замахать крыльями. Он усмехнулся нелепости этого сравнения и снова вошел в пультовую. Резким гортанным голосом Федор Федорович говорил Заре Мамедовне:
– Он просит дать ему сразу одиннадцать Ж.
– Ни в коем случае, товарищ инженер-майор, – сухо отрезала Зара Мамедовна. – Костров давно не был на центрифуге. Дать как после перерыва. Сначала двойную, потом пять, восемь и только через минуту после восьми – одиннадцать Ж. Никаких скидок на опыт. Поняли?
– Я-то понял, а вот он обидится, – проворчал Федор Федорович и встал к пульту.
На голубом, в мелких точечках экране контрольного телевизора появилось лицо Кострова. В шлеме он показался Алеше строже и старше. В динамике раздалось:
– Майор Костров к испытанию готов.
Зара Мамедовна нажала кнопку передатчика.
– Раз, два, три… включаем.
Федор Федорович повернул кран реостата. Стрелка под стеклом моментально ожила, метнулась от нуля вправо, к крупно нанесенным цифрам «1», «2», и тотчас же пришла в движение большая центрифуга. Словно вздохнула облегченно, затомившись от длительного бездействия, и на самом деле издала звук, напомнивший хлопанье крыльев. Красивыми плавными движениями ее консоль с пилотской кабиной описала несколько кругов, потом Алеша перестал различать сплетение ферм, потому что перегрузка возросла уже до восьми и кабина стала мелькать в круговороте вращения все быстрее и быстрее. Он перевел взгляд на экран телевизора и едва не вздрогнул от удивления. «Это же не Костров!» На экране было уродливо вытянутое лицо со сплюснутым ртом, выпученными глазами и некрасиво раздутыми ноздрями. Только из-под шлема выбивалась всегда упрямая и непокорная прядка. Дежурный врач тронул Алексея за плечо:
– Идемте. Надо готовиться.
Пока Алексей переоделся, еще раз прослушал инструкции, как выполнять тренировочное упражнение, шум центрифуги стих и дежурный врач обеспокоенно сказал:
– Мы опаздываем, дорогой товарищ старший лейтенант. Пошли прямо в кабину.
Через несколько минут Зара Мамедовна дружески ему подмигнула и осведомилась:
– Кнопки не перепутаете, когда будете тушить контрольные лампочки и отвечать на мои вводные?
– Попытаюсь.
– Тогда усаживайтесь в кресло.
Она еще раз ободряюще кивнула головой и приказала закрыть кабину. Крышка над головой Горелова с мягким ударом захлопнулась, и он остался один. Попробовал ремни – привязан удобно. Осмотрел над головой длинный ряд лампочек. Они буду загораться, а он должен выключать. Перед ним панель с кнопками и экраном. Во время бешеного вращения на экране будут возникать цифры, а он либо голосом по радио, либо нажатием световой кнопки должен будет их называть. Все в отряде, даже тяжеловес Олег Локтев, утверждают, что самое трудное при испытании на центрифуге – это владеть своим голосом, когда на твое тело обрушиваются огромные перегрузки.
Горелов откинулся в кресле, потом собрал тело в единый упругий комок, подал корпус вперед. Но тотчас же вспомнил добрый совет «короля центрифуги» Игоря Дремова: «Пойдешь на испытания, слишком не напрягайся Алешка. Сам ты должен быть собранным, а тело чуточку размягчено». И он поступил именно так. Поглядев на часы, включил передатчик.







