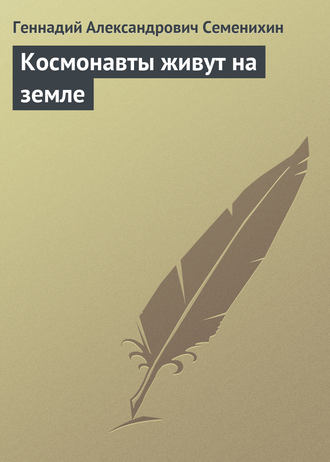
Геннадий Александрович Семенихин
Космонавты живут на земле
Суждены нам благие порывы,
Но свершить ничего не дано.
– Эк его на Некрасова повело, – прищурился Рябцев, – бедняга еще и не знает, что сегодняшняя ночь у него здесь последняя. Настроился подольше у нас пожить.
Карпов положил на место модель фрегата, нажал на столе кнопку. Резкий скрежет зуммера наполнил лабораторию, и на пульте управления погасли лампочки, удостоверявшие, что телевидение работает нормально. Изображение камеры и сидевшего за рабочим столом Карпова мгновенно пропало на обоих экранах.
– Зачем он выключил телевизор? – поинтересовался Горелов.
Лаборанта смущенно отвернулась. Рябцев дружески взял Горелова за локоть, отвел в сторону от пультовой установки.
– Дорогой Алексей Павлович, иногда космонавт имеет право выключить голубой экран. Когда ему э-э-э… это очень нужно…
Вскоре лампочки снова зажглись, и Горелов опять увидел на экране часть сурдокамеры с креслом, столиком и полочкой над ним. В соответствии с распорядком дня Карпов писал плакат: «Тише, нас подслушивают!» Потом приблизился обеденный час, и он деловито, как истая домохозяйка, гремел посудой, наливал в тарелку из термоса борщ. Его гибкая фигура неторопливо двигалась на экране, из камеры отчетливо доносился стук ножа и вилки.
– Ну что, Алексей Павлович, общее представление о нашей лаборатории получили? – осведомился Рябцев.
– Общее имею, – согласился Горелов, – остановка за детальным.
– Скоро и детальное получите – пятница не за горами.
* * *
Когда плохо писалось, Рогов любил смотреть в широкое светлое окно, выходившее на шумный, прямой как стрела Комсомольский проспект. Там ни на секунду не замирало движение. Шли люди, каких много в Москве: озабоченные и праздные, веселые и грустные, молодые и старые. По свободному от снега зимнему стылому асфальту проспекта проносились автомашины разных марок и цветов, шелестели синие троллейбусы. Иногда в этом потоке мелькали челноки-мотороллеры. Это жила Москва, единая в своем движении, и картина, которую Рогов видел за окном, заражала его энергией и свежестью.
В этот воскресный день людской поток на широком Комсомольском проспекте отчего-то казался Лене пасмурным, лишенным обычной говорливой веселости. Возможно, так и было на самом деле. Сердитый март упорно боролся с затянувшейся зимой и никак не мог ее осилить. Словно брюзжащий старик, шипел он на нее потеплевшим ветром, старался пробить бреши в сером месиве низкого неба, чтобы подарить земле и людям солнечное тепло, но все усилия его оказывались напрасными. Солнце меркло, а низкое небо становилось все темнее и темнее. Во второй половине дня посыпал густой мокрый снег, заставляя людей шагать быстрее, поднимать воротники пальто. Крыши троллейбусов и автобусов сделались белыми. Было слышно, как на улице дворники со скрипом сгребают сугробы. После четырех часов промозглые сумерки, перемешанные с туманом, опустились на холодные глыбы зданий, мостовые и тротуары. Первые вечерние огни, загоревшиеся над столицей, тоже казались блеклыми, им трудно было пробить кромешную мглу.
Леня в этот день готовил для отдельного издания свои путевые очерки об Арктике. Черная лента портативной «Эрики» пропустила через себя десять страничек с двойным интервалом, а на одиннадцатой запнулась: она так и осталась недописанной. Позабыв об арктических свирепых морозах и своих недавних друзьях, осваивавших там белые просторы, Леня упорно думал: «Нет, она не позвонит… Слишком уже поздно, чтобы она позвонила». Он поймал себя на том, что волнуется, и откровенно спросил: «Да тебя-то, друг, почему это взяло за живое? Ну не придет, сам съездишь в городок. Мало ли причин могло ее помешать? Да и велика ли охота разыскивать в Москве незнакомый адрес? И все ж таки ты волнуешься больше, чем положено».
Он тотчас же себе признался, что действительно очень хочет, чтобы появилась в этой комнате девушка, чтобы, выбежав на звонок, он увидел ее румяное с холода лицо и тающие на меховой шубке снежинки. И чтобы она застала его именно за «Эрикой», рядом с которой уже лежат первые страницы нового очерка, названного «Белое безмолвие». Она бы сразу поняла, как удачно полемизирует он с Джеком Лондоном, у которого умышленно заимствовано это название. Ведь именно для этого он с утра наводил чистоту в комнате, продумал все до мелочей, в том числе и беспорядок на своем рабочем столе: разбросанные сувениры, привезенные им из многих стран, и выставленный напоказ толстый фотоальбом с десятками экзотических снимков.
Но время шло, а никто не звонил. Сумерки за окном уже значительно погустели. Рогов включил телевизор и, разочарованно позевывая, впустил в комнату серенаду какого-то эстрадного концерта. Певец с высокой, смахивающей на парик шевелюрой меланхолично повествовал о том, что у него во дворе опять дождик идет. Плакали навзрыд под этот дождик саксофоны, неистовствовал тощий пианист. Рогов переключил программу. На экране заметались в залихватском танце кавказские джигиты. Не успели они завершить последние отчаянные прыжки, диктор объявил кинофильм «Верные друзья». Леня выключил телевизор и, чтобы получше осмыслить одиннадцатую, трудно дававшуюся страницу, лег на диван и заложил руки за голову. От ненастной, тоскливой погоды клонило в сон. Он зажмурил веки и сладко потянулся.
Телефон взорвался длинным звонком. Вскочив с дивана, он схватил трубку, едва не уронив ее, и совсем растерялся, услыхав знакомый звонкий голос:
– Это вы, Леонид Дмитриевич?
– Ну да, я. Самым подлинным образом я.
– Докладываю, что приехала.
– Где же вы сейчас, Женя? Скажите. Я поймаю первое такси и подскочу, чтобы вам не терять напрасно времени.
– Спасибо, но я совсем рядом. Только что была в магазине «Синтетика», потом пошла по проспекту и незаметно очутилась у вашего дома.
– Значит, вы у подъезда? – пересохшим от волнения голосом осведомился Леня. – Вы звоните из желтой будочки.
– Совершенно верно, из желтой.
– Я… я сейчас выскочу вас встретить.
– Да не надо, Леонид Дмитриевич, – засмеялась она совсем уже откровенно, – кнопку седьмого этажа я на лифте и сама в состоянии нажать.
Он распахнул дверь и стоял на лестничной площадке до тех пор, пока кабина лифта не остановилась. Женя в белой шубе и теплой лыжной шапочке, со свертком в руках, веселая и раскрасневшаяся, шагнула к нему.
– Подержите мои покупки, Леонид Дмитриевич, и укажите, где раздеться. Впрочем, я уже вижу вешалку.
Она вошла в комнату, потирая порозовевшие ладони. Маленькими веселыми искорками сверкали на бровях тающие снежинки.
– Как у вас все здесь интересно! – нараспев сказала Женя, оглядываясь по сторонам. Еще не было случая, чтобы человек, впервые переступивший порог этой комнаты, безразлично отнесся к Лениному фотоискусству. Фотоснимки, развешанные в продуманной асимметричности, сразу привлекали внимание, и Женя, как первоклассница, захлопала в ладоши.
– Боже мой, до чего же прелестны эти тигрята! Где вы их так удачно подкараулили?
– У нас на Амуре, – словоохотливо пояснил Рогов, – специально с тигроловами пять дней ходил по тайге. Самку они изловили, а этих, в то время еще совершенно бес обидных, сирот мы позировать заставили немного.
Женя долго рассматривала африканские пейзажи, борьбу путешественников с грозной анакондой и тут же рядом фотоснимок широколицего курносого парня в тулупе на фоне бесконечных ледяных просторов.
– Повар полярников Леня Луков. Мой тезка, – представил Рогов, – прошу любить и жаловать. Вы и вообразить не можете, каким запасом юмора обладает этот человек. Зимовщики утверждали, что он один в состоянии заменить эстрадную программу. Кулинар первого класса. Работал, работал в московском «Гранд-отеле» и – добровольно на полюс. Мы так и называли там нашу столовку – «Гранд-отель». А вот эта белая медведица довольно свирепого нрава, – показал Рогов на соседний снимок, на котором зверь, поднявшись на задние лапы, шел на объектив. – Неприятное было свиданьице… радист ее наш подстрелил.
– А вот этого зверя кто подстрелил? – вдруг засмеялась Женя, и Леня поднял голову. С большого цветного фотопортрета смотрела на них белокурая молодая женщина, словно удивляясь, что эти двое могут здесь делать в ее отсутствие. Что-то холодное, подчеркнуто правильное было в ее красоте, будто сошла она с фарфоровой чашки дорогого сервиза.
– Это Нина… моя жена, – ответил Рогов тихо, и Женя перестала смеяться. Он помолчал и поправился: – Бывшая жена.
– Бывшая, – повторила за ним непосредственная Женя, – такая красивая, и уже бывшая.
Рогов пожал плечами.
– Ей не очень-то нравилось, что я такой бездомный бродяга. Да и поклонников было слишком много. Один из них оказался удачливым. – Он подумал и невесело прибавил: – Вероятно, мне надо было отказаться от профессии журналиста. Глядишь, и сберег бы красивую жену.
Женя не улыбнулась.
– А вот это что? – воскликнула она, подходя к столу и явно желая переменить тему разговора.
– Зуб акулы.
– Что вы говорите! – воскликнула Светлова. – Самой настоящей?
– Самой настоящей. Той, что довольно искусно хватает на пляжах непослушных, далеко заплывающих купальниц. У меня таких зубов три. Хотите, один подарю?
– И всегда будете вспоминать, какая была у вас в гостях попрошайка?
– Что вы!
Рогов рад был сейчас перевернуть всю квартиру, лишь бы вызвать у Жени еще две-три улыбки. И вскоре, как Женя ни противилась, пришлось ей принять и другие трофеи: расческу из настоящей слоновой кости, нож для разрезания книг, ручка которого была обтянута крокодиловой кожей.
– Нет-нет, пора прекратить это ограбление, – засмеялась Женя, когда Рогов попытался отдать ей японскую зажигалку. Потом она села за рабочий стол и, скользнув взглядом по разбросанным вокруг пишущей машинки листкам, улыбнулась.
– Леонид Дмитриевич, «Белое безмолвие» это уже не ново. У Джека Лондона читала. Или вы забыли про Джека Лондона?
– Нет, Женя. Его я и имел в виду, решив так назвать свой очерк.
– Почему?
– Да потому, что мой очерк – это полемика с ним. Вы помните, Женя, в чем Джек Лондон видел свое белое безмолвие?
Рогов сел напротив своей гостьи на широкий диван и с увлечением продолжал развивать свою мысль. Светлова смотрела на смуглое его лицо, и полный искреннего вдохновения, несколько сумбурный Леня казался ей очень добрым и в сущности довольно несчастливым парнем. Еще раз искоса поглядев на портрет, она подумала, что эта красивая женщина едва ли когда его любила. Голос Рогова до Жениного слуха доносился будто издалека:
– Белое безмолвие, по Джеку Лондону, это огромное заснеженное и завьюженное пространство без конца и края. Бредет по нему одинокий герой, наталкиваясь на тысячи опасностей. Борется за свое существование. Он один во всем мире. Погибнет он или выживет, до этого ни одному черту дела нет. Вот что такое белое безмолвие у Джека Лондона. И тут же параллельно наши дни. Вот что на Южном полюсе случилось. Ушел у полярников на аэродром почтальон, а в это время разыгралась пурга. Пять часов бушевала. Пока восстанавливали связь, еще час с лишним прошел. Кинулись – нет почтальона. От нас ушел, до аэродрома не дошел. Сбился с дороги, попал в бурю и остался, как джек-лондонские герои, один в белом бескрайнем безмолвии. Но разве о нем забыли? Десятки упряжек и лыжников еще в бурю вышли на поиски. А как только ветер утих, все вертолеты поднялись. Потом я его в больнице навестил. Спрашиваю: «Было тебе страшно?» – «Да, – говорит, – потому что самое страшное – это нелепая смерть». – «И ты потерял уверенность, что победишь в поединке со смертью?» Он на меня этак насмешливо посмотрел и говорит: «Во-первых, не было поединка. А было многоборство всех полярников со смертью, захотевшей прибрать меня к своим лапам. Нас было много, она – одна. А самое главное, что мне помогло остаться в живых, так это вера, что не бросят меня на произвол судьбы. Как я думал, так все и закончилось».
– Хороший замысел, – согласилась Женя, и еще раз ее глаза скользнули по диковинным фотоснимкам, которыми была украшена комната.
– Много же вы поездили по белу свету, Леонид Дмитриевич.
Рогов одобряюще сказал:
– Придет время, вы больше моего поездите, Женя.
Девушка пожала плечами.
– Ой, когда-то это будет! Да и будет ли еще?
– Будет, Женя, – уверенно произнес Рогов, – непременно будет. Смотрю сейчас на вас и думаю. Вот вы сегодня бегали по городу, и в потоке пешеходов никто нигде вас не выделял. Прошла обыкновенная москвичка, и все тут. А что будет через годик, другой? Прохода любопытные не дадут на этом же самом Комсомольском проспекте.
– Что вы, Леонид Дмитриевич, – смутилась Светлова. – К тому времени, когда я слетаю, космонавтов станет много, они уже не будут в диковинку.
– А вы хотели бы быть обязательно в числе первых? Боитесь, что у вас получится, как во французском анекдоте?
– Как это?
– Спрашивает один француз у другого: «Кто первый перелетел Ла-Манш?» – «Блерио». – «А второй?» Молчание, никакого ответа.
– Нет, я этого не боюсь, – засмеялась Женя. – И вовсе не мечтаю быть в числе первых. Первые утверждают, это верно. Но вторые и третьи в космонавтике идут дальше их и тоже утверждают свое, новое. Так же как Гагарина именуют сейчас Колумбом космоса, кого-то в свое время назовут Колумбом Луны, Колумбом Венеры, Марса…
– Такую дочь Земли, как вы, я бы на Марс не посылал, – неловко пошутил Леня, – это небезопасно. Ведь обратно марсиане могут не отпустить.
Она посмотрела на крепкие загорелые руки Рогова и подумала: «Ими он пишет очерки о добрых людях и о природе. Лицо доброе и доверчивое. Такого легко было обмануть этой женщине».
– Чего же я расселся, как пень? А кофе! – вдруг всполошился Леня.
Он сварил кофе, достал из холодильника торт, тарелку с бутербродами и красноватую бутылку рома. Женя с интересом рассмотрела броскую этикетку: заросли джунглей и индеец, переправляющийся на пироге через узкий бурный поток. Когда он поставил на стол две маленькие хрустальные рюмочки, девушка предупреждающе подняла ладонь.
– Меня увольте, Леонид Дмитриевич. Вы еще одной детали из моей биографии на знаете. Когда мне исполнилось четырнадцать и пришло время вступать в комсомол, я записала в дневник: «Сегодня дала клятву на всю жизнь никогда не курить, не ругаться и не пить вина». А вы выпейте. Вы же мужчина, и притом за окном такая поганая погода. Совсем, что называется, «буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя»…
– А я один никогда не пью, – заявил Леня.
Светлова посмотрела ему прямо в глаза, тонкие ее губы насмешливо вздрогнули.
– Ну а если вас попрошу, очень-очень, – дразня, сказала она.
– Тогда вынужден капитулировать, – развел он руками и налил маленькую рюмку. – За ваше здоровье и за ваши будущие успехи, Женя.
Она подняла чашку кофе в знак того, что с ним чокается, улыбнулась.
– О чем вы сейчас подумали? – спросил он.
– Насколько вы в сравнении со мной мудрее, – застенчиво промолвила девушка, – и в армии уже послужили, и полсвета объездили. А у меня все впереди: и ошибки, и приобретения.
– Вот это и хорошо, – улыбнулся Рогов, – и не торопитесь накапливать этот самый жизненный опыт.
Леня мельком отметил: уже шесть часов. За окном промозглые сумерки. Уличные фонари с трудом пробивают туманную мглу. Он включил люстру. От яркого света сразу растаял интимный уют. Будто застыдившись чего-то, Женя беспокойно поглядела на ручные часики. Ей подумалось о возвращении. Перед глазами встала дорога от полустанка сквозь молчаливый лес, без твердой уверенности, что в такой поздний час попадется попутная машина. Она зябко поежилась.
– Вот это да! – вырвалось у Рогова. – Нам же надо просмотреть запись беседы.
– А там много страничек?
– Около двадцати.
Женя встрепенулась, в глазах ее появился невыразимый испуг.
– Пощадите, Леонид Дмитриевич. Неужели вам меня ни капельки не жаль? Я и до дома тогда не доберусь. А завтра в девять лыжная прогулка по расписанию.
– Что же мне делать? – вздохнул Рогов. – Дожидаться, когда вы снова захотите посетить Третьяковку? Я опять всю неделю не смогу к вам выбраться.
Снимая с вешалки меховое пальто, Женя весело призналась:
– А я и не попала сегодня в Третьяковку. Там столько было экскурсантов! Решила отложить на следующее воскресенье.
– Это замечательно, – одобрил Рогов, помогая ей одеться, – если вы согласитесь, я с великим удовольствием буду вас сопровождать. А потом и запись беседы прочитаете. Идет?
Женя кивнула.
* * *
Трое суток прошло с той минуты, как двойная массивная дверь сурдокамеры захлопнулась за Алексеем Гореловым и он очутился один в тесном помещении, ограниченном четырьмя звуконепроницаемыми стенами. За дверью остались врачи, лаборантка Соня, Володя Костров и Марина Бережкова. Ему почему-то особенно запомнилась Марина. Она пришла в синем платье с букетиком подснежников и была подчеркнуто ласкова с ним. Алеша не обратил внимания, что его спортивный свитер немного порвался на локте. Марина немедленно вооружилась иголкой, заявив, что в таком виде ни за что Горелова не отпустит. Алеша заметил: у нее были короткие и сильные рабочие пальцы. Не сильно эффектная внешне, Марина вся светилась щедрым добрым светом. Голос у нее был певучий, полные губы таили ласковую усмешку, застенчивые глаза с откровенной привязанностью глядели на Алексея.
– Главное, желаю вам хорошего крепкого сна, – шепнула Марина ему на прощанье, – это очень плохо, когда к тебе не приходит в сурдокамере сон. Особенно на седьмые и шестые сутки. А я буду ежедневно с вами видеться. По телевизору, разумеется.
– Это меня будет ободрять, – сказал, улыбаясь, Алеша.
Он вдруг подумал, что не испытывает к девушке никаких чувств, кроме искренней благодарности. Даже жалко стало Марину при мысли о том, как переполнено ее сердце нерастраченной добротой. Горелов понимал – Марина стесняется, что она такая внешне невыразительная и грубоватая. Девушка действительно стыдилась своих красноватых крепких рук, широкого курносого лица, полноты. Когда в физкультурном зале ей приходилось вместе с Женей Светловой выполнять на лопинге, турнике или брусьях многочисленные упражнения, Женей откровенно любовались и прощали ей срывы. Бережковой, как должное, ставили молча пятерки, ибо не было в гарнизоне лучшей гимнастки. Горелов уже знал, что девушка прошла почти все виды тренировок и даже на центрифуге обнаружила завидную выносливость. Они часто занимались вместе в библиотеке, и Алеша с удовольствием ей помогал. «А вот полюбить ее по-настоящему я бы, наверное, ни за что не смог», – рассуждал он.
В сурдокамере царила мертвая тишина. «Вот так, видимо, будет и в кабине настоящего корабля», – подумал Горелов. Он медленно обошел сурдокамеру. Она была настолько тесной и неудобной, что Алексей даже не знал сначала, где поместить кисти, краски и два холста, что разрешили ему захватить с собой. Но постепенно пригляделся и нашел для всего место. Он не знал, что так бывает с каждым человеком, помещенным в сурдокамеру: опытный Василий Николаевич Рябцев называет это «приспосабливанием к окружающей среде».
Особенно любил Рябцев рассказывать историю о том, как отсидел в сурдокамере франтоватый Игорь Дремов. Дома он редко занимался хозяйством. Чтобы комнату когда подмел или посуду помыл – об этом и речи быть не могло. А вот к концу тренировки в сурдокамере до того дошел в своем стремлении заполнить время, что начисто собственными руками вымыл все ее помещение: и пол, и стены и немногочисленную мебель.
Алеша Горелов к исходу первых суток прекрасно приспособился ко всему, и сурдокамера стала казаться ему даже уютной. «Это не самое трудное из испытаний, – решил он, – подумаешь, несколько дней одиночества! Переживу». Он с любопытством опробовал кресло. На нем можно было и сидеть и спать, если придать ему горизонтальное положение. Небольшой рабочий столик, косое зеркало над ним, белая металлическая раковина для умывания, шкаф-холодильник, где в одинаковых отсеках лежат суточные пайки: концентраты, термос с горячим супом, емкость которого рассчитана на несколько дней, вилки, ложки и чашки – вот, пожалуй, и все. Раз в сутки, и всего на несколько минут, ему подавалась горячая вода, чтобы успел заполнить ею термос. На голове Алексея белый матерчатый шлем, он служит опорой электродам, а с ними Горелов прочно соединен на все время пребывания в камере молчания.
В первые сутки своего «заключения» Алеша чувствовал себя как пассажир, начавший длительную поездку по железной дороге, едущий, скажем, из Москвы во Владивосток. Тронулся поезд, и тебе чертовски все интересно. Прильнув к окну, ты наблюдаешь за быстро меняющимися пейзажами; вагон и все его оборудование кажется тебе до крайности любопытным. На вторые сутки ты все так же увлеченно смотришь в окно. На третьи – играешь в шахматы и домино… Алеша еще не знал, что на пятые и шестые сутки такой пассажир резко меняется. К этому времени все истории уже рассказаны, партии в шахматы сыграны. Взгляните на такого пассажира, и вы не узнаете своего прежнего знакомца. Оживленность уступают место унынию и апатии. Соседи по купе ему до чертиков опостылели, а костяшки домино он перемешивает уже с явным отвращением.
Но ведь это в поезде, среди людей! А сколько же воли и твердости необходимо человеку, чтобы провести то же самое время в абсолютном одиночестве, заточенным в толстые звуконепроницаемые стены сурдокамеры! Алеша Горелов решил рисовать. Он давно не брался за кисть и сейчас все свободное время посвятил новой картине. Почему ему захотелось писать портрет Марины Бережковой, он и сам бы не смог дать отчета. Очевидно, слишком большое впечатление произвело на Алексея ее светившееся добротой лицо. На портрете Марина получилась лучше, чем в жизни. Он не придал ее лицу слащавости, искажающей черты, но сделал чуть правильнее и тоньше широкий вздернутый нос, чуть погуще брови, а в глазах сохранил ту самую дымку, что постоянно туманила ее взгляд, делало его застенчивым и каким-то очень доверчивым. Коротко остриженные густые волосы Марины с двумя гребенками, не позволяющими им рассыпаться, получились так ярко, что Горелову самому захотелось до них дотронуться. Алеша долго работал над линией рта. Губы не удавались, были то слишком бледными, то неестественно яркими. Решил их сделать потоньше и аккуратнее, но передумал, опасаясь, что портрет от этого слишком разойдется с оригиналом. Когда Алеша устал и надо было отвлечься от картины, она накрыл ее простыней. Взгляд его упал на белую широкую стену шкафа-холодильника.
– Черт побери, – вырвалось у него, – я художник и до сих пор не догадался украсить свой быт.
Алеша вырезал из бумаги несколько круглых листов. На одном нарисовал окорок с аппетитно зарумяненным бочком, на другом – овальное металлическое блюдо, на каких обычно подают в ресторанах самые изысканные яства. Подумал и наполнил его коричневыми ломтиками шашлыка, окруженного богатейшим гарниром. Каждый стебелек зеленого лука, каждый кусочек помидора и ломтики лимона и каждая капля соуса ткемали были выписаны им с такой старательностью, что сам автор неожиданно почувствовал вкусный запах. На третьем листке появился бочонок вина с надписью: «Цинандали». Горелов расклеил все эти рисунки на дверцах отсеков, где хранились суточные запасы его спартанской пищи, мало общего имевшие с изображенными яствами. Над ними появилась короткая выразительная надпись: «Ресторан первого класса „Юпитер“.
Окончательно повеселев, Алексей возвратился к портрету Марины и к вечеру его закончил. Портрет ему очень понравился.
Время до отбоя прошло настолько незаметно, что он даже удивился. Удобно постелив себе в кресле, Алексей заснул крепким сном хорошо поработавшего человека, и если бы не будильник, то обязательно бы проспал подъем. Завтрак, состоявший из поджаренного им на электрической плитке куска мяса и горячего чая, пришелся по вкусу. Он сел заполнять очередную страничку бортового журнала. Авторучка оставляла на бумаге короткие ясные строчки. Внезапно он ощутил на лбу испарину. «Отчего бы это?» Чувствовал себя он бодро, но с каждой минутой становилось почему-то все жарче и жарче. Он перевел глаза на термометр и покачал головой: вот тебе на, вместо обычных восемнадцати дали целых двадцать восемь. Очевидно, Василий Николаевич Рябцев решил попробовать, что скажет его организм энцефалографу в этом случае. Что же, посмотрим. Заложив руки за спину, горелов прошелся по камере, словно принимая вызов.
«Сурдокамера – это тот же космический корабль, – рассуждал он, – а там могут быть любые температуры, и я обязан их переносить».
Двадцать восемь градусов по Цельсию ничего особенного не представляют в обычных условиях. Но в сурдокамере человек находится взаперти. Забирая из окружающего воздуха кислород, он все время выдыхает углекислоту, и, как бы хорошо ни работали воздухозаборники, какая-то ее часть невидимым тяжелым пластом оседает в сурдокамере и при повышении температуры усиливает нагрузку на организм.
Прошло несколько часов. Ртутный столбик термометра оставался в прежнем положении. Сидеть, ходить и стоять Горелову чертовски надоело. Чтобы легче переносить новое испытание, он старался не думать о жаре. Это не удавалось. Духота все сильнее и сильнее наваливалась на него. Несколько раз он брался за влажное горло с таким видом, словно хотел расстегнуть тесный воротник, но тесного воротника не было – пальцы наталкивались на мягкую материю свитера. Звенело в ушах, даже ресницы были влажными. Дыхание становилось тяжелее, казалось, поднимается он в гору, а дороге не видно конца.
«Но ведь так надо, – убеждал себя Алексей, – предположи, что ты летишь к далекой планете, тебе не час и не три надо бороться с нехваткой кислорода. Это трудно, но надо. Какой же ты космонавт, если не выдержишь, а?»
Алексей достал самый небольшой по размеру лист загрунтованного картона, снова взялся за кисть. Она добросовестно наметила зимнюю деревенскую улицу, длинный строй нахохлившихся под соломенными крышами избенок, дымки из труб, отвесно устремленные в синее стылое небо, и дорогу, заваленную огромными сугробами. Потом подумал и прибавил к пейзажу мостик у околицы над заледенелой речушкой.
Пока Горелов писал пейзаж, все время видел перед глазами снег и зимнее небо, – в жаркой сурдокамере дышать становилось все легче и легче, даже пот перестал проступать на лбу и щеках. Отодвинув пейзаж, он критически вгляделся в него. Рисунок, по мнению Алексея, ничего особенного не представлял. Почему же так легко ему вдруг стало и так приятно? Он посмотрел на термометр и облегченно вздохнул. Вот в чем дело! Пока он рисовал зимний пейзаж, испытание высокой температурой закончилось, и в сурдокамере снова водворились столь приятные восемнадцать градусов.
Так прошел и второй день. А на третий случилась беда, которую ни врач-психолог, ни его ассистенты, ни сам космонавт не могли и предвидеть. К вечеру он почувствовал испарину и легкие боли в желудке. Боли стали нарастать и беспокоить сильнее. Проклиная все на свете, Алеша ложился то животом вниз, то на спину, когда экраны на ночь временами выключались, прикладывал к животу подушку – ничего не помогало. Удрученный и похудевший, промаялся он животом и весь четвертый день. Чтобы не вселять подозрений у наблюдавших за ним медиков, Алексей в назначенное время добросовестно принимал пищу, а потом скрипел зубами от новых болей.
«Черт побери! – думал он. – А что, если тебя этаким образом во время настоящего космического полета хватит? Каюк». Было и смешно и грустно.
* * *
Вечером Марина отыскала Женю Светлову в классе самоподготовки. Женя сидела над толстым учебником политэкономии и конспектировала главу «Прибавочная стоимость». Увидев встревоженное лицо подруги, немедленно все отложила в сторону.
– Что с тобою, Маринка?
– Понимаешь, – сбивчиво объяснила Бережкова, – мне очень не нравится Алеша Горелов.
– Вот как? – игриво улыбнулась Женя. – А я полагала, что он тебе, наоборот, нравится.
– Да нет, Женя, – отмахнулась подруга, – я о том, какой он сейчас в сурдокамере.
– Похорошел или подурнел? – все так же игриво спросила Женя.
– Да перестань ты! – возмутилась Бережкова. – С парнем на самом деле что-то неладное. Может, заболел, а сказать – самолюбие не позволяет, боится, что опыт могут прервать. У меня есть план. Сейчас на дежурстве Сонечка. Зайдем к ней на полчасика и уточним, что с ним.
У Жени округлились глаза.
– Что ты, Марина! Или забыла, что с тем, кто в сурдокамере, переговоры запрещены?
– Спокойно, Женечка, я все продумала. Соня нас пропустит, и ты пойдешь к ней. А я задержусь в первой комнате. Там есть отверстие в сурдокамеру для киноаппарата. Оно закрыто черной металлической трубой, которая снимается лишь в том случае, если надо производить киносъемку. По ней можно пробить морзянку даже обыкновенным карандашом.
– Маринка, ты гений!
Взявшись за руки, подруги пробежали по снежной аллее к учебному корпусу, поднялись на третий этаж. На дверях сурдокамеры висела знакомая всем табличка: «Громко не разговаривать. Идет опыт!»
Марина, встав на цыпочки, шепнула:
– Ты будешь Сонечке зубы заговаривать, а я с Алешей свяжусь, – и нажала на кнопку звонка.
Как они и ожидали, дверь отворила лаборантка Сонечка. Вышла она с томиком Тургенева в руках, свеженькая, несмотря на поздний час. Появление космонавток обрадовало ее.
– Девочки, вот не думала!
– А мы к тебе, Сонечка, – затараторила бойкая Женя. – Понимаешь, шли мимо, видим, в окнах свет и сразу подумали: давай проведаем. Небось скучно тут одной.
– Ой, какие вы молодцы! Я действительно одна. Василий Николаевич встревожился. Ему вид Горелова не нравится. Говорит, болезненное лицо. Пошел к полковнику Лапотникову советоваться. А я одна. Идемте на Алешу посмотрим.
– Идем, идем, Сонечка, – Женя схватила лаборантку за локоть и довольно энергично повела к пульту управления. Тем временем Марина юркнула в маленькую комнату, не зажигая в ней света, быстро нашла металлическую трубку, входящую в сурдокамеру, вынула из кармана своей кофточки тонкий напильник и уверенно, четко выбила по Морзе:
– Я космонавт-икс, я космонавт-икс. Переговоры храни в тайне.
Полминуты спустя она приняла ответ:
– Чего тебе надо?
– Алеша, – взволнованно спросила Марина, – что с тобой? Ты так похудел.
В тишине она ловила ответную дробь, складывала в слова.
– А ты бы не похудел, если бы тебя так несло?
Марина прыснула со смеху. Это ей-то, девушке! Хорошо, что нет Женьки, разнесла бы по всему свету. Марина почувствовала, как уши и щеки ее запылали. Снова застучал по металлу напильник.
– Как питаешься?
– По расписанию.
– Глупый! Немедленно прекрати, – простучала Марина. – Делай только вид, что ешь. Перейди на чай и сухари, все пройдет. С незнакомыми корреспондентами будь вежливее.







