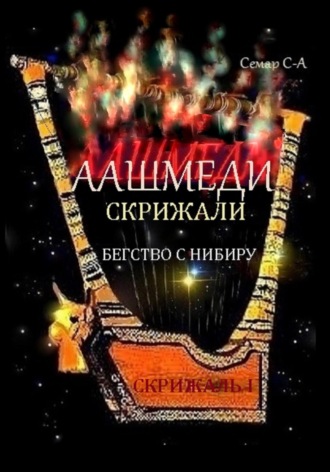
Семар Сел-Азар
Аашмеди. Скрижали. Скрижаль 1. Бегство с Нибиру
Его, давно нечесаные, свалявшиеся волосы, длинной паклей качались над перекошенной личиной. Не желая больше слушать бред помешавшегося человека, Мэс-э поспешил к выходу, но тот успел подскочить и схватить его за плечи, и заглядывая своими мутными, выступающими из глазниц яблоками ему в глаза, зашептал, не вытирая выступающей слюны изо рта:
– Что, не веришь? Тогда вспомни судьбу воинов, сгинувших под палящими лучами Уту, чьим именем мы клялись. Вспомни о Далла-Дине, поплатившимся за святотатство жизнью и добрым именем. Посмотри на меня.
С трудом освободившись от его жарких объятий, гость бежал, уже не стараясь сохранять достойный вид. А вслед ему неслось:
– Помни! Они придут за тобой! Те, кого ты в своем честолюбии и жажде наживы, уничтожал и мучил, нарушая все законы Ме, лишая их разлагающиеся тела должного уважения! Придут за оплатой! Они придут за всеми нами! И скоро всему наступит конец! Никому не спастись, и ничего уже больше не будет…!
Только выскочив за ворота, Мес-э едва пришедшему в себя от ужаса, удалось выругаться в сторону дома с сумасшедшим, продолжавшим кричать свои пророчества.
7. Воздаяние.
В тиши пустого дома, слышно только собственное дыхание, скрип подминаемого сиденья и биение одинокого сердца. Слышно как за стеной: кипит, бурлит и клокочет чья-то безмятежная, страстная, бурная, счастливая или не очень, меняющаяся или однообразная, но такая живая – чужая жизнь. Как хотелось ему выйти и присоединиться к ним, чтобы самому почувствовать снова, это дыхание жизни. С тех пор как он остался один среди людей, он прослыл человеком нелюдимым, отшельником и затворником. Да, иногда он не мог думать о чем-то другом и не хотел никого видеть, но это ведь не значит, что он всегда такой. Он был бы рад, если бы кто-нибудь завел с ним разговор, ни о чем, просто так, но так, как разговаривают приятели между собой, делясь новостями и впечатлениями о чем-нибудь житейском, простом, но таком живом. Но он также прекрасно понимал, что этого не будет, и оттого, чувствовал себя еще более одиноким. Поначалу он пытался завязывать с людьми отношения, но не находя понимания, воспалялся, стараясь достучаться, и этим лишь отпугивал их. И чем чаще это случалось, тем меньше людям, шарахающимся от него, хотелось сталкиваться с ним. Вся беда его заключалась в том, что он тянулся к людям, но не мог или не умел с ними общаться, а они не понимали или не желали его понимать. Постепенно дом его, и без того ставший одиноким, окончательно пришел в запустение. Да так быстро, что снаружи выглядел просевшим, черным и заброшенным много поколений назад, и не всякий смельчак отваживался подходить к нему. А он врос в него, и никуда не выходит уже, лишь иногда позволяя пугливым рабам приносить еду и питье, и совсем уж редко прибирать за собой. Вот тогда и пришел к нему он, злорадствуя его горю. И мысль о том, чтобы забыться в новой жизни, забылась сама, поглощенная болью и навязчивыми видениями, усилившимися с вынужденным затворничеством.
Если бы кто-нибудь из тех, кого он считал друзьями, пришел к нему и просто бы погрустил вместе с ним, в дни, когда ему бывало особенно тяжело, он бы мог сказать наверно, что у него есть друзья. Но они приходят, вот так, лишь тогда, когда им что-нибудь нужно от него, чтобы что-то попросить, что-то выведать, и бередят душу. И лишь думы не оставляют его никогда, навевая своими воспоминаниями, его и без того изможденную видениями голову.
Они шли, гонимые страхом перед разгромом. Удивительно, а ведь еще недавно казалось, что ничто не сможет сломить доблестные силы черноголовых, и уж тем более не эти жалкие варварские горстки, не знающие порядка и правил ведения войн. Казалось, развороши это гнездо дикости, и ничто уже не вылупится из него без их дозволения. Вот только гнездо оказалось осиным роем, и теперь разорители сами не рады, что просто прикоснулись к нему. Разворошили так, что уничтожив малую часть его, потеряли свое, и главное, обессилив не могли, не то что искоренять или подчинять, но даже и противостоять кому-либо. Вот и бросили все, даже не подумав о том, что наспех сготовленные к переходу потрепанные войска, это не совсем то, какими полными сил, с полной выкладкой вооружения и продовольствия, большим обозом, с множеством вьючных и колесниц, они пришли сюда. И путь, которым они пришли сюда, был совсем не тот, которым они с изможденными воинами отправились обратно. Если бы он знал, как трудно обремененным плутать по пустыне, не зная даже точно, когда же покажется спасительный островок с прохладным, живительным источником, он ни за что бы, не пошел на этот губительный шаг. Даже зная наверняка, что йаримийские колесницы с их лошадьми растоптали бы их, а дальнобойные луки разили бы их без промаха, и воины, с трудом только избавившись от страшного противника, снова подверглись бы нападению и пали от смертоносных жал. Он предпочел бы, чтобы они встретили смерть, как подобает воинам, в бою и с оружием в руках, а, не изнывая от жары и жажды. Но даже теперь, он утешал себя тем, что приняв трудное решение, спас половину войска. Горькая правда была в том, что он не мог ручаться, что враг придет, но и оставаться, полагаясь на то, что он не нагрянет, было самоубийственно. Вот и шли они под солнцем, обдуваемые жестокими ветрами, не приносящими прохладу, а наоборот выветривающими из них последние силы. Воинам, страдающим от обжигающего солнца, не имеющим достаточных запасов воды, все труднее было объяснить, важность для их самосохранения соблюдения порядка. Умирающих мучительной смертью людей, трудно приучить к порядку. Мучимые жаждой, сгорающие под дланью Уту – разгневанного клятвенной ложью его именем, воины начинали сходить с ума и бросались друг на друга с оружием, и только благодаря верным воинам, получавшим за службу больше воды при ее распределении, удалось утихомирить назревавший мятеж.
Зная, что сначала должен предстать перед лугалем, чтобы отчитаться, и отлично понимая, что за победный, но такой бесславный, завершившийся столь печальным исходом поход, в столице его не ждет ничего хорошего. Лушар чудом дойдя с половиной войск до границ калама, оставив выживших под опекой кингалей и спокойный теперь за их судьбу, спешил домой, где его ждала его маленькая эрес. Он готов был принять любое решение единодержца, но для начала хотел увидеть жену и дочь, быть может, в последний раз. Погнав в сторону дома, он думал повидаться с родными, пока остатки славного войска не добрались до столицы. А затем, упреждая гнев Ур-Забабы, явиться перед ним и объяснить, что всему виной явилась трусость и предательская обособленность колесничих во главе с их старшиной Мес-э, бросивших погибающее войско и не пожелавших обременять свои колесницы лишним грузом, оправдывая это тем, что ни они, ни их животные, не предназначены для перевозки тяжестей. Набравшись душевных сил дома, он примет любую кару, какая полагается ему как человеку возглавлявшему поход, но сделает все, чтобы и виновные понесли заслуженное наказание. Так ему думалось тогда. Но не успел Шешу еще даже узреть стен родного города, как был перехвачен гонцами, сопровождаемых державной стражей, с предписанием срочно явиться в Киш.
Восседая на возвышении, в резном, украшенном драгоценными каменьями кресле, изготовленном лучшими умельцами из кости дивного заморского зверя и благовонного дерева произрастающего где-то далеко у моря, единодержец принял его весьма прохладно. На подступах к нему, стояли грозные стражи и не давали приблизиться ближе, хотя казалось, что хищные животные, сотворенные из золота, итак не дадут подступиться любому со зломыслием, свирепо рыча по-звериному, и громко хлопая крыльями крича по-орлиному. Видя, что кто-то уже доложил правителю о бедственном положении войска, не объяснив при этом всей сути произошедшего, Шешу все понял. Сомнений у него не было, сообщить об этом, мог только, кто-то из его благородных и вельможных соратников. Точнее самых высокочтимых из них. Только они, убежавшие далеко вперед, могли принести известие о заплутавших эштах раньше него, выехавшего впереди войска. Только кого-то из них, за столь печальное известие, в застенках Киша не ожидала пыточная дыба. Слишком много связывало их с государем, так, что даже и он не мог сделать им чего-нибудь худого, без оглядки на их богатейших родителей, и без волнения за свое дальнейшее спокойствие. Зная честолюбивый нрав их старшины, он не перебирал, кто мог, не только спасая свою шкуру, но и пользуясь возможностью возвыситься за счет его оплошности доложить об этом.
Все же надеясь на какое-то чудо, собравшись с духом, военачальник попытался все прояснить, но был перебит грубым выкриком с престола, обвиняющим его в трусости. Шешу ожидал этого, и потому страх был не таким сильным, каким мог бы быть, он боялся лишь одного, что его без разбирательств обвинят в предательстве, а это означает самое худшее. В ужасе ожидая, это страшное как проклятие слово – «изменник», он зажмурился, ожидая его, боясь как смертного приговора, но к счастью, к радостному его изумлению, лугаль не произнес его. Лушар с облегчением вздохнул, это оставляло ему надежду на то, что его семью не ждет разорение, позор и всеобщее порицание, а может быть, и он будет еще жив. Единодержец по своему обыкновению, не стал пока решать, что с ним делать, и Шешу по его приказу был спущен в яму, ожидать там своей участи.
Прошло какое-то время и его подняли, чтобы зачитать волю повелителя о лишении его всех званий и наград, и что ему запрещено впредь занимать военные и гражданские должности, но учитывая прежние заслуги, не лишали жизни и свобод, и даже оставили на кормление землю, наследованную от предков. «Что ж, я и сам хотел уже оставить службу, а чиновничьи накидки не по мне. Буду жить трудом земледельца в своем доме с семьей, и никогда уже не покину их». Так думал он с облегченной душой, идя быстрым шагом до родных мест, несмотря на истощение в ногах.
Подходя к дому, он не увидел никого возле него, и даже не слышал никаких звуков. Это его немного насторожило, но зная о болезни дочери, он лишь с сожалением для себя заметил, что должно быть оберег переданный им, не возымел еще своей силы. А как хотелось бы, чтобы она как прежде, выбежала его встретить. Но чем ближе он подходил, тем зловещей казалась эта неживая тишина. Медленно открывая дверь, он теперь боялся чего-то; будто от того, что он затянет время, этого не случится. Но это случилось все равно. В доме он застал только старую рабыню: не услышав шума открываемой двери, она продолжала с усердием прибираться, и только когда он ее окликнул, чтобы расспросить о семье, она подняла голову и, увидев его, скривясь в лице, заревела. Так он узнал, что остался совсем один в этом мире. Сидя над их могилами в доме, ошеломленный, он слышал уже сквозь туман, грустный рассказ рабыни о том, как уходили в мрачную страну Кур его родные. Растирая по запыленному лицу слезы и размазывая их грязью по щекам, старая служанка говорила, время от времени прерывая свое повествование едва сдерживаемым рыданьем:
– Когда до нас дошло твое послание, вместе с вестью о вашей великой победе, господин, маленькая госпожа ожила, словно цветок под первыми лучами. Она стала весела и говорлива, и все только и болтала о вашей скорой встрече, а подарок, который ты ей отправил, хранила как самое дорогое – у своей груди. Она стала больше сидеть и даже пробовала вставать. А госпожа, видя, как она поправляется, тоже повеселела, и говорила мне, что наверно единый бог и вправду так силен, как говорят, раз этот оберег – освященный им, так дивно помогает ее дочери. Так продолжалось несколько дней, пока маленькая госпожа не проснулась однажды посреди ночи исходясь рвотой и не заплакала. Когда же мы подбежали, чтобы помочь, хозяйка стала спрашивать ее: «Что болит?». Она отвечала, у нее все мол, болит.
Мы все делали, чтобы облегчить ее страдание, но ей с каждым днем становилось только хуже, она плакала и все жаловалась, что ее изнутри грызут злые маленькие удугу, и даже лекарь за которым госпожа посылала, не знал, как помочь. Бедная девочка, так страдала и плакала, что мы с госпожой от бессилия сами только рыдали, а она все спрашивала: «Где тятенька? Когда тятя приедет?». Как будто надеялась, что с твоим приездом господин, придет выздоровление. Она так и говорила: «Тятенька прогонит злую черную птицу, он разрубит ее своим большим мечом», а сама угасала как уголек. Так она и умерла, в ожидании тебя с большим мечом. А потом, уже после ее смерти, когда лекарь стал осматривать ее, чтобы понять, отчего она так быстро угасла, он показал нам на бурое пятнышко на ее груди. Все хорошенько, сверив, мы заметили, что оно точно совпадает с тем местом, где она держала твой подарок. Вот тогда то, госпожа, взвыв, начала всех проклинать, а в особенности, да не прогневается на меня всевышний и твоя милость, единого бога и тебя господин. И она сказала, такие нехорошие слова, что страшно даже пересказывать их, что мол, она проклинает: «…вашего изуверского бога, который любит давать надежду, а потом отнимать, получая удовольствие, от людских страданий». И так, плача и проклиная, она вышла. Мы же с мужем боясь ее гнева, а еще больше страшась гнева божьего, не пошли вслед за ней, а остались раплачиваться с лекарем. Ее еще долго было слышно, мы же, сидя ниже травы, боялись выходить, чтобы не навлечь гнев на свою голову. Когда крик прекратился, мы с облегчением вздохнули, думая, что она успокоилась, и вскоре вышли, чтобы получить от нее нужные поручения по подготовке похорон, но никак не могли найти ее. Когда же муж заглянул в хлев, он тут же кликнул меня. Я как глянула, меня ужас охватил, там, на власяной веревке висела госпожа. Звуки ударов ее ног о ясли, до сих пор стоят у меня в ушах. Она несчастная, не смогла смириться с мыслью, что поневоле стала причастна к смерти своего дитятко, позволив посланнику передать – «дар несущий смерть». Так она говорила.
Эти – последние слова, пробудили в Шешу какие-то важные обрывки памяти, на которые ранее он не обращал внимания. Он ухватился руками за голову, и начал раскачиваться пугая рабыню. Воспоминания вихрем проносились в голове и, соединяясь в единый образ, наводили на страшные мысли.
– Оберег, молот… Оберег, молот… – Бормотал он, раскачиваясь все сильнее. Пока не сорвался в крик, подскочив на месте. – Колдун! Это воздаяние? Что было бы, не нарушь я тогда слово?
Обеспокоенная служанка, старалась утешить его, думая, что он с горя клевещет на себя. Но он, продолжал:
– Он ведь обещал мне, что девочка моя не будет больше болеть и жена перестанет грустить. И вот моя эрес не болеет больше и жена больше не грустит, и никогда уж больше…, потому, что их нет больше… А если б я сдержал клятву? Свершились ли бы, его пророчество?
Он говорил, а служанка все причитала и плакала, и просила его, не казнить себя напрасным самобичеванием.
– Я б не поднимал молота и не связывал его черную силу оберегом – говорил он. – Не посылал бы эрес оберег для защиты из опасения за нее, и черная сила варварского бога не коснулась бы ее маленького нежного тельца. Выходит, пророчество не сбылось бы? К чему, тогда его слова? Если он знал, что может статься с ним и с его народом, почему допустил этому свершиться? Постигнуть это, моему разуму не под силу…
Он осекся, приходя к какой-то догадке, и холодея от ужаса, прошептал:
– А может… это свершилось бы, как он и обещал. И моя маленькая доченька, моя мышка, была бы жива и выздоровела, и бедная супруга моя, перестала бы тогда грустить и ненавидеть меня. «Слова богов истинны, но неоднозначны» – так он сказал.
И он скрежеща зубами, зарычал так громко и страшно, что служанка, все еще находившаяся рядом, с перепуга поспешила к выходу.
С тех пор прошло много времени, а он все не утешиться. Когда-то он пытался что-то изменить и, оставив прошлое позади, начать новую жизнь. И казалось, все уже забылось, и снова забрезжил рассвет, и появилось желание жить, и вот он даже, собирается свататься к богатой вдовушке – смешливой хохотушке, которая своим нравом могла бы расшевелить покойника, а пухленькими телесами, обогреть и успокоить припадочного. И как раз именно тогда, злобно ухмыляясь, явился он: тот, чей истерзанный труп давно растаскали птицы, а останки изъели черви, тот, чьи кости остались белеть где-то там – очень далеко, и череп вечным оскалом, улыбается теперь меняющемуся миру, где уже нет места для его племени. Но его дух стоял и скалился ему здесь, сверля его злобой болотных глаз. И он вспомнил, и всегда печальную жену и страдающую дочь, и, немея от ужаса, повторял вслед за волхвом лишь одно:
– Не исправить, то, что свершено.
И осознание того, что все зря, что ничего уже не будет, и что никогда он больше не увидит ни дочь, ни жену, и лишь этот гидим будет всегда сопутствовать ему, вернуло его в забвенную отрешенность. Вдова, весело подбоченившись, подсевшая было ближе, чтобы поболтать и полюбезничать, в ужасе отшатнулась, когда он, не отвечая на ее расспросы, раскачиваясь, беспрерывно повторял одно и то же:
– Не исправить, то, что свершено. Не исправить, то, что свершено…
8. Нибиру. Падший.
Продираясь сквозь толчею грязного люда, издающего неприятные запахи, два здоровенных детины, на носилках, изготовленных на скорую руку, осторожно, чтобы ненароком не задеть больную ногу, несли юношу. Сопровождая незваных гостей к более менее спокойным окраинам, расположенным в наделе работяг, где их не побеспокоят многочисленное ворье и попрошайки разбойничьего надела – мешая выздоровлению сына премудрого старца; они между тем, сами не чувствовали здесь себя уютно, спеша и время от времени озираясь по сторонам.
***
Свет проливаясь сверху, осветил распухшее от побоев лицо. Жмурясь от яркого света, пленник прикрыл глаза рукой, пытаясь разглядеть человека переступающего по перекладинам лестницы спущенной стражниками. «Поскорей бы уже, ждать нет больше мочи», подумал он. Но вглядевшись, узнал сгорбленность своего учителя. Наряду с радостью свидания с близким, его охватило чувство тревоги. Что заставило его оказаться здесь, желание попрощаться или просто увидеться? А может быть, все намного хуже и причина этому объяснима просто, и старика сюда тоже упекли, и страшнее всего, если из-за него, прихватив заодно с ним и его. Замерев сердцем, Аш ожидал самого худшего. Но бодрый вид старика, несколько успокоил его. Спустившись, абгал сам развеял все его опасения.
Склонившись над отроком, он взбадривал парня словами утешения, а сам, осматривая раны, оценивал возможность его подъема.
– Безсердные, вы повредили ему ногу, беспечно свергая вниз в эту бездну! – В сердцах воскликнул он, обращаясь к стражникам, пальцами ощупывая распухшую ногу.
Только тут Аш почувствовал, что правая нога не слушается и ужасно болит, неприятно ноя, резко и сильно при прикосновении к ней или неосторожном движении. Он удивился, как не замечал этого раньше.
– Да, что мы то? – Оправдываясь, проворчал старший стражник. – Мы его, что ли сюда свергали? Наше дело охранять, и следить, чтобы пленник не помер с голоду.
– Ну, ничего, мы излечим ее, и ты снова будешь ходить и даже сможешь плясать в угоду Инанне как прежде. – Успокаивал своего злосчастного ученика учитель, знаком приказав стражникам осторожно поднимать его вверх, наружу.
– Поосторожней с ногой, паршивцы! – Прикрикнул он на них, когда те, неуклюже ухватились за перевязку наспех затянутой ноги.
Оказавшись с приемышем на воле, опытный войсковой лекарь, зная, о недолговечности решений власть предержащих, поспешил увезти его в укромный угол, подальше от глаз соглядатаев энси. Посчитав, что лучше дальних бедняцких пределов расположенных в посаде за городскими стенами, места не найти, куда не очень-то любят заглядывать городские стражи, старик велел нанятому возчику поворачивать туда.
Животное, доехав до начала пределов, остановилось. Далее возчик, наотрез отказывался вести своего осла, зная местные нравы, ведь даже грозные городские стражи, казалось державшие весь город в своих руках, трусливо отворачивали свои головы, не смея соваться в этот мир бесправия и беспорядка почем зря. Их главе, достаточно было иметь заверения местного «лугаля» о подчинении общим правилам и взносе определенной платы и в его мошну, и он не вмешивался во внутренние дела общества воров и попрошаек. И имея эти мелкие подачки от них, приносящие кое-какие доходы, он считал это своей личной победой, ибо при другом раскладе, не было бы и этого. Именно тут, среди выветренных хижин бедняцких пределов, среди тысячи нечесаных и небритых голов, можно на время затеряться, именно тут и только тут, можно скрыться от всевидящих глаз городских стражей и соглядателей энси. Тут, восстанавливая здоровье Аша, абгал и решил переждать, чтобы после увести его подальше от города, где ему еще могут припомнить сгоряча брошенные слова, несмотря на заступничество высокого гостя, выпрошенное лекарем на тяжелых условиях. Абгалу едва удалось уговорить своего несговорчивого возчика, довести их до местного торга, чтобы здесь найти тех, у кого можно снять скромное убежище, и где странствующие шутейники, с которыми можно отправиться прочь из города – колеся по дорогам Калама, показывали свои умения. Но и этого он не сделал, бросив их прямо здесь. Оказавшись, за чертой определяющей начало бедняцкого предела, абгал со своим спутником тут же был обступлен чумазой детворой, приученных с малых лет к нищенствованию, с уводом чужого состояния и умением ловко обдурить доверчивых обывателей. Галдя и прыгая вокруг, малыши стали наперебой просить милостыню, а дети постарше, кроме того старались подойти сзади, прощупывая место где могли храниться серебряные ги. Побывавший не в одних трущобах, лекарь был знаком с нравами, царившими в подобных местах, поэтому тоже знал, как запрятать свои серебряные ги, так далеко, откуда не всякий ловкач, мог их стащить. Окруженный, не зная как избавиться от будущего поколения попрошаек, он, тем не менее, не пытался их гнать и кричать на них, не забывая про поколение нынешнее – их старших братьев, отцов и дедов, от чьего решения могла зависеть их с Ашем судьба. И те не заставив себя ждать, отогнав полуголую малышню, подошли к непрошеным гостям, с видом не предвещающим ничего хорошего.
– Именем единодержца, пропустите нас! – Грозно вскрикнул абгал, предъявляя им глиняный шарик, удостоверяющий его положение с начертаниями и печатью единодержца.
Но те, не были проявлены уважением к государевым побрякушкам.
– Назад! – Снова пригрозил он, прикрывая сидящего на земле юношу, выгруженного так возчиком. – Или испытаете силу, божьего гнева!
Но те, ухмыляясь, тянули уже к ним свои грязные руки. Тогда старик прыснул ладонью, и оттуда с каким-то шипением, извиваясь и искрясь, выскочил желтый огонь, кружась, треща и распугивая и ослепляя всех вокруг. «Колдун»! «Колдун»! Послышались испуганные возгласы. Хоть обвинения в колдовстве, его несколько и смутили, мудрец с облегчением вздохнул, думая, что все разрешилось. Но как выяснилось, вздохнул рано. Своими хитростями, он только напугал, но не отвадил толпу, лишь еще больше разозлив. «Колдун!», «Хватайте его!» – Слышалось вокруг, и хозяева предела, окружили незваных гостей, чтобы не дать вырваться колдуну с его помощником. Растерявшись, не зная как быть, абгал достал наудачу кольцо, испещренное писменами, данное им чашеносцем единодержца для беспрепятственного прохождения в темницу, и поднял над головой. Схватившие его руки, стягивавшие уже с него суму и дорожный плащ, вдруг куда-то исчезли, а угрюмые лица готовые убить, сменились растерянными и смиренными. Глядя на медное кольцо со знаками, разбойники о чем-то живо между собой затараторили. По толпе прошелся шепот: «Козлобородый», «Козлобородый»… Переминаясь с ногу на ногу, люди только что желавшие их растерзать, теперь смотрели на них с почтением. Вперед вышел невысокий, сухощавый, но жилистый человек, с самоуверенной дерзостностью во взгляде, отчего и без слов становилось понятно, что он не последний среди этого сброда. Не задавая лишних вопросов, он сухо бросил:
– Надо было сразу сказать, что вы находитесь под защитой Козлобородого. Мы отведем вас к кому надо, чтобы больше не возникало лишних неприятностей ни у вас, ни у нас и ни у кого из наших людей.
Бугристый детина, уже нацеленный на послушничий плащ красивой отделки, досадуя, что дело может сорваться, заревел:
– Да что мне ваш Козлобород! Мы свободные люди!
И с неколебимой решимостью двинулся к Ашу с намерением исполнить задуманное, но наткнулся на клюку старика. Здоровяк повернулся к абгалу и со снисходительной ухмылкой попытался ухватить его за бороду, но вместо этого неожиданно для себя, издал скрежет зубов от удара в челюсть; оторопев от такой наглости, детина на мгновенье растерялся, но опомнившись, рассвирепев, набросился на старика с кулаками, и тут же получил ощутимый удар по лбу. С помутневшим от удара взглядом, он, держась за ушибленное место рукой, злобно прошипел:
– А-а-а, значит, на палках биться? Добро же, будь, по-твоему. Дайте кто-нибудь дубинку!
Молодцы, стоявшие рядом, попытались его унять, но были остановлены окриком своего вожака.
– Стоять! Дайте ему дубинку, пусть дерутся. – Сказал он усмехаясь, ожидая забавного зрелища от скачущего от тумаков старичка.
Когда дубинка была вручена, все ожидали скорого завершения расправы, и действительно, расправа вскоре прекратилась, но не так как ожидали. Сильнейший удар здоровяка, был с легкостью отбит и тут же вернулся ему хлестким шлепком в бок. Рассерженный разбойник решил сменить прием, направив в абгала, заостренный конец своего оружия, но и это ему не помогло, промахнувшись, здоровяк провалился в пустоту. И так все его удары заканчивались ничем, сам же он получал обидные шлепки и тычки. Все завершилось, когда взбешенный издевками своих людей, замахнувшийся со всей силы здоровяк, подкошенный дорожным посохом, грохнувшись, ударился об пыльную, утоптанную в камень глинистую улочку, отчего не смог уже встать самостоятельно.
– Ого! Алга, где ты научился так ловко драться? – Изумленно спросил жилистый главарь.
– Войсковой лекарь должен многое уметь. – Ответил абгал, вытирая выступивший от невольной разминки пот.
Посмеявшись над незадачливым бойцом, никто уже не посмел нападать, опасаясь такого же посрамления от сухонького старика. Восхитившись ловким колдуном, разбойники отнеслись к чужакам с должным уважением, и, подняв юношу, повели их к местной площади.
***
Торговлю на главной площади в нищенских пределах, стыдливо называемых горожанами – бедняцкими, нельзя было назвать полноценными торгами, тем не менее, шума торга, веселья и выяснения отношений, здесь не меньше, чем на любом другом, а то и больше. Здесь такие же жадные торговцы, готовые подраться из-за покупателя, или не поделенного места, из-за того, что продаваемые лохмотья у соседа оказались чуть лучше или чуть дешевле. Здесь тоже есть свои стражи, следящие за порядком и ежедневно кормящиеся этим; которыми руководят свои начальники; которые в свою очередь отчитываются перед своим лугалем; который также избирается самоназначением на сходах, может из главарей не самых уважаемых и честных, но зато самых влиятельных и сильных. Здесь столь же ушлые воришки, те самые, что потом шуруют на главном городском торжище; только здесь они пользуются большим почетом и уважением, чем там где их могут погнать не только стражи и торговцы, но и более удачливые прощелыги, которым удалось вырваться из тины нищенских болот.
Лихие люди вели «колдунов», к самому большому и богатому зданию нищенских пределов. Несмотря на то, что пределы назывались бедняцкими, оттого что населены были людьми бедными и неимущими, в них встречались дома далеко не бедные, порой такие, что не всякий мог себе такое позволить среди зажиточных горожан. И самый красивый и богатый, принадлежал местному лугалю воров, заправлявшему бедняцкими пределами. Жилистый вор, что-то тихо сказал парням стоявшим у входа, и один из них войдя в дом и недолго там пробыв, вышел, показывая жестом, что они могут войти. Проходя сквозь чистые и просторные покои, перегороженные сучеными занавесями, украшенные цветными изображениями и уставленные изваяниями богов, людей и животных, абгал заметил своему ученику, что люди, впервые пришедшие в подобные места из внешнего мира, дивятся: «Как божественная красота, может находиться среди мрака беззакония и грязи бессовестности?» Как она здесь оказалась, вопросов не возникает, ответ очевиден, но напрашивается вопрос: «Как можно жить в роскоши, когда кругом голод, нищета и болезни?» Но вспомнив, что жизнь за пределами, ничуть не справедливей, чем здесь, находят, что воры и убийцы мало чем отличаются от тех, кто называет себя властью законной, разве, что жизнь здесь беднее. А видя нищих и изувеченных людей, которые именно здесь нашли себе пристанище которого были лишены там, признают, что сильные здесь, хоть так же не утруждены заботой делиться, в меру своих понятий хотят казаться справедливыми и держать данное слово. Попрошаек подсоблявших хромому Ашу, радовавшихся, что их порядки уважаемым мудрецом оценены выше государевых, не возмущали даже и не очень лестные отзывы.
Самопровозглашенный лугаль нищих, принимал решения касающиеся судеб своего обездоленного люда, возлежа на шкуре черногривого льва. Выпирая лоснящимся и сытым животом к просящим, он утверждал этим свое презрение и к ним и к любому равноправию и ко всем правилам вообще. В мире бесправия – будто пересмешка мира внешнего, подчеркивающая всю его несправедливость и лицемерие, как нигде властвовало право сильного. При этом воры здесь заправляющие, не скупились на хвальбу о его справедливости и равноправии в нем, утверждая, что здесь для каждого открыты равные возможности, и каждый своим умом и умением может пробиться в люди, лишь слегка забывая сказать, что имеется в виду умение обдурить, обокрасть, подстроиться или взять силой. Изрезанный по телу, замысловатыми узорами, показывающими его положение среди разбойного люда, главарь и без того внушал невольное уважение твердостью бугристых мышц и остротой взгляда, как у человека привыкшего быть начеку. Небрежно, едва слышимо будто издалека, он начал:
– Я слышал, что у вас есть защитный знак самого Козлобородого. Покажите мне его, чтоб я мог убедиться в том, что вы достойны того внимания какое они вам оказали.
Взглянув на подарок Азуфа, резаный, оценивая начертания, сказал:



