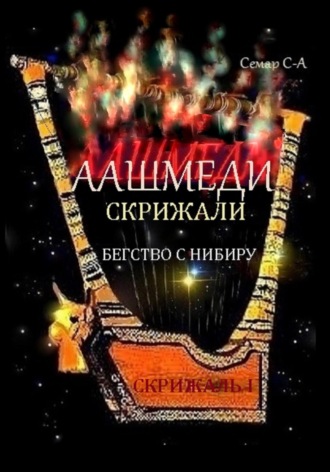
Семар Сел-Азар
Аашмеди. Скрижали. Скрижаль 1. Бегство с Нибиру
– Куда? А кто мне в передке протирать обещался?
Толстяк побледнел от ужаса, представив, что его ожидает. Са-каль с трудом сдерживая улыбку, сочувственно произнес:
– Ну брат, держись. Придется тебе видно, всю ночь за свое недостойное поведение ее ублажать.
Дружный смех сопровождал удаляющихся товарищей.
Сам не свой от страха, толстяк был ни жив ни мертв, но громогласный голос корчмарки не давал забыться.
– Что встал? Пошли за мной. – Всучила она ему что-то колючее.
***
– Входи. – Тихо приказала служанка.
Дверь чуть скрипнула, и стражник проскользнул вслед за ней в неширокое отверстие раскрытой двери. Осторожно ступая за рабыней, молодой десятник городской стражи недоумевал, к чему такая таинственность, когда можно было просто сообщить о его прибытии, да и вызвать можно было его обычным поручением; но боясь вызвать недовольство ее высокородной хозяйки, послушно выполнял все ее распоряжения. Пройдя по узкому переходу, они попали в широкое и светлое пространство богатого двора. Стражника одолевало чувство тревоги и неудобства от того, что он входит во дворец тайком как вор, с черного входа. Немногословная рабыня, когда сообщала, что его настоятельно просит явиться по неотложной нужде ее госпожа – перед чьими носилками он как-то расчищал улицу от сброда когда ей вздумалось посетить рыночную площадь, не предупредила, что это настоящий дворец, и что нужно будет пробираться в него столь необычным образом. Мысленно он ругал себя за то, что не сказался больным, но чувство долга пересилило в нем ощущение лени и страха, и он внутренне предчувствуя неладное, все-таки собрался, полагая, что дело действительно не терпит отлагательств. Тогда не думалось, что такое можно расценивать как-то иначе, сейчас же это не казалось столь однозначным: может быть это кто-то захотел вовлечь его в нечто противоправное, или же сама служанка задумала недоброе, решив с его помощью завладеть имуществом хозяев. Ну, если второе! Тогда уж он не посмотрит, что пред ним любимица высокородной госпожи и если не убьет ее сам, то непременно воспользуется правом городского стража и предаст ее суду, если не сам, то с помощью безжалостного меча правосудия.
Приказав ждать в приемной, расторопная служанка исчезла за плотными занавесями. Рабов не было, не считая дрыхнувшего у дверей привратника. Видимо заблаговременно перед его приходом, их удалили в дальние покои. Это еще больше забеспокоило молодого кингаля, и непроизвольно схватившись за нож, не отпуская его рукояти, в напряжении он ожидал своей участи.
– Ты пришел. – Услышал он за спиной шелестящий голос.
Обернувшись, он, пялясь не отрывая глаз, невольно залюбовался обладательницей этого чудного голоса: ему чудилось, он созерцал явление на грешную землю самой богини – настолько хороша была сейчас хозяйка в своей воздушной, полупрозрачной сорочнице. Она поразила его своей красотой еще тогда, когда он видел ее в первый раз, но тогда не смел поднимать своих глаз на вельможную госпожу. Теперь же находясь с ней один на один, он забыл о том, что перед ним замужняя женщина высокородных кровей, а не какая-нибудь девица равная по положению. Опомнившись, со стыдом опустив глаза, он тут же бросился извиняться, вызвав скрытое неудовольствие госпожи, которой кажется, нравились восхищенные взоры воздыхателей. Ответив на его покаяния, речами об их беспричинности – потому как его смелый взгляд ничуть ее не смутил; красавица попыталась убедить своего гостя, важностью дела, ради которого был вызван.
– Надеюсь, благородный кингаль, догадывается, зачем я пригласила его к себе в столь поздний час?
– Да простит всемилостивейшая госпожа, но нет, не смею даже предполагать. – Попытался заранее вежливо отказаться от предложенной игры в отгадку взволнованный страж порядка, боясь даже предполагать, что ей от него могло понадобиться.
– Такой молодой, а уже десятник. – Подивилась хозяйка, разглядывая гостя.
– Я очень благодарен нашему улла, что он заприметил и оценил мои старания. – Смущенно ответил хозяйке молодой кингаль.
– Сколько, в твоем десятке человек? – Деловито прохаживаясь, издалека начала она.
– Пять, не считая меня.
– Так маало? Тогда почему он называется десяток? Это ведь, уже пяток какой-то, а ты, стало быть – пятник.– Пошутила, засмеявшись, молодая госпожа.
Стражник, густо покраснев, сказал:
– Мне придан новый десяток, и он еще не полностью сколочен, но я подбираю новобранцев. В этом деле торопиться нельзя, нужны не просто подготовленные мужи, но и проверенные люди.
– Бог тебе в помощь.
– Благодарствую, досточтимая эрес. – Опустив голову в знак признательности, поблагодарил молодой десятник хозяйку.
– Я пригласила тебя к себе, потому, что помню добро сделанное мне. – Со значением в голосе произнесла она. – Также я оценила твое усердие и умение управляться не только со своими людьми, но и справляться с всевозможным сбродом, заполонившим улицы нашего священного города.
Его глаза, снова помимо воли скользнули по воздушной накидке и остановились на набухших сосках, вполне различимых под одеждой и даже слегка проглядываемых.
– Поэтому мне хочется помочь тебе.
При этих словах, глаза молодого кингаля загорелись алчностью.
– Я знаю, – между тем продолжала госпожа, превратно поняв огонь в его глазах, – вы – честные стражники, считаете оскорбительным для себя любые разговоры о благодарении вас золотом и серебром за ваш служебный долг, и даже намеки об этом вас гневят, поэтому даже не буду заикаться об этом.
Глаза кингаля разочаровано погасли. В голове бешено начала крутится мысль, как бы дать ей понять, что он не прочь пошебуршить золотом и не отказался бы и от мешочка с серебром, но последние слова хозяйки окончательно развеяли в прах все его надежды:
– Я и сама считаю, что задаривать верных слуг, значит развращать, превращая их в алчных прихлебателей, погрязших в мзде и пороке. Как говорит мой мудрый муж: Даже мысли об этом, должны стращать государственных мужей как смерть.
Это говорила женщина, знавшая о лицемерности сих словоречий, так как сознавала источник благ своего благоверного супруга, – а, следовательно и своих, – с каждым днем, будто лишь растущих на опаре; ведь ее муж сам не гнушался подобных обычаев, бывших у него уже семейными, и позволивших его родителю когда-то из бессчетного множества безвестных чиновников, пробиться в вельможи, а ему занять высокую должность в державном войске и как итог – положение главы священного города. У стражника в запасе осталось последнее предположение, но зато самое заманчивое, он с нетерпеньем ждал, когда прекрасная госпожа назовет его.
– Если бы было в моей воле повлиять на твое продвижение по службе, я бы этому поспособствовала, но, увы, я не вправе встревать в мужнины дела. – Тут же разбила она и эти его мечты. – Я бы замолвила за тебя свое скромное словечко, но муж мой ужасно ревнив, и боюсь, я бы только навредила тебе.
Слушая, раскрыв рот, подающий надежды служака, усиленно напряг извилины, гадая, для чего же его тогда могла позвать благородная эрес.
– Но я еще раз повторяю: я умею быть благодарной. Поэтому, так как у меня больше не остается иных возможностей, остается лишь одно…
В следующее мгновение произошло то, от чего молодой предводитель стражников, застыл в смешанности ужаса и вожделения: перед ним, как молодая львица во время брачных игр перед своим львом, с царственной осанистостью – расхаживала обнаженная эрес. Стараясь понять, как это произошло, в ошеломленном мозгу хранителя порядка, остатки мышления начали изнуряющую работу над приведением в порядок здравомыслия. До его сознания стало доходить, как произошло, что она перед ним стояла сейчас голой: да-да, при последних словах она скинула свою накидку, и он, совершенно не ожидавший подобного, от ужаса, совсем на краткий миг, впал в забытье.
Дразня набухшими от возбуждения сосками и треугольником в ложбинке, юная градоначальша, виляя задом обхаживала вкруг него, и говорила что-то своим приятным, мурлыкающим голосом, а он, приходя в себя после первоначальной растерянности, совершенно обалдевший от свалившегося на него счастья, отвечал ей невпопад.
***
От нудной работы, трудно думать о чем-то другом кроме как о том, как бы поскорее подошло время, когда можно будет опустить уставшее тело на подстилку, пусть даже сплетенную из самого жесткого тростника, еще тяжелее, если пузо тебя постоянно тянет вниз и мешает сгибаться и ползать на четвереньках. Но чего не сделаешь, чтоб избежать заслуженного наказания. Незадачливый вояка, соскребая с глинобитного пола, очередное пятно чего-то непонятного, украдкой поглядывал сквозь прорехи занавеси, и, опасаясь, как бы разговор не касался его особы, вслушивался в однообразное разноголосье раздающейся с клети – нарочно отведенной для важных гостей. Тем более, повод подозревать, что-то нечистое, был. Таинственные гости, скрывая лица под страшными клобуками, о чем-то перешептывались с хозяйкой, Мушу пытался понять смысл разговора, но те говорили слишком тихо.
– Вы все слышали? – Спросила угрюмая корчмарка гостей.
– Да, слышали. – Утвердительно закивали гости своими накидками.
– Ку-Баба, ты же ненавидишь Загесси. Почему ты на его стороне? – Спросил кто-то.
– Я научена горьким опытом, когда обещавший помочь Киш, бросил Шуруппак в беде, лишь раззадорив уммийцев, сотворивших великие насилия над шуруппакцами. Лучше предать заранее самому, чем ждать, когда за тебя это сделает твой трусливый «друг». Чтобы избежать худшего.
– А что я вам говорил? – Самодовольно подметил высокий гость. – Противоречивость нашего самозванца, приводит к тому, что скоро и самые упертые его сторонники пошатнутся в своей вере. Впрочем, мы не будем ждать, пока он приведет свой народ к гибели. Уже и святейшие жрецы с нами.
– Как?!! И служители Вседержителя?! – Удивленно воскликнул, кто-то из гостей.
– Чему удивляться? Вседержитель не потерпит, чтобы от его имени кто-то смел, тешить свое честолюбие и единолично править; тем более чужак, из земель подвластных иному богу. Только богам дано право, единолично решать судьбы мира. – Мрачно осадил недоверчивого, сухой голос, принадлежащий ряженному в дерюжьи одежды.
– Но Энлиль, при нем стал единым богом всех жителей Калама по эту сторону.
– И думаешь, нам лучше от того? Наш бог и прежде был первейшим, и все города по эту и по ту сторону признавали это, а город его, бесспорно, оставался священным местом для всего Калама. Теперь же, благодаря стараниям Ур-Забабы, посмевшего самозваньем поносить имя нашего бога, и подлостью нашего святейшего первосвященника, продавшегося за честолюбивые помыслы и побрякушки; бога нашего всюду ненавидят, а нас презирают: открыто на землях по ту сторону и скрыто по эту.
– Святейший, много ли, среди служителей вседержителя, думающих так же? – Коротко спросил кто-то, с привычной уверенностью в голосе.
– Все, кого самозванец не успел умаслить, и многие из тех кто принимал его дары без радости. Но у нас есть условие…
– Сколько вас?
– Должен быть избран новый энси, из нашего круга. – Проверещал жрец.
– Мы это решим. Сколько?
– Достаточно, чтобы совершить обряд смещения верховного жреца, и отстранить от власти тех недостойных, кто продал свои души за личное благоденствие.
– Да свершится. – Заключил велеречие жреца, главный заговорщик. – Не захотел помочь другим. Подорвал доверие к себе подлым предательством. Что ж, думаю, теперь и к нему никто не захочет прийти на помощь. Когда это уважали и доверяли предателям?
– Ты так говоришь, будто сам не толкаешь нас на то же. – Возразил ему старческий голос.
– Полно тебе алга, он сам себя предал. Предавший первым, предает себя сам, и потому: предать предателя, не предательство.
– Предательство есть предательство, как его не называй.
– Уж не хочешь ли ты, пойти на попятную алга? С каких пор, тебя стала беспокоить судьба этого обезумевшего царька? Гляди старик, мы договаривались; я свое слово сдержал, держи и ты свое. – С едва заметной угрозой в голосе, сказал высокий гость.
– Меня мало заботит судьба этого кровососа, и я вполне поддерживаю, твое стремление сместить его. Но меня волнует, как бы наши действия не привели к пролитию крови черноголовых. – Упрямо возражал ему старик.
– Кровь неизбежна.
– Но ты обещал, что сделаешь все, чтобы невинные не пострадали и города не были разграблены.
– Раз обещал, значит так и будет. Но сперва, ты – сдержи свое слово. – Раздраженно требовал высокий.
– Ну, коли так, и я буду придерживаться наших договоренностей, по мере сил прилаживая свои скромные знания, чтобы помочь освободить Калам от гнета безумцев и воров. – Утихомирил его словами старик.
– А то ведь знаешь, у меня достаточно возможностей, чтобы исправить совершенное благодеяние. – Успокаиваясь, продолжал на него давить тот, скорее уже просто разогнавшись, уведомляя а не угрожая.
– Этого я и боюсь.
– Напрасно. Если все выйдет, до вас никому не будет дела. – Совершенно повеселев, заверил старого гостя, высокий гость.
– Так ты говоришь, энси все знает? – Прервала их препирательство хозяйка.
– Да, я с ним переговорил. – Ответил высокий гость.
– И что же, он согласен?
– Пока он ответа не дал, но дело времени.
– А как же, наши условия? – Подал возмущенный голос священнослужитель.
– Об этом можешь, не беспокоится. Если Мес-Э согласится, лугаль возвысит его, и тогда место градоначальника опустеет. – Выпрямившись, высокий гость откинув накидку, подставляя свету точеное лицо с козлиной бородкой, завершил – Вскоре я должен возвращаться в Киш, дабы не раздражать Ур-Забабу долгим отсутствием и не вызывать ненужного подозрения. Долг чашеносца, всегда быть рядом со своим господином. Оттуда нарочным, я вам отправлю подробные указания.
– А это не опасно, открываться человеку такой важности и не получив согласия, возвращаться без предосторожности? – Обеспокоенно спросил тот же голос, что с недоверием удивлялся участию в заговоре жрецов.
– Чье слово, имеет больший вес? Чашника великого единодержца, или новоиспеченного градоначальника? Будь государь прозорливее, может он бы и стал делать правильные выводы, но, увы, наш единодержец слишком увлечен самолюбованием. Так что тут я спокоен. Дурень, считающий себя самым мудрым, а на деле не видящий дальше собственного носа, мне так же опасен, как псу блоха: немного зудит, но вполне сносно, да и неприятность эта до поры. А если вдруг, что-нибудь случится с государственным сановником здесь, думаю энси недолго усидит на месте, равно как его голова. К тому же, Мес-Э слишком умен, чтобы не понимать, что дни Ур-Забабы сочтены, и слишком труслив и жаден, чтобы при такой будущности оставаться ему верным. Он уже повязан тем, что когда-то отпустил вражеского пленника, мня, что этому нет свидетелей. Но благодаря нашему абгалу, видок нашелся, оттуда, откуда меньше всего ожидали. А теперь, он повязан еще крепче. Так что ждать, пока он примет правильное решение, осталось недолго. Еще я не успею отбыть из Нибиру, как он будет готов исполнять волю вашего повелителя. – И громко – Дайте время!
Тут, в задней части корчмы, что-то зашумело. Насторожившиеся гости встрепенулись, самый быстрый заговорщик, сунув руку под плащ, спросил хозяйку:
– Кто там у тебя? Ты же сказала, что всех отослала.
– Да не бойтесь, там у меня один храбрец прибирается. Он не опасен. – Как будто сразу всем, ответила Ку-Баба.
– Да как, такое возможно?! – Под плащом хватаясь за меч, вскричал беспокойный человек, и вскочил, чтобы догнать тут же выскочившего от его окрика молодца.
– Стой. – Удержал вспыльчивого товарища, высокий гость. – Пусть уходит. Кто ему поверит? Да и не догонишь его теперь: гляди, какого стрекача дал, не скажешь, что сам в два обхвата, только пятки сверкают. – Залюбовавшись на стремглав уносившегося толстяка, продолжал Азуф. – Теперь пойдут слухи о горе-разоблачителе тайных заговоров. Все будут думать, что это очередная байка пустоплета и проверять уже не станут наверняка…. Ку-Баба, он, кажется, что-то у тебя сломал, когда убегал.
– Вот ведь обосранец. – Взглянув с досадой на снесенную тростниковую дверь, укоризненно выругалась большая женщина.
3. Радость бытия.
Спускаясь вдоль струящегося серебром потока, скитальцы рассчитывали неплохо поживиться в попадающихся мимо селениях, но встречая всюду разорение, приходили к печальному выводу, что ничего не найдут здесь кроме печали и слез. Видя это, все они, не сговариваясь, решили, что было бы справедливо давать свои представления как и прежде – за пропитание, пока они не окажутся в землях более благостных. Но и это казалось великим побором с несчастных людей, уже не ожидавших для себя ничего хорошего и потому не спешащих на веселые представления.
Жизнь людей здесь была невыносима вдвойне, постоянными поборами на войну и набегами размножившегося лихого люда, отбиравшего у людей последнее, оставляя их умирать в нищете, или вынуждая самим становится разбойниками и обирать таких же несчастных. Самые свирепые и жестокие становились для молодежи примером подражаний, а стать ворами и убийцами было пределом их мечтаний. Но большинство, привязанное домом и родными людьми, продолжало влачить жалкое существование в вечном страхе, не решаясь пойти на воровство и смертоубийство, имея печальный опыт тех кто уходил в разбой. Казалось, чему бы радоваться, чтобы продолжать жить? Казалось единственный выход из всего – смерть. Но люди упорно продолжали жить, цепляясь за свои существования.
– Зачем так жить?! Даже у рабов, больше надежд и меньше страхов, чем у самого благополучного из этих людей! – В отчаянии вскричал Аш, глядя на потухшие лица людей.
– Ты ведь знаешь, что проповедники и вельможные богатеи, чтобы не терять послушное стадо приносящее блага, внушают людям страх перед самоубийством. – Сказала мудрая Ама. – Но ты не знаешь, насколько сильна бывает, одна лишь радость бытия на этом свете: когда один лишь страх перед смертью не позволяет проститься с этим миром; одно лишь чувство того, что ты еще дышишь, удерживает тебя. Ты не испытывал, и спасут тебя боги, никогда не познаешь того ужаса перед концом, от которого начинаешь пугаться и самого существования, ибо понимаешь, что конец все равно неизбежен и когда-нибудь непременно наступит. И сердце из страха колотит так, что ты мечешься в бессилии что-либо изменить, заранее страшась неизвестности потустороннего, когда лишь мысль от вопроса себе – «А что же там?», заставляет содрогнуться. И тогда-то, ты по-настоящему начинаешь ценить жизнь, какой бы худой она ни была.
Выслушав умудренную жизнью старуху, Аш не удержался, чтобы не спросить, словно возражая:
– А как же, проповеди жрецов о загробной жизни?
– Трудно поверить в слова о воздаянии после смерти, смиренным перед бесправием, когда проповедующие об этом, сами живут в роскоши и разврате, а их утробы круглее и больше чем у женщин на сносях. – Шамкая беззубым ртом, прокряхтела старуха. – Но, что поделать? Люди и у нас хотят верить в божественность земного устроения, и все приносят и приносят воздаяния в храмы, снимая с себя последнее, надеясь этим заслужить лучшей участи в краю Иркалла. Видя же, торжество кривд господ и чиновников, червь сомнения и страх что они не найдут правды и после смерти, все больше гложет им души. Оттого и нет в них света, а взоры их пусты и безнадежны. Потому мне не терпится взглянуть хоть глазком, на того, кто смог опрокинуть этот порядок и вернуть свой народ в лоно матери – во времена изначального обустройства, когда было неважно медник ты или сукновал, богатый ты или нет, но все были равны и сами решали, как им жить. Я хочу увидеть этого человека.
Чем дальше они продвигались ближе к границам Лагаша, тем все светлей и радостней казались встречающиеся лица. Несмотря на то, что здесь люди жили в такой же убогости и страхе, как и везде, сюда доходило все больше слухов о том, что происходит в Лагаше, где такой же бедняцкий люд, сумел сбросить с себя ярмо поборов и решает судьбы родной земли на равных с вельможными богачами. Наконец-то, спутники смогли вздохнуть свободно: получив возможность зарабатывать хотя бы зерном, у них отпала необходимость покупать еду за припасенное добро звенящего блеска. Рассевшись вокруг костра, скоморохи снова заводили беседу о предстоящей встрече с Уруимгиной.
– А ты слышал про него, какой он из себя? – Допытывалась юная бродяжка у Пузура, как у человека много повидавшего и много с кем общающегося. – Он верно настоящий исполин? Говорят, он так силен, что подбрасывает плугом как перышком. А ведь сам плуг так тяжел, что его не смогла вытянуть и вся царская дружина.
– Какой плуг? – Недоуменно таращился на нее Пузур.
Но девочка, не давая ему сообразить, продолжала тараторить:
– Глаза же его, рассказывают, горят кровавым пламенем, и все кто в них заглянет, тут же падает замертво.… А как он тогда с людьми разговаривает? Неужели, все время глаза прячет? Он и вправду такой страшный?
– А ну, не приставай со своими глупостями! – Осадила младшую старуха. – Пузуру некогда выслушивать твои выдумки про уважаемого человека, у него и без того из-за нас забот хватает.
И подкидывая хворостину в костер, продолжала ворчать, то ли рассуждая вслух, то ли обращаясь к Ашу:
– Вот ведь дурочка, наслушается сказок уличных выдумщиков, да и уши развесит. И ведь верит. Кто это ей только наплел?
Пока она говорила, Нин стыдливо опускала голову, с каждым словом склоняясь все ниже, пока вконец не приуныла. Ашу сидящему рядом и вежливо улыбавшемуся словам старой женщины, стало жаль простодушной девчонки, и он захотел ее как-то подбодрить.
– А ведь в этих россказнях, есть зерно истины.
– И этот туда же. – Всплеснула руками старуха.
Неловко посмеявшись недоумению гадалки, юноша поспешил все разъяснить:
– Нет, ну вы подумайте: ведь плуг – это изображенный на их стяге, знак их покровителя Нингирсу; но его то и не смогла у них вырвать дружина Лугальанды, бежавшая, робея перед толпой босяков. А взгляда Уриимгины, действительно страшатся все нечистые на руку, ибо он непоколебим и не различает кто перед ним: зловонный, измазанный нечистотами – грубый выгребатель навоза, или умасленный благовониями и обвешанный драгоценностями – изнеженный собиратель пороков.
Нин, подняв увлажнившиеся очи, с благодарностью взглянула на эштарота, остальные, вспомнив откуда родом его учитель и друг Пузура, согласились с тем, что в словах юноши сквозит доля правды. Так, в беседах, проходили их ночные посиделки вокруг костра.
И катила их тростниковая повозка все дальше и дальше, все ближе приближаясь к заветному городу, где они думали переждать время бурь и ветров, чтобы вновь отправится дорогами Калама, быть может по землям враждебной Уммы, веря, что можно еще некогда единому племени быть вместе, хотя бы общими радостями. Ведь обычные люди, хоть иногда доходя в своем недопонимании до безумства, несмотря ни на что, чувствуют сами, что вся эта враждебность им чужда, как не пытается кто-то навязать им свою волю, пытаясь разорвать вековые связи некогда единого целого и, как и прежде тянутся друг к другу. И таких все больше, при том, что жизнь их не становится лучше, с каждым днем прибавляя трудностей. Но чем хуже становится их жизнь, тем больше понимания приходит в их бесхитростные головы, что все их тягости вовсе не от соседа тянущего такую же тягу, а от того кто направлял их на этот раздор и чей жир от этого только наплывает. У многих по другую сторону остались родные и близкие; у кого-то там были хорошие друзья; много было и таких, кто спасаясь от преследования у себя на родине, переходил на другую сторону.
Так, как-то проезжая мимо колосящихся полей, глава их маленькой общины, в одном из трудяг лугаля, возделывающих хозяйские угодья, узнал своего давнего знакомца. Взволнованный неожиданному видению, окликнув закупа по имени и убедившись в верности своего предположения, Пузур тут же засуетившись и соскочив с облучков, обрадованный, вперевалку помчался к старому товарищу, не переставая окликивать: «Нарам! Нарам!». Однако тот, глянув подслеповатым прищуром, отворачиваясь, как будто не захотел его признавать – стыдясь своего положения, но в конце концов вынужден был принять объятия скомороха. Наобминавшись с приятелем, Пузур подозвал своих товарищей, знакомя со своим земляком – бывшим поселянином из под Кадингирра, с которым водил многолетнюю дружбу, с тех времен когда безусым юнцом сам еще жил оседло и не помышлял о бродячей жизни. Тот тоже улыбался сквозь слезы, радостной но виноватой улыбкой, которая от этого не делала ее счастливей. Пригласив к себе скитальцев, шуб-лугаль однако, поспешил предупредить, что его хижина, не для приема гостей, так как они с женой сами едва в ней размещаются, но позволил на ночь, поставить повозку рядом со своим жилищем. Подъехав к месту, бродяги сами убедились в справедливости оправданий старика. Жилище которое он стыдливо называл хижиной, далеко им не являлось. Скирда соломы, да воткнутые в землю колья, вот и весь бесхитростный скарб, некогда зажиточного поселянина, позволявшего себе нанимать работников. Это даже не тростниковое строение бедняков. Впрочем, бывший зажиточник, объяснил это нежеланием засиживаться в закупах, и по возможности возвратиться на родину, где вернуть когда-то нажитое. «Они еще надеются». – С жалостью подумал Пузур.
Рядом с хижиной, увлеченно роясь в земле, ползала на карачках растрепанная женщина преклонных лет. С завидным усердием выгребая горсти ржаной земли, крутя острыми ягодицами, нахально выставленными в смеркающееся небо, она сооружала из них стены, вертясь над вырытой ямой запасливой собакой. Черви и насекомые, которых она, поймав, тут же помещала в этот землянной загон, вероломно убегали, прорываясь сквозь него, или уходили глубоко в землю, и тогда она с криком подскакивала, вылавливая их снова и возвращая на место. Она так же ковырялась в ней и в присутствии посторонних, будто не замечая никого вокруг сооружая загоны для червей и букашек, хотя на их прибытие, оглядывая неожиданных гостей, начала недовольно бурчать под нос о грабителях пришедших увести ее стада. Гуруш стыдливо отведя глаза, просил прощения за изувеченную горем жену. Это и была некогда грозная госпожа, которой, там у них на родине, боялись все в округе, и даже сам энси города не осмеливался перечить ей. Нет, она вовсе не сдалась под натиском толпы, просто разум подвел ее с известием о гибели единственного сына: перед которым единственным она понижала голос, от чьего недовольства, единственно сжималось в страхе ее сердце – любя его до самопожертвования. И соседи, после того как все их добро изъяли стражники в пользу государевых нужд а имение разорили, вместе с уже угасшей женой, погнали ее мужа, которого тоже побаивались, но который не был столь стоек перед людским давлением. И хорошо еще, что гнев не перекинулся на их дочерей, вовремя выданных замуж в соседние поселения, а то бы и их постигла участь убогих беженцев. Теперь же эта женщина, была блеклой тенью прежней гашан, вернее это была совершенно другая женщина, не имеющая ничего с ней общего, без привязанностей в этом мире, но совершенно погруженная в себя и существующая подобно дикому зверю. Поужинав, слушая рассказ бывшего зажиточника, жаловавшегося на нелегкие скитания с побирушничанием в поисках спасения для себя и своей обезумевшей старухи в запредельной стороне ки-бала, лицедеи улеглись спать. Старые приятели, еще долго о чем-то болтали, вспоминая старые годы и делясь пережитым, пока остальные предавались сну. И лишь некогда грозная гашан, поглощенная своей работой, приостанавливаясь, иногда прислушивалась к их разговору, и успокоилась только, когда уснули и они.
Когда они только подъезжали к реке, встретивший их берег, обманул их ожидания. Вопреки представлению, быстроносная река, обмелев от зноя, оказалась похожа на обычную мелкую речушку, кои во множестве протекают в землях благородных, и уже не в состоянии была нести их вниз своим течением, в сторону Идигны. Но нет худа, без добра. Зато сейчас, они с их небольшим возком, легко сумели перебраться на другой берег, без опаски встретиться с унукскими дозорами. Подступив к какому-то небольшому городку только к ночи, скитальцы решили заночевать в поле, в ожидании, пока жители его не пробудятся. Подставляя пламени, окоченевшие в ночной прохладе члены, каждый думал о чем-то своем. Кто-то, глядя в пляшущие от дуновения языки огня, вспоминал, безвозвратно уже ушедшее былое, кто-то думал о будущем, и всех объединял одна общая мысль о завтрашнем дне, ведь каждый день значил для них то, будут ли завтра их желудки наполнены едой а мошна не прохудеет.
– Да не оскудеет ваш котел, добрые люди. – Услышал они голос, доносящийся из темноты, будто угадавший их думы.
Оглянувшись на голос, полуночники увидели тень человека в обмотке на голове, и в свете костра, тут же высветилось его улыбающееся лицо.
– Разрешите погреться к вашему огню.
– И тебе всех благ. – Поблагодарив, за всех поприветствовал гостя Пузур. – Сядь ближе к костру, отведай нашей трапезы и расскажи, что слышал.
– Вот хорошо – обрадовался путник, перед костром потирая окоченевшие руки, – а я-то, опоздал к вечерне, и вынужден был оставаться в поле. Времена нынче тревожные, и жители поселений не впускают запоздавших просто так. А ночи все холоднее, и дикие звери все ближе тянутся к человечьему теплу. Я продрог до кости, и кто знает, пережил бы я эту ночь, если б не вы? Может быть меня – окоченевшего, сожрали бы шакалы и разнесли мои клочья по полям. Огня у меня нет, а у вас вижу тут уютно: огонь, еда, ложе для сна, и даже ваши женщины слишком красивы для этой дикости.
– Так ты здешний? – Спросил Пузур, стараясь отвлечь гостя, с неудовольствием заметив, благосклонный взгляд своей жены на его ужимки.
Гость утвердительно закивал головой, начав уплетать ужин, только что подоспевший.
– Что ж тебя не впустят? Наверняка ты там известен.
– Ууу! – Потянула старуха, – Пузур, ты не знаешь, до какой подозрительности доходят доведенные до этого люди. Порой бывает, и мать родному дитю не доверяет, и сын матери.
– Досточтимая угун права. Люди стали недоверчивыми и подозрительными. К тому же, я не такой важный человек, чтобы меня все знали. – Обжигаясь кашей, сказал удобно пристроившийся между женщинами гость.
– Почему же ты, не постучишься в дом? Благоверная не пускает?
– Увы, я одинок и у меня нет своего дома. – Развел тот руками.
– Ты что, собрался выгонять гостя посреди ночи? – Проворчала Эги.
– Как же ты тут живешь без дома? – На сей раз, не слушая жену, продолжал доведенный до ревностной подозрительности муж.



