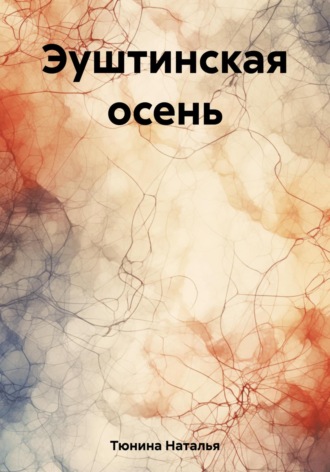
Наталья Тюнина
Эуштинская осень
– Что там у вас? – спросил Пушкин, разворачивая одно из писем.
– Новый костюм, рубашки… Шарф… Свечи, кофий… И псалтырь!
– Ну вот, теперь у вас тоже две духовные книги, можете не завидовать, – хмыкнул Александр и погрузился в чтение.
Первое письмо было от Осиповых.
«Дорогой наш Александр Сергеевич! Мы все очень огорчены вашими новостями. Неужели никогда больше не свидимся? Девочки плачут, Алексею я сообщила в Дерпт, но ответа ещё не получила – у него сейчас, должно быть, выпускные экзамены. Нянюшка ваша, Родионовна, вне себя от горя, не знаем, чем утешить старушку. Зизи ездит к ней обедать, развлекает разговорами. Если вы, Сашенька, пришлёте Арине что-нибудь личное, что её порадует, peut-être tes poèmes, я тоже буду счастлива. Сейчас она нашла в ваших вещах какую-то игрушечную лошадку и не расстаётся с ней. Боюсь, сойдёт с ума бедняжка.
В имение приезжал Лайон, разбирал бумаги, насколько мне известно. Ни Сергея Львовича, ни вашей матушки не было, что удивительно. Не знаю, что и думать.
Как вы устроились? Где живёте? Кто о вас заботится? Пишите мне всё, без известий о вас мы придумываем всякие ужасности.
T'embrasse tendrement, П.»
Пушкин закусил губу и, тщательно сложив письмо, засунул его за пазуху.
Второй конверт был подписан Олиной рукой. Внутри оказалось два листка бумаги. На одном из них сестра писала, как всегда, по-французски:
«Александр, мы не знаем, что послужило причиной такой страшной кары, – и хорошо, что ты остался дворянином, – но матушка надеется, что это всё недоразумение, которое можно уладить, в отличие от отца, который уже вычеркнул тебя из числа сыновей. Мне очень жаль, что так получилось.
Лев отделался лёгким испугом, но твоя участь его впечатлила и, кажется, обуздала. Теперь он служит с большим рвением и помышляет о военной карьере.
Я рада, что нам разрешено тебе писать. Мы с братом собрали немного вещей, но денег отец не даёт, прости».
Второе письмо было от Лёвушки.
«Ну ты, братец, отчебучил! Ходят такие слухи, что я не осмелюсь тебе их пересказать письмом, тем более, мне нужна безупречная репутация, чтобы поступить в Драгунский полк. Папенька прикладывает для этого максимум усилий, и из-за твоих выходок мне не хотелось бы лишиться всего.
Плетнёв приостановил твои публикации по повелению свыше, ты теперь в опале, как можно было догадаться. Но не переживай сильно, Соболевский уже собирает подписи в твою поддержку, упирая на то, что ты всё ещё дворянин и даже не каторжанин. Не уверен, что что-то из этого выйдет, но надейся.
Подшил для тебя последние номера "Северной Пчелы", почитай, чего ты лишился – обе столицы гуляли на коронации нового Императора Николая, было весело, жаль, тебя не хватало».
Саша наконец оторвался от чтения. Гончаров сидел на своём ящике и смотрел на него в ожидании.
– Вы будете сейчас ответы писать? – спросил он. – А то я хотел бы позже, когда вернёмся. Как думаете, можно?
– Да, пожалуй, я б тоже так предпочёл, – ответил рассеянно Пушкин. Он нашёл взглядом свой тюк с вещами. – Да и посылку развязывать не буду. Не здесь.
В дверь заглянул сопровождавший их жандарм.
– Господа, вы готовы? Можно забирать вещи?
– Да, будьте так любезны. Правда, нас ещё ждёт Игнатий Иванович.
Соколовский перебирал какие-то бумаги у себя в кабинете, перекладывая их из шкафа на стол и обратно, часть бросая в камин. Обернувшись на стук дверей, он положил на стул те документы, которые занимали его руки, и отряхнул ладони.
– Присаживайтесь, судари мои, у меня к вам конфиденциальный разговор.
Александр весь подобрался в ожидании неприятностей.
– Не знакомы ли вы с подпоручиком Николаем Осиповичем Мозгалевским? – спросил Игнатий Иванович, располагаясь в кресле.
Саша шумно выдохнул и откинулся на спинку стула.
– Нет, не имел чести, ваше высокородие.
Дмитрий тоже озадаченно помотал головой.
– А в чём дело?
– Да, пожалуй, ни в чём, – Соколовский наклонился к столику, взял перо, зачем-то покрутил его в пальцах и воткнул за обивку подлокотника. – Был тут проездом, останавливался у меня. По тому же делу проходит, что и вы, вот я и подумал. В Нарым его определили, на вечное поселение. Без денег совсем, вот как вы. Кстати же, не забудьте зайти за пособием к нашим финансистам, и впредь сами приезжайте за ним двадцатого числа каждого месяца.
– А вообще, как часто мы можем бывать в городе? – осторожно спросил Гончаров.
– Да я, в общем, не против вас здесь видеть, – пожал плечами Игнатий Иванович. – Формальности соблюдены, живёте вы за городской чертой, ваша квартирная хозяйка, если что, подтвердит. Так что гуляйте, судари, главное, ни во что не впутывайтесь. И, между прочим, заходите ко мне домой. С женой вас познакомлю, с сыном.
– О-о-о, – восхитился Дмитрий, – будем счастливы! Правда же, Александр Сергеевич?
– С превеликим удовольствием примем ваше приглашение, – Пушкин, привстав, поклонился. Мысль о визите в дворянскую семью в самом деле порадовала его. – Когда вам будет угодно?
– Да хотя бы в ближайшую субботу, пока дожди не зарядили. Приезжайте к обеду. Адрес каждый извозчик знает, но на всякий случай запоминайте: Набережная Ушайки, на углу с переулком Благовещенским, флигель во дворе дома Анны Григорьевны Шумиловой. Её муж, Михаил Иванович – наш бургомистр, человек в городе известный и уважаемый.
Пушкин с Гончаровым обещались быть.
– Как вы считаете, этот костюм подойдёт? – Гончаров снова разбирал свои вещи, перекладывая их из ящика в сундук.
– Для визита к Соколовскому? Вполне, это же провинция. Надо будет следующим письмом попросить прислать сапоги, как у вас. Мой брат, верно, думает, что здесь такие же мощёные улицы, будто в Петербурге. Страшно представить, каково на Базарной площади в распутицу, – Пушкин достал из тюка вторую белую рубашку и встряхнул её, расправляя. – Хорошо хоть брюки у меня тёмные. О, а вот это дело! Молодец, Лёвушка! Жаль, измялось немножко.
И, со счастливой улыбкой на лице, Саша начал выуживать из груды вещей книги и журналы.
Митя повернулся к столу прочитать заголовки.
– Это же ваше!
– Моё, да. И что же? У меня все рукописи остались в Михайловском! – посетовал поэт. – А по опубликованным главам я обязательно восстановлю наброски и допишу поэму. Надеюсь, Евгения не сошлют в Сибирь за дуэль, например, – пошутил он.
Кроме произведений «А. С. Пушкина», среди книг были труды Байрона, том Карамзина, несколько сборных литературных альманахов и небольшая подшивка газет.
Так же радостными возгласами Александр приветствовал табак, трубку, толстую пачку писчей бумаги, бутыль чернил и ещё одну, большую, обклеенную серым обрывком с кривой надписью от руки: «Чернилло». Пушкин особенно бережно поставил её на стол и довольно потёр руки.
– Зачем вам столько чернил? – удивился Дмитрий.
Саша приложил палец к губам и, присев на корточки, начал осторожно отрывать этикетку. Закончив, расхохотался и передал бумагу Мите. На внутренней стороне листа было написано: «Да здравствует император Николай! Отпразднуй или напейся с горя, братец!»
– А, это спиртное? – догадался Дмитрий.
– Да, – деловито ответил Пушкин, вынимая пробку, – только я пока не понял, какое именно!
Отхлебнув из горла, он кашлянул и просипел, воздев очи к потолку и приложив свободную руку к сердцу:
– Чёрный ром! Благодарствую, Лёвушка, спаситель мой!
В этот вечер Александр был в ударе. Обложившись бумагами, он писал до самой утренней зари, прихлёбывая ром, слегка разбавленный чаем. Митя от выпивки отказался, да Пушкин и не настаивал, обрадовавшись, что ему достанется больше. После прочтения первых двух глав «Онегина», как Александр и предполагал, он по памяти легко восстановил третью, а затем и четвёртую, хотя тут поэту показалось, что частично текст изменился. Пятая тоже пошла легко до того места, до которого была написана в Михайловском, но сочинять уже не было сил. Саша так и уснул, не раздеваясь, подложив руку с пером под щёку и измазав чернилами лицо.
К Игнатию Ивановичу собирались долго, ещё с вечера намывшись в бане, отстирав и, с помощью Зульфии аби, отгладив наряды. Так же заранее были написаны и запечатаны письма родне. Для мамушки Арины Саша сочинил нежное, печальное стихотворение и выписал его на отдельный листок самым разборчивым своим почерком. Зная нянину сентиментальность, срезал у себя из-за уха прядь волос, запаял свечным воском и приложил печаткой к бумаге. Больше он не знал, чем её потешить, даже томский сувенир – лошадку Илличевского – старушка сама уже нашла в его вещах, оставшихся в имении.
В извозчики наняли всё того же бойкого татарина. При виде Пушкина – с тростью, в чёрном фраке и шляпе, которую ему прислал брат, и Гончарова, разодетого в бордовый костюм, как придворный франт, Ильнури присвистнул.
– Какие нарядные гости пожаловали! Куда ехать изволите, уважаемые?
– Сперва – в Магистрат, нам письма увезти нужно, а затем с визитом к председателю губернского правления, его высокородию Соколовскому. Знаешь ли ты, любезный друг, где он живёт?
– Как не знать! Игнатий Иванович – благодетель, добрейшей души человек, не впервой к нему приезжих из России возить.
– Ну, тогда поехали! – и Александр легко вскочил в повозку, оставив Мите место на облучке рядом с возницей.
Нужный адрес, действительно, нашёлся легко – как выяснилось, по дороге в Магистрат мимо него уже проезжали не раз. Дом Анны Григорьевны Шумиловой оказался деревянным двухэтажным зданием с балкончиком, на повороте реки Ушайки, недалеко от моста. Сойдя с повозки и отпустив Ильнури, вошли во двор. Вход в усадьбу был не с улицы, а с северного торца. Слева от большого дома расположился флигель – в один этаж, без резных наличников и украшений, но с десятком окон по фасаду. У дверей застыл в ожидании швейцар в форме жандарма.
Радушный хозяин сам вышел встречать гостей в переднюю.
– Очень рад, что вы добрались до моей скромной обители. Следуйте за мной в комнаты, у нас сегодня всё по-простому, по-семейному.
Пройдя через залу, задрапированную бледно-жёлтым шёлком, оказались в небольшой голубой гостиной. Почётное место у окна занимало фортепиано производства мастера Тишнера, что было написано золотыми буквами на закрытой крышке инструмента. Вдоль противоположной стены, на полукреслах с синей обивкой уже разместилась, по всей видимости, вся семья Игнатия Ивановича. Соколовский представил гостей, затем принялся знакомить их с родственниками.
– Супруга моя, Анна Афанасьевна.
Приятная темноволосая дама в зелёном бархатном платье подала руку для поцелуя и приветливо улыбнулась.
– Мой младший сын.
– Владимир! – невысокий юноша в очках подскочил, шумно подвинув стул, и с чувством пожал гостям руки. – Очень рад знакомству!
– И девочки: Ольга, Лиза, Соня.
Старшая, Ольга, худощавая брюнетка лет двадцати, с высокой причёской и в открытом, по моде, платье цвета шампанского чуть склонила голову в знак приветствия. Лиза – юная очаровательница, вероятно, немного младше Дмитрия и Владимира – привстав, потянула вверх тонкими пальчиками складки своего голубого платья в подобие книксена. Взгляд её чёрных, как у цыганки, глаз, лишь скользнул по Пушкину, а остановился на Мите, для чего девушке пришлось запрокинуть голову. Самой младшей дочери Соколовского, Соне, вероятно не было и десяти лет. Пухленькая в отличие от сестёр, она в подражании им вежливо улыбнулась и робко сказала:
– Здравствуйте!
– И вам здравствовать! – церемонно ответил Гончаров, кивнув Соне, и повернулся к хозяину и хозяйке дома. – Мы очень благодарны за приглашение и счастливы быть представленными вашему семейству.
– Это ещё не все мои домочадцы, – сказал Соколовский, предлагая гостям стулья. – Мой старший сын, Николай, сейчас в столице, капитан Кадетского корпуса, занимается там географией, составляет учебник для курсантов, – не без гордости добавил он. – А старшая дочь, Вера, уже замужем. Надеюсь скоро стать дедом!
– О, но вы же ещё так молоды! – невинно заметил Дмитрий, устраиваясь за низким круглым столиком между Владимиром и Лизой.
Игнатий Иванович широко улыбнулся и развёл руками:
– Ну вот и приобрету солидность.
Александру досталось место возле Анны Афанасьевны. С другой стороны к нему подсел сам Соколовский.
– Как вы добрались до Томска, Александр Сергеевич? – вежливо, с материнской ноткой, осведомилась хозяйка.
– Благодарю за заботу, – слегка скривился Пушкин. – Вероятно, как все – долго, нудно, но не без приключений. И с вооружённой охраной. Мы ведь преступники, знаете ли.
Вопреки ожидаемому, Анна Афанасьевна не выказала никакой реакции на это заявление.
– Гостил у нас в начале сентября Николай Осипович, Володин однокашник, так он тоже на охрану жаловался. Но ему хуже пришлось, без дворянства от жандармов никакого уважения. Теперь в Нарым увезли. Жаль его.
– Какой же вы преступник, Александр Сергеевич, – хриплым от волнения голосом воскликнул Владимир, еле дождавшись, пока мать закончит свою плавную речь. – Вы – великий поэт! Публичная личность! Как император Николай вообще решился вас сослать, не понимаю. Хотя он, конечно, никакого пиетета к литературе не испытывает, увы. Лишить кадетов библиотеки – это варварство, – прибавил он шёпотом. – Я присутствовал при этом. Наказал всех!
– Володя, помолчи, ты не прав, – с упрёком посмотрел на него Игнатий Иванович. – Какое впечатление сложится о нас у наших гостей? А какой пример ты подаёшь сёстрам?
– А что, разве в нашем доме есть осведомители? – резко ответил Соколовский-младший. – Представляете, – продолжил он, обращаясь к Пушкину, – теперь кадетов секут за чтение книг и сочинительство! По высочайшему повелению. Счастье, что я туда больше не вернусь, отмучался.
– На самом деле, – вклинилась ехидно Ольга, – Владимир сам пишет стихи. И не хочет лишней розги на свою спину. А пороть стоило бы, если учесть содержание этих виршей.
– Дальше Сибири не сошлют, – буркнул Володя и замолчал.
– Давайте не будем обсуждать политику, тем более на голодный желудок, – примирительно сказала Анна Афанасьевна. – Пройдёмте в столовую, я слышу, там уже всё готово к обеду.
Все переместились в смежную комнату с розовыми драпировками на стенах и стульях вокруг большого овального стола. На белоснежной скатерти в изобилии стояли блюда с холодными закусками. В углу разместился массивный резной буфет со сластями и чистым чайным сервизом на выдвинутой столешнице. Пока все рассаживались, повар в крахмальном колпаке внёс огромное, чуть не в аршин длиной, серебряное блюдо с фаршированной щукой. Украшенная зеленью, в своей зубастой пасти она держала солёный огурец.
Александр не сдержал улыбку.
– Какой у вас хищный поросёночек! – сказал Пушкин, наклонившись к Ольге Игнатьевне.
Её отец услышал замечание.
– И поросёночек будет, – обнадёжил он гостей. – Соскучились по русской кухне поди?
– Ох, да, – вздохнул Дмитрий.
– Не обессудьте, отправили вас к татарам, зато к городу поближе. Есть у нас и русские поселения для ссыльных, но до Томска – полдня пути, а то и больше. Но полно, – оборвал он сам себя, – за столом можно говорить только о приятном, так доктора рекомендуют. Bon appétit!
Заняться, действительно, было чем. Вокруг вазы с поздними георгинами были выставлены разнообразные закуски. С традиционным студнем соседствовал французский паштет, а с солёными груздями – маринованная спаржа; на керамической доске, окружённый серповидным лезвием ножа, лежал белый мягкий сыр; на блюдцах возле каждого прибора уже были разложены расстегаи с вязигою. Мужчинам подали сухое вино, дамам – ягодный морс в таких же высоких бокалах. Не дожидаясь, пока с холодным будет покончено, внесли щи, источающие аромат квашеной капусты. Анна Афанасьевна самолично разлила их по глубоким фарфоровым тарелкам, добавляя густую желтоватую сметану, а юный лакей, или, может быть, поварёнок, помог разнести блюда по столу.
Александр с Дмитрием ели да нахваливали. Особенные восторги вызвало обещанное жаркое из поросёнка, выложенного на блюде таким образом, что он казался целым. Осмысленная беседа на некоторое время прервалась и возобновилась только после того, как подали сладкое. Крепкий лакей внёс пузатый медный самовар и, взгромоздив его на столик у буфета, разлил кипяток, добавляя ароматный крепкий чай из заварочного чайника с большой бордовой розой на гладком боку.
– Красивый фарфор! – похвалил Дмитрий, с трудом удерживая горячую чашку с тем же узором за витиеватую ручку.
– Это подарок, – скромно заметила хозяйка дома. – Купец из Китая вёз партию в Россию и решил вот так облегчить свой путь.
– Почему-то все думают, – добавил Соколовский, поморщившись, – что такого рода дар – это не взятка. А попробуй откажись! Обидятся! Скажут – зверь, изверг! Можно подумать, я бы иначе стал чинить им препоны. Да я только рад, что торговля наладилась. Купцами Россия богатеет.
– Несомненно! – согласился Пушкин, расправляясь уже с третьим яблоком. Яблоки были красные, сладкие, как в Михайловском, и явно привозные.
Митя увлёкся жареным хрустом, который Соня назвала, передавая, по-местному – хворостом. После желе Ералаш и меренг в малиновом сиропе, Игнатий Иванович отёр губы салфеткой и, встав, пригласил всех переместиться обратно в гостиную. В гостиной Лиза сразу подошла к фортепиано.
– Вы не будете против музыки? – застенчиво спросила она, полуобернувшись к гостям.
– Нет, конечно, – в голос ответили оба.
Лиза открыла крышку инструмента, пошелестела нотами – разговор притих, всё замерло – и, взяв пару аккордов, девушка запела. Песня, по своему строю, явно не подходила к её нежному голосу, но текст! Саша, в этот момент перекидывающий ногу одну на другую, чуть не упал со стула.
– Соловей мой, соловей, голосистый соловей! – старательно пела Лиза.
– Это ж Дельвиг! – шёпотом закричал Пушкин и сам себе зажал рот руками, чтобы дослушать романс.
Когда затих последний аккорд, Владимир, с усмешкой глядя на метания поэта, сказал:
– Да, Александр Сергеевич, это Дельвиг. Вернее, стихи Дельвига, а музыка Алябьева, конечно же. Это новый романс, я привёз сестре ноты совсем недавно, они ещё даже не опубликованы.
– Да, но стихи! Стихи мне Тося, то есть Антон Антонович, присылал полгода назад, я их читал. Не знал, что их уже положили на музыку, – с лёгкой завистью добавил Пушкин.
– Лиза, вы очень хорошо поёте и играете! – попробовал сгладить неловкость Дмитрий. – Я прямо как дома себя почувствовал. У меня три сестры, – пояснил он. – И все, конечно, учились музыке.
Лиза скромно потупилась и ответила:
– Да я так, люблю петь просто. Но не очень умею. Вот Ольгу попросите лучше, она и Соню учила, мама ей доверила – так хорошо музицирует!
После недолгих уговоров Ольга сменила сестру за фортепиано, но петь не стала, сымпровизировав какую-то фантазию в миноре. Александр был довольно далёк от музыки, но мелодия умиротворила его, отвлекла от острого, внезапно возникшего чувства, что он всё пропускает. Бурная творческая жизнь кипит где-то там, на западе, а здесь, в Сибири, он оказался за бортом. Ах, барон Дельвиг! Щемящее чувство в сердце отпустило, и Саша увлёкся наблюдением за Ольгой. Её длинные пальцы ловко перебирали клавиши, а тёмные завитки волос, выбившиеся из причёски, подпрыгивали в такт вздрагивающим открытым плечам, привлекая внимание к узкой ложбинке на шее. Этой дочери Соколовского теперь уже Пушкин наговорил комплиментов, не скупясь, но не получил в ответ ничего, кроме насмешливой полуулыбки.
– Что ж ты не спела нам, Оля? – мягко укорил её отец. – Кстати, о стихах… Александр Сергеевич, а вы нам не почитаете?
– Э-э-э, конечно, – ответил Пушкин, чувствуя необходимость отблагодарить Игнатия Ивановича за оказанное гостеприимство. – Что бы вы хотели услышать?
– «Евгения Онегина» из уст автора! – уверенно ответил Соколовский.
Саша, внутри довольный, развёл руками:
– Извольте, – он достал приготовленные листы, расправил их и начал чтение.
Когда, выразив все положенные восторги с обеих сторон, гости и хозяева расстались, договорившись встретиться вновь, Пушкин остановился под липой во дворе Шумиловского дома, вдохнул холодный сентябрьский воздух и, поёжившись, сказал Гончарову, то ли хвалясь, то ли жалуясь:
– Чувствую себя Шахразадой. Буду каждый месяц читать по главе – будем в милости. А что станем делать, когда роман закончится?
– Напишете новый, – отмахнулся благодушно настроенный, сытый Митя. – Ваш гений не даст нам пропасть.
Глава 6. Свет и морок
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей».
(Русская пословица)
Осень в Сибири – унылейшее время года. Деревья лишаются своих золотых крон к началу октября, бурые остатки листьев замерзают на ветвях и под ногами. Трава жухнет от ночных заморозков. Небо днём и ночью покрыто если не тучами, то грязно-серыми облаками, из которых то и дело сыплется дождь вперемешку со снегом. Под ногами – непролазная грязь, снежинки оседают в неё, чернея. От промозглой сырости и холода стынет любая мысль. Световой день становится короток, а без снежного покрова на дворе совсем темно.
Впрочем, весь октябрь можно было и не покидать тёплой избы Зульфии Халиловны – разве что дров наколоть, воды принести да в баню сходить. Конечно, после физических трудов бывало, что ломило всё тело, но Пушкин относился к этому как к необходимой тренировке и Мите это внушал. Иногда Саша даже увлекался и колол дрова с азартом, попутно упражняясь в метании топора, вонзая его в отдалённую колоду, до изнеможения. Зато потом ждал обильный обед. Кормила аби сытно, иногда даже чересчур. По крайней мере, в постные дни Дмитрий упорно пытался соблюдать христианские ограничения, но это ему слабо удавалось. Иногда он из принципа ел только лепёшки, отвергая мясные татарские блюда, но Зульфия аби могла быть и строгой бабушкой. Митя разрывался между привычными религиозными обязанностями и суровым взглядом хозяйки, превращающим его в пятилетнего малыша.
– Кушай, дорогой, разве не вкусно? – ласковым голосом предлагала татарка, сверкая чёрными глазами из-под платка.
Гончаров был вынужден подчиняться, а потом, после обеда, на своей половине дома, открыв Псалтырь и встав на колени, замаливал грех чревоугодия.
Имелись и другие грехи. Пушкин от скуки приучил Митю к картам. Хотя и впрямь не было никакого азарта в том, чтобы ставить на общие капиталы, но Александр томился без большой игры, дающей работу разуму и напряжение чувствам.
Книги были все прочитаны, Пушкин уже два раза ходил к мулле и взял у того всё, что мог хоть как-то понять. Теперь оставалась одна надежда – на Лёвушку, но посылка не шла, во всяком случае, ни Касаротов, ни его жандармы в Эуштинские Юрты не приезжали.
Наступило долгожданное двадцатое число. Гончаров, тоже изнывающий от безделья – не считать же делом физическую работу по ведению хозяйства, с которой справится любой крестьянин, – с самого утра уже был при параде. Решили ехать, не дожидаясь известий из Магистрата и несмотря на погоду. Шёл дождь с хлопьями снега, ветер завывал, как в декабрьском Петербурге. Саша слонялся по комнате в попытках одеться и тепло, и нарядно одновременно, когда к воротам подъехал, громыхая и хлюпая, казённый экипаж. Дмитрий кинулся к дверям. Ерофей Арсеньевич забежал в дом, утирая с лица капли растаявших снежинок. Он был одет уже по-зимнему – в тёмную шинель из шерстяной ткани; высокие сапоги заляпались грязью.
– Уф, – выдохнул он, – день добрый, господа. Я на минуточку за вами. Собирайтесь, а я заскочу к хозяйке, авось не сильно напачкаю, – он с сомнением поглядел на свою обувь, но, решительно постучав, вошёл к Зульфие Халиловне и прикрыл за собой дверь.
Движимые понуканием укутанного в стёганный армяк кучера, лошади тронулись, экипаж с чавканьем вырвался из вязкой трясины. Касаротов задёрнул шторки.
– Холодно нынче, а? – сказал он. – Скорее бы снег лёг, чтоб на возок пересесть. Кажется, по такой размазне даже полозья ловчее б пошли.
Река бурлила, вздымая крупные для своего русла волны. Паром ходил ходуном, Пушкин с Гончаровым то и дело были вынуждены хвататься друг за друга, чтобы не вылететь за борт.
– Хотел за вами позже приехать, – прокричал Ерофей Арсеньевич, – но Бог знает, что там будет! Погода с каждым днём всё хуже, вот-вот переправу вовсе закроют.
– Как?! – воскликнул Митя. – Это что же – до весны мы будем оторваны от мира?
– Что вы! – засмеялся Касаротов. – Через месяц река встанет, на санях по льду помчимся! Зима в наших краях за счастье после осенней распутицы, коли шуба есть. У вас, кстати, как с этим?
Разговор продолжили на берегу, усаживаясь снова в экипаж.
– Если надо, я подсоблю. Казённые тулупы, конечно, не в свет ходить, но на двор у Халиловны подойдут.
– Хорошо бы, – согласился рачительный Митя. Трепать купленную на свои деньги одежду во время, к примеру, колки дров, ему не хотелось.
В Магистрате, кроме денег, по ходатайству Ерофея Арсеньевича, им выдали синие тулупы с прямоугольником на спине, две пары валенок, письма и посылку с книгами для Пушкина.
– Вы так, Александр Сергеевич, станете обладателем самой большой библиотеки в нашей губернии! – пошутил Соколовский, передавая коробку. – Дадите почитать?
– То же самое хотел вам предложить, Игнатий Иванович! Давайте меняться: ведь у вас наверняка есть что-нибудь интересное.
– С удовольствием! Не хотите ли зайти ко мне домой прямо сейчас? Боюсь, потом мы до зимы не увидимся. А ваши вещи подождут вместе с экипажем. Я договорюсь, чтобы за вами заехали после обеда.
– О, ближайшее время мы полностью в вашем распоряжении, – Пушкин зубами потянул узел, развязывая посылку. – Только позвольте взглянуть, что там.
– Разумеется. Пройдёмте в мой кабинет, так будет удобнее. А я пока доделаю кое-какие дела и оденусь.
Соколовский проводил Александра и Дмитрия в комнату, широким жестом расчистил им часть письменного стола и вышел. Мельком взглянув на книги – Вольтер, Гомер, труды по русской истории, несколько новых романов – Пушкин торопливо достал из-за пазухи уложенные письма. Митя своё единственное уже вскрыл и полностью погрузился в чтение.
Саше писала мать. Пространно выражая печаль по поводу участи своего непутёвого старшего сына, она, впрочем, ничего важного не сообщала. Казалось, Александр всё ещё сидит в Михайловском, и его ссылка надолго не затянется. Письмо было полно незначительных подробностей домашней жизни и сплетен о придворных новостях.
Послание от Прасковьи Александровны Пушкин засунул обратно за пазуху, чтобы прочесть дома.
Третье письмо стало неожиданностью. Соболевский! Сергей был давним другом и поверенным в делах Александра, восемь лет назад он учился в Благородном Пансионе вместе с Лёвушкой, тот их и познакомил, на счастье.
«Вот это новости я узнаю! – писал Сергей. – Сашка, как мог ты попасть в Сибирь?! С кем мне теперь пить бургундское? Я в печали, рыдаю и рву на себе бакенбарды.
Где ты? В тайге или в горах? Сыт ли, одет ли в тамошних снегах? Пиши мне всё, что тебе нужно – постараюсь найти и прислать. Пока передаём тебе с Лёвкой немного книг, часть из них – твоей же библиотеки. Я подумал, что ты будешь по ним скучать. Обязательно вышлю ещё, говори, чего хочешь. В обмен жду твои труды. Как там Евгений наш Онегин? Не зачах в ссылке? Давай хотя б его вернём в Москву! "Телеграф" напечатает, ручаюсь. Полевой – отчаянный человек, я его уговорю…»
На этих строках письма Пушкина охватил такой восторг, что он сплясал какой-то диковатый танец, размахивая листком бумаги над головой.
Митя ошалело посмотрел на него.
– Александр Сергеевич, что-то случилось?
– Друг обрадовал! Буду, буду я ещё печататься!
Гончаров придвинулся ближе к столу и аккуратно повернул к себе конверт, чтобы прочесть имя отправителя.
– Сергей Александрович Соболевский?! – удивился он. – Mylord qu’importe*? (Милорд «Ну и что»)
– Да, это его так называют, – тепло улыбнулся Пушкин, вспомнив нечто весёлое. – А откуда вы его знаете? – спохватился он.
– Да мы же с ним в Архиве вместе служили. И у Володи Одоевского встречались на литературных вечерах.
Пушкин поднял обе брови сразу.
– Так, вот с этого места вы мне расскажете поподробнее, но не здесь, хорошо? Интересный вы человек, Митя. Полный неожиданностей.
Гончаров хотел было смущённо ответить, что ничего подобного, но в этот момент вернулся Соколовский, чтобы всем вместе ехать к нему обедать.
Гостей явно ждали. Хозяйка с дочерьми встретила их радостно, как добрых друзей. Владимир долго жал руки, увлекая Пушкина в комнаты, но обед уже стыл, поэтому, что бы там ни хотел от Александра младший Соколовский, пришлось считаться с распорядком дня. В доме Игнатия Ивановича, видимо, и для себя так же предпочитали русскую кухню, а может, просто повар был из России, а не, по моде, из Франции, но на столе преобладали блюда из речной рыбы, в том числе большая целая стерлядь, украшенная зеленью, дичь и разнообразные пироги. По осеннему сезону на десерт были привозные – дома бы Саша подумал «заморские» – фрукты и ягодные блюда.
После обеда дамы ушли в гостиную, а мужчин хозяин дома провёл в кабинет. Крашенные в зелёный цвет стены и того же тона тяжёлые спущенные шторы создавали полумрак, отгораживая от буйства стихии на улице. Игнатий Иванович сам зажёг свечи в канделябре, и их мерцание осветило убранство комнаты. По обеим стенам стояли резные стеллажи с книгами и бумагами, лежащими то тут, то там внушительными стопками.
– Выбирайте, Александр Сергеевич, – широким жестом указал на полки хозяин дома. – У нас в городе сложно достать литературу – ни одной книжной лавки, дело неприбыльное. Это мне, в основном, сыновья из России привозили, когда учились в Кадетском корпусе, но есть и старые издания, с которыми я в Сибирь из Смоленска приехал.
– Неплохая библиотека, – вежливо отозвался Пушкин, разглядывая корешки. Здесь были и переписка Екатерины Второй с Вольтером, «Гомер в девяти песнях», «Россиада» Хераскова, и даже многотомник «История государства Российского» Карамзина – совсем свежее издание. На отдельном стеллаже, ближе к входу, стояли романы: «Юлия или Новая Элоиза» Жан-Жака Руссо, Гёте «Страдания юного Вертера», «Памела или Награждённая добродетель» Ричардсона и снова Карамзин – «Бедная Лиза» и «Наталья, боярская дочь». Гончаров, тоже изучавший содержимое полок, потянул Александра за рукав, указывая на тонкую книжицу некоего Пушкина «Евгений Онегин», лежащую поверх остальных.
– А вы, Дмитрий Николаевич, читаете? – спросил Владимир, устроившийся на широком диване.
– Разумеется, – ответил Митя, оборачиваясь к собеседнику. – У деда в Полотняном Заводе огромнейшая библиотека. Дома, правда, maman признаёт только учебники, – он скривился, – но мы в деревне каждое лето, да и дед всегда рад дать денег, если это на книги, – в его глазах блеснул озорной огонёк, который тут же угас, сменившись привычным здесь тоскливым выражением.





