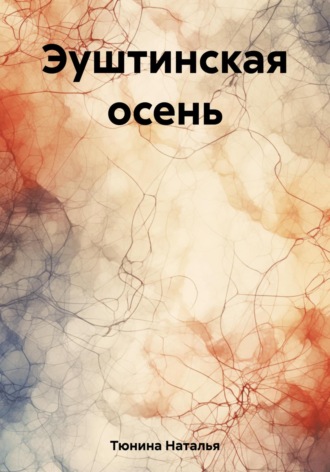
Наталья Тюнина
Эуштинская осень
Алиев дёрнул подбородком:
– Я здесь принимаю решения о том, что везти по этапу. Большинство ссыльных, надо сказать, идёт пешком, в казённых халатах и абсолютно не обременёнными ношей. Вам, в виду дворянства, сделано исключение. Тем не менее, лишние вещи вам не понадобятся, оставим их здесь, – он нехорошо усмехнулся.
Саша почувствовал, как вскипает кровь в жилах. В глазах потемнело от гнева. Но не успел он отреагировать, как услышал сзади мягкий Митин голос:
– Степан Булатович! Мы поднимем багаж сами, покорно благодарим. Вот, возьмите за вашу заботу, – и Гончаров, подойдя ближе, что-то положил унтер-офицеру в руку.
Тот прищурился, глядя в свою приоткрытую ладонь, потом улыбнулся вдруг приветливо и сказал:
– Грузите, господа, быстрее, и сами устраивайтесь поудобнее, дорога дальняя!
На выезде из города телега, на облучке которой рядом с извозчиком сидел Алиев, обогнала колонну этапируемых ссыльных, тех самых, о которых говорил унтер-офицер. В серых халатах, прикованные к прутам, гремя кандалами, они растянулись на полсотни саженей. Головы были обриты наполовину, оставшиеся волосы болтались, немытые и нечёсанные. На лбу и щеках у многих краснели свежие клейма: «В», «Г» и даже – «Кат». Женщины, которых было в несколько раз меньше, чем мужчин, ехали позади на телегах, кое-кто держал на руках детей в таких же серых хламидах, как у взрослых. Это мрачное шествие возглавлялось унтер-офицером в тёмно-синем, как и у Алиева, мундире с серебряными эполетами на плечах и с алыми лампасами на штанах. Такого же яркого цвета погоны были и у солдат, сопровождавших колонну. Слева у каждого висел карабин. У Степана Булатовича он тоже был, что заставило Пушкина задуматься, против кого предназначено это оружие – сдерживать диких зверей или же не давать пленникам сбежать? Второе выглядело маловероятным, так как бежать было решительно некуда – дорогу окружал такой густой лес, что сквозь заросли мог продраться разве что медведь.
Несмотря на то, что телега ехала медленно, куда медленнее почтовой кибитки, колонна этапируемых вскоре осталась позади. За весь день пути Саша не увидел больше ни одного человека на дороге. Алиев к ним с Гончаровым не оборачивался, время от времени перебрасываясь фразами с извозчиком. Два раза проехали, не останавливаясь, этапные остроги, больше похожие на плохо построенные казармы. Деревень вдоль дороги не было. К вечеру на холме показался ещё один острог. Степан Булатович приказал свернуть к нему и заночевать. Солдат у ворот, впустив телегу во двор, задвинул тяжёлый засов. Дмитрий судорожно оглянулся и громко сглотнул.
– Проходите, господа, не стесняйтесь, – пошутил унтер-офицер, слезая с облучка. – Для вас здесь подготовлена отдельная комната.
Не заботясь далее о размещении конвоируемых, Алиев вошёл в сруб.
Пушкин спрыгнул на землю. От долгого и неудобного сидения на плетёнке из верёвок ноги у него затекли как никогда. Он достал из телеги свою ореховую трость и, слегка прихрамывая, стал прохаживаться в ожидании Гончарова. Но тот почему-то не спустился, даже когда трое солдат сопроводили возницу в отдельно стоящий домик, выпрягли и увели лошадей в конюшню. Вцепившись в борт и побледнев, Дмитрий вперил взгляд в некрашеные стены острога.
– Пойдёмте, сударь! – позвал его Саша. – Осмотрим эту гостиницу.
Митя замотал головой.
– Я лучше тут, на свежем воздухе.
Быстро темнело, и воздух действительно начал свежеть. Зябко поведя плечами, Александр снова предложил таким тоном, каким уговаривал бы лошадь или ребёнка:
– Спускайтесь. Возможно, здесь есть горячий ужин или хотя бы чай. И постель! Давайте я помогу сойти, у вас, наверное, тоже онемели конечности.
– Спасибо, – с благодарностью сказал Дмитрий, протягивая руку. – Приятно, знаете ли, чувствовать, участие. Насиделся я в одиночку, – он наконец слез на землю.
– Ничего-ничего, – похлопал его Пушкин по руке, – живы будем – не помрём, как говорит моя няня.
Гончаров неожиданно по-детски шмыгнул носом.
– О, да вы совсем продрогли! – Саша приобнял молодого человека за плечи, и они вместе вошли внутрь.
Поужинали пирогами от добрейшей жены полицеймейстера, которая в узел с едой положила ещё и шерстяное одеяло. Пушкин отдал его Мите, сжавшемуся в углу на лавке. Собственно, лавки и составляли всю меблировку предоставленной им «комнаты». Чаю, вернее, кипятка с какими-то травами, принес солдат. «Интересно, полагается ли чай лишённым чинов и дворянства?» – думал Александр, рассматривая в наступающих сумерках плохо сложенные стены, через которые сквозил ветер. Все друзья, попавшие в эту заваруху, наверняка ещё сидели в крепости. А может, тоже ехали на восток, в холод и неизвестность, без возможности уединения и в то же время – без сообщения с близкими. Внезапно Саша понял, что на этом участке пути гораздо меньше надзора. Вот, например, сейчас они были с Гончаровым одни.
– Послушайте, Дмитрий, – начал Пушкин. Тот поднял голову. – Сколько я вам должен за мои вещи?
Молодой человек мотнул головой, как телёнок, отгоняющий мух.
– Нисколько.
– Но вы же денег дали? – полуутвердительно сказал Саша.
– Сочтёмся… Когда-нибудь. Сейчас у меня ещё много.
– Вы только разбойникам этого не говорите, – усмехнулся Пушкин.
– Каким разбойникам? – испугался Митя.
– Да хотя бы вот этим, – Александр кивнул головой куда-то в сторону запертой двери в коридор, на другом конце которого были комнаты для стражей крепости.
Гончаров опустил взгляд и ещё больше съёжился в своём уголке.
– Понятно, почему вы здесь, – вдруг заявил он. – Вы не любите власть и не умеете молчать. Но я не слышал, чтоб вы были на Сенатской.
– Я и не был, а вы?
– Оказался, увы, случайно. Пошёл за толпой, из чистого любопытства.
– О как, – хмыкнул Пушкин. – Прямо как мой младший братишка. За компанию со старым моим лицейским приятелем туда попал. Отделался, впрочем, лёгким испугом. А вот приятель тот, – он помолчал, – тоже в эти края теперь ехать должен.
– Я был на Кронверкском валу, когда… – Дмитрий закашлялся, – когда была казнь. Очень много приговорённых, я даже не знаю, сколько. Удивительно, что мы никого до сих пор не встретили. Наверное, не все сразу едут. Вместит ли Сибирь столько народу? Обычных преступников, как те, что мы видели, тоже сюда ведут. Разве здесь одни только крепости?
– Расскажите про крепость, – попросил Пушкин тихо. Ему хотелось – хотя и было страшно – узнать и прочувствовать, чего избежал он, но не миновали его друзья.
Митя закрыл лицо руками.
– Самое страшное, – глухо сказал он, – это одиночество. Радуешься звону ключей и редким шагам стражников. Они, конечно, молчат, но зато живые люди. Новостей нет. Книг нет. Лежишь и смотришь в потолок. Насекомые ползают, у них свои дела. Я им, не поверите, завидовал. Имена давал. А дома, давным-давно, кажется, тысячу лет назад, меня так раздражало, что всё время кто-то ходит, что-то хочет от меня. Пусть бы ходили! И маминька, и отец, и Ваня с Серёжей, и сёстры. Неужели я их никогда больше не увижу?
Гончаров отнял руки от мокрого лица, провёз ладонями по щекам и судорожно вздохнул, приходя в себя.
– Простите, – сказал он, – что я всё это на вас вывалил.
– Pas de problème, – ответил потрясённый Саша, случайно перейдя на французский. – Это вы простите, что затронул эту тему. Не знаю, как выразить своё сочувствие. Пейте чай, Дмитрий, и давайте спать.
Подняли чуть свет. На завтрак выдали по фунту хлеба и по полфунта варёной говядины.
– Это вам на весь день, – предупредил Алиев. – Останавливаться не будем до вечера, да и негде пока.
Деревень вдоль дороги по-прежнему не было, но лес поредел, из лиственных зарослей превратясь в чистый бор с моховой подстилкой вместо травы. Пахло грибами и сыростью. После вечерних откровений юный Гончаров молчал, насупившись. Саша, прикрыв глаза, вдыхал запахи, напоминающие ему детство и прогулки с няней. Когда сквозь грёзы прорвался хруст сухих веток и конский храп, Пушкин не сразу понял, в чём дело. Очнувшись от своих мыслей, он увидел сперва, что Степан Булатович взводит карабин, а возница пытается успокоить и заставить идти вперёд лошадей. Только потом Александр заметил стоящего среди деревьев на задних лапах медведя. Тот прижал уши и поводил носом, принюхиваясь. Передние лапы его были опущены, совсем как руки у человека. Бурая тёмная шерсть лоснилась, зверь выглядел сыто и как будто улыбался, глядя на людей. Но волнение унтер-офицера и кучера, наверняка не понаслышке знающих, с кем имеют дело, свидетельствовало о серьёзности положения. Пушкин сполз на дно телеги и потянул за собой Митю. Тот непонимающе запротестовал было, но, увидев медведя, закрыл рукой рот и подчинился. И вовремя. Лошади, только что, как Гончаров, не желавшие слушаться возницу, вдруг понесли, мотая повозку из стороны в сторону. И тут медведь побежал. Всё произошло в долю секунды – вот он стоял среди сосен, а вот он галопирует по дороге прямо за вихляющей телегой. Саша почти лёг на дно, всё ещё держа Митю за предплечье, когда прогремел выстрел. Пушкин поднял голову. На облучке, выпрямившись во весь рост и балансируя, как в цирке, стоял Степан Алиев с дымящим карабином в руках. Мёртвый медведь остался лежать на земле, расстояние между ними стремительно увеличивалось. Александр вскочил и подал унтер-офицеру руку. Тот принял помощь и, наконец, смог сесть на своё место. Лошади, постепенно успокаиваясь, перешли на шаг.
– Х-х-хорошая была бы шуба, – попытался продемонстрировать хладнокровие Гончаров, возвращаясь на верёвочное сиденье.
– Назад не поедем, – резко бросил Алиев. – Хотя медвежье мясо не было бы лишним. Скажу солдатам из следующего острога, пускай подберут.
– Вы – лучший стрелок, которого я когда-либо видел! – не удержался от комплимента Пушкин. Его впечатлило, на какой риск пошёл унтер-офицер. – И ведь вас могло уронить отдачей!
Степан Булатович пожал плечами:
– Могло. Но попасть на обед косолапому было вернее. К тому же, я с детства стреляю с лошади, дело привычки.
Отлично владеющий как пистолетами, так и навыками верховой езды, Александр не поверил, что это было так уж легко, и проникся к Алиеву уважением.
К счастью, оставшийся путь был без приключений. Днём ехали, ночевали в острогах. Однажды пошёл дождь, совсем осенний – мелкий и нудный. Плащи часа через три дороги промокли, в крепости прохудилась крыша, на полу стояли лужи, и просохнуть во время остановки не было никакой возможности. Митя начал чихать, нос его покраснел и нещадно тёк. Степан Булатович сжалился над ним и на следующую ночь остановился в городе Таре, в гостинице. Конечно, никаких разговоров с посторонними он не допустил, зато у Александра и Дмитрия был тёплый сухой номер с постелями и горячая еда за Митин счёт.
Наутро, после сытного завтрака, выехали снова на восток. У переправы через Иртыш пришлось обождать – на паром, состоящий из двух сцепленных между собой больших плоскодонных лодок, грузили почтовую кибитку. Фельдъегерь и арестант стояли у воды. Чуть поодаль остановились три экипажа, возле которых ожидали две по-столичному одетые дамы с маленькой девочкой лет четырёх.
Алиев спрыгнул с облучка и подошёл к паромщику, видимо, договориться об очерёдности переправы. Фельдъегерь отвлёкся на вновь прибывших. Дама постарше, воспользовавшись этим, махнула арестанту платком, тот ответил воздушным поцелуем и, отвернувшись, полез в лодку.
– Послушайте, – взволнованно сказал Дмитрий. – А я его знаю! Это же Александр Муравьёв. Мы познакомились в Петропавловской крепости!
– И я его знаю, – грустно ответил Пушкин. – Не близко, но встречал среди умных людей. Теперь, думаю, уже можно об этом говорить, дальше Сибири не сошлют, – усмехнулся он.
– Но Александра Николаевича не лишили дворянства, – продолжил рассказывать Гончаров. – Наверное, поэтому едет с родными, – Митя кивнул на дам. – А за вами, – он смутился, но договорил, – никто не поедет следом?
Саша скривился. Женщины его всегда любили. И даже были дети, которые никогда не узнают о нём. Особенно теперь. Зачем им ссыльный отец? Да и ссыльный любовник мало кому нужен. Он ещё раз посмотрел в сторону жены Муравьёва, подивившись её мужеству и самоотверженности.
– Нет, – ответил Пушкин Мите. – За мной – никто.
Ещё десять дней ехали по тайге и болотам. Попадались в пути и деревеньки, но в них ни разу не останавливались. Оставили позади Каинск, затем Колывань, после которой свернули на север, и через пару дней прибыли в пункт назначения – город Томск.
Глава 4. Наведение мостов
«Лучше быть последним среди волков,
чем первым среди шакалов».
(Чингисхан)
Переправляясь через Томь, Александр думал со смесью ужаса и благоговения о мистическом совпадении судеб. Именно в Томске, в мужском монастыре, был почти сто лет назад заключён его прадед, Абрам Ганнибал, арап Петра Великого. Конечно, вряд ли прадеду удалось осмотреть достопримечательности города, так как находился он под строгим наблюдением бдительной стражи. Саша очень сильно надеялся, что ему самому достанется больше свободы, чем предку.
Оказавшись на берегу, снова погрузились в телегу и по размытой недавним дождём плохой дороге, гордо именуемой Московским трактом, поехали вдоль реки. Вскоре появились дома – деревянные избы, чаще одноэтажные, загороженные высокими заборами с плотно подогнанными досками. День был пасмурный, и этот пейзаж тем более навевал уныние.
Добрались до притока Томи, неширокой, но судоходной речушки, за которой виднелась довольно обширная базарная площадь с крытыми торговыми рядами. Дорога виляла вслед за притоком, заросшим по берегам густым кустарником, пока через него не обнаружился деревянный мост вполне приличного вида. Свернув налево за мостом, сразу остановились возле розового двухэтажного каменного здания Магистрата, с аркадой в первом этаже портика и колоннадой во втором. Чуть поодаль, у Томи, возвышалась церковь с колокольней того же розового цвета. Справа, на холме, возвышался бревенчатый острог.
Когда Алиев, оставив конвоируемых в телеге под присмотром извозчика и встретившего их караульного солдата, скрылся под арками, у Пушкина появилось ощущение, будто они снова в Тобольске. Даже закрался страх, что им опять предпишут двигаться дальше на восток. Саша посмотрел на Гончарова. Тот сидел, озираясь, как ребёнок на увеселительной прогулке, хотя его осунувшееся лицо выдавало усталость тяжёлого пути.
– Ну что, Дмитрий Николаевич, с приездом нас! – пошутил Пушкин. – Здесь разойдёмся али вместе будем жить-поживать да добра наживать?
– Эт-т-то как начальство прикажет, – серьёзно отозвался Гончаров. – Мы теперь люди подневольные.
– Так то оно так, – ответил Александр, – а всё ж мы дворяне! Должны нас уважить!
Возница на облучке громко хмыкнул. Саша замолчал. Долго ждать не пришлось – в проёме аркады показался видный высокий мужчина в белом мундире.
– Пожалуйте к председателю губернского правления, господа! – позвал он. – Касаротов Ерофей Арсеньевич, – представился он, когда Пушкин и Гончаров подошли к дверям. – Городничий Томска и, как я понимаю, ваш, хм, сопровождающий по здешним местам. Сейчас я улажу некоторые вопросы по вашим партионному и статейным спискам в Экспедиции о ссыльных, а вас ждёт Игнатий Иванович, – городничий обернулся на двери, из которых вышел Алиев. Степан Булатович коротко кивнул своим недавним подопечным, прощаясь:
– Бывайте, удачно вам устроиться на новом месте!
Магистрат и внутри, и снаружи выглядел как обычное петербургское присутственное здание, будто был построен по проекту, спущенному сверху. В большом кабинете первого этажа, куда прибывших поселенцев провёл вежливый чернявый солдат в уже привычной здесь, в Сибири, синей форме, за большим письменным столом, заваленным бумагами, сидел невысокий щуплый мужчина лет сорока пяти. По царившему вокруг председателя беспорядку, разительно выделявшемуся на фоне убранства всего остального пространства комнаты, Саша сразу признал в этом человеке родственную душу.
Глава губернского правления встал, быстро обошёл стол и, не церемонясь, пожал руку сперва Пушкину, потом Гончарову.
– Соколовский, – просто представился он. – Рад знакомству! Присаживайтесь, пожалуйста, – он указал на кресла и, дождавшись, пока молодые люди, смущаясь своего запылённого вида, разместятся, сел сам напротив. – Меня зовут Игнатий Иванович, вам называть себя нет нужды, ваши документы я уже видел. Александр Сергеевич, при других обстоятельствах я бы счёл нашу встречу большой честью для себя. Не буду вас томить, расскажу по порядку, с чем вы будете иметь дело. Город наш невелик, полтыщи дворов. Ссыльных много – дворян мало. А уж ссыльных дворян и того меньше, – он хмыкнул. – Жить в черте города вам будет нельзя, определим вас поближе, но за реку. Дом выделим на первое время, потом построите, что хотите. Простите за бестактность, каково ваше финансовое положение? Будут ли родственники присылать содержание?
Несколько ошарашенный говорливостью и напористостью Соколовского, Саша не сразу смог ответить. После неловкой паузы, он сказал:
– Благодарю Вас за заботу, Игнатий Иванович. Боюсь, ни у меня, ни у Дмитрия Николаевича нет столь богатых родственников, чтоб содержать опальных членов семьи. Хотя, возможно, кое-что, какие-либо вещи, они смогут нам послать? – осторожно добавил он.
– Да, разумеется! – сразу понял суть его вопроса Соколовский. – Никакая переписка и пересылка не возбраняется, можете прямо сейчас отправить весточку родным, они, наверное, заждались. Единственное, все письма должны идти через почтовое управление, прошу прощения, для цензуры. Слишком ценные вещи будут отосланы обратно, но деньги – до двух тысяч рублей подъёмных и до тысячи в год на содержание – вы принять сможете. Ежели и правда, помощи ждать неоткуда, то губернское правление поставит вас на государственное довольствие, но оно мизерное, особенно по столичным меркам – двести рублей в год за вычетом денег, что вам пришлют.
Это было куда больше, чем ожидал Александр: после этапа, двух недель на сухомятке и ночёвок в острогах, он представлял себе уже полуголодное существование где-то на казённых нарах. Теперь же, после знакомства с председателем правления, жизнь заиграла новыми красками.
– А впрочем, детали вам расскажет Ерофей Арсеньевич, наш городничий. Вы проходите по его ведомству, так что он будет за вами, так сказать, присматривать. Но вы не тушуйтесь, если что-то будет нужно, и не сможете уладить – обращайтесь прямо ко мне. Всё равно вам надо будет в городе появляться раз в месяц, чтобы отметиться и, если нужно, пособие получить, да и почта от нас до столиц и обратно примерно столько и идёт.
– Кстати же о почте, – не утерпел Гончаров. – Вы обещали позволить письмо отправить. Разрешите перо и бумагу?
– Ради Бога! – Соколовский взмахнул рукой в сторону своего стола. – Присаживайтесь, пишите!
Дмитрий встал, аккуратно обошёл завалы документов, присел на краешек стула и, отыскав чистый лист, стал старательно, как лицеист, выводить буквы.
Игнатий Иванович наклонился к Пушкину.
– Александр Сергеевич, у меня к вам вопрос личного свойства. Я поклонник вашего таланта. Простите мне мою слабость, я хоть и лицо государственное, но люблю поэзию. У меня и младший сын пописывает, Дмитрия Николаевича ровесник. Скажите, есть ли продолжение «Евгения Онегина»? Я читал лишь первую главу.
От неожиданного вопроса кровь бросилась в лицо Пушкину вместе с ликованием. Знают, и здесь знают!
– Да ведь больше не публиковалось пока, – будто бы смущённо ответил он. – Вторая глава уже написана, но не издана, и теперь, ввиду сложившихся обстоятельств, возможно, никогда и не будет опубликована, – сказал и сам загрустил Саша. – Но, конечно, как-нибудь позже, в более подходящей обстановке, я вам её прочту, если изволите.
– Разумеется! – воскликнул Соколовский, выдавая в себе настоящего ценителя литературы. – Я изыщу такую возможность.
Подошёл Митя, помахивая подсыхающим письмом.
– Отправите, Ваше Высокородие? Я адрес подписал вот тут сзади.
– Позволите, я тоже черкану пару строк? – Пушкин встал.
Подойдя к столу, он быстро набросал два коротких послания. Первое – матери и Ольге, больше, конечно, Оле. По существу: жив, здоров, нахожусь в городе Томске, пишите, шлите посылки – обустраиваюсь на новом месте. Денег напрямую просить было неловко. Второе – Прасковье Александровне и, через неё, няне. Нежное, но настолько, чтобы можно было прочесть цензорам. «Не плачьте, родные мои, буду вспоминать о вас в сибирской глуши. За меня не беспокойтесь, всё будет хорошо, берегите себя. Навеки ваш друг, А.С.»
Ерофей Арсеньевич оказался строгим деловым мужчиной, немногословным, но деятельным. Небольшая хромота – вероятно, последствие старой раны – нисколько не сковывала его. Касаротов лично отвёз своих подопечных на новое место жительства. Для этого пришлось вернуться к парому и по левому берегу Томи проехать расстояние до дальнего края города, который стоял на другой стороне реки. Дальше лежал остров, за которым правый берег скрылся, зато прямо по дороге показалось небольшое селение – Эуштинские Юрты.
Когда в Магистрате вернувшийся городничий произнёс это название, Саша представил себе разноцветные круглые шатры из ковров и жердей, а через центральное отверстие в крышах в небо валит дым от костров, разведённых прямо на земляном полу. На деле никаких юрт в деревне не было, лишь такие же крепкие одноэтажные дома за глухими заборами, как на Московском тракте.
Вечерело. Солнце краем выглянуло из облаков, осветив окрестные луга, берестяные крыши домов, пятнистых коров, возвращающихся с пастбища под присмотром смуглого, большеглазого подпаска в тюбетейке. Поравнявшись с полицейским экипажем, коровы дружно замычали. Дмитрий вздрогнул.
– Это мы теперь будем вроде как оседлые инородцы? – спросил он уныло, имея в виду статус татарского поселения.
– Не совсем так, – уточнил Ерофей Арсеньевич. – Хотя я тоже не очень понимаю, почему вас решили направить именно в Эуштинские Юрты. Но работать вы можете наравне с татарами, коли нужда будет. Вам разрешена любая сельскохозяйственная деятельность – хошь поля засевайте, хошь скотину разводите. Татары больше всего коней любят. Извозом зарабатывают.
Александр слушал и смотрел по сторонам. Вот проехал навстречу всадник, типичный монгол, но в русской рубахе. Приподнял свою тюбетейку, поклонился городничему, не спешиваясь. Прошла от колодца девушка с коромыслом. Статная, в ярком лиловом платье, осанка царственная. Красивая, наверное, но под платком, надвинутым на лицо, не видно. Не поздоровалась, наоборот, отвернулась и скрылась за тяжёлыми воротами. Поодаль от дороги, между домами, мальчишки играли в бабки. Обычные ребятишки, весёлые, шумные. Все, как один, темноволосые, но и цвет кожи, и разрез глаз – разные. Эуштинские Юрты жили обычной жизнью, как любая российская деревня.
Нужный дом отыскался у реки. Внутри незапертой ограды обнаружился большой двор с хозяйственными постройками – вероятно, амбаром, баней, дровянником, курятником – и широкой бревенчатой избой, крашенной в рыжий цвет. Посредине ярким пятном выделялась белая дверь без всякого намёка на крыльцо, а окна было всего два, по одному с каждой стороны, и те маленькие, узкие, почти под крышей.
Касаротов громко постучался.
– Зульфия Халиловна! Гости пожаловали, отпирайте! Жить будете здесь, во второй половине – старушка-хозяйка, – пояснил он вполголоса. – Иногда буду вас посещать сам или присылать кого-нибудь.
В глубине дома послышались шаркающие тяжёлые шаги, болезненно напомнившие Саше нянины, и дверь отворилась. В проёме показалась невысокая полная пожилая женщина в коричневом халате, надетом поверх выцветшего, когда-то красного, платья. Её седые косы были покрыты наспех накинутой белой шалью. Сперва неприязненное, выражение лица старухи сменилось на приветливое, когда, близоруко сощурясь, она разглядела посетителей.
– Добрый вечер, твоё высокоблагородие! – тщательно выговаривая слова, произнесла хозяйка. – Кого на этот раз ты мне привёз, надолго ли?
– Боюсь, теперь надолго, Зульфия Халиловна! – ответствовал городничий. – Видишь ли, это дворяне, присланные из России на поселение. На всю их жизнь, коли ничего не изменится. Прошу, присмотри за ними.
Старая татарка ещё раз смерила взглядом сначала Митю, потом Александра. Пожевала губами. Касаротов терпеливо ждал.
– Проходите, покажу, где тут что, – наконец, сказала хозяйка, но не сдвинулась с места. – Надеюсь, – добавила она после паузы, – на вас не придётся жаловаться.
В общих сенях было темно. Митя Гончаров, чтобы войти в дом, наклонил голову, но, повернув налево в полумраке, всё-таки стукнулся лбом о верхний косяк двери, которая оказалась ещё ниже входной. Пушкин прошёл, лишь слегка пригнувшись. На этой половине была всего одна комната, зато большая. Посередине располагался невысокий круглый стол, покрытый вязанной салфеткой. Вдоль стен стояли широкие нары, застеленные узорчатыми коврами. В окно светили косые лучи заходящего солнца. В воздухе плясали блестящие пылинки, оседая на дощатый пол.
– Нужно будет перво-наперво печь затопить, – сказала хозяйка. – Ночи уже холодные. Умеете?
– Справимся, – уверенно ответил Саша.
Печь была обычная, русская, правда, не традиционно белого, а, как стены дома, рыжего цвета.
– Дрова во дворе, берите готовые, а то темнеет, завтра мне наколете.
Пушкин обернулся на Митю. Тот всё ещё держался за голову и выглядел очень растерянным. Кажется, он не был ранее знаком с деревенской жизнью в полной мере.
– Вот лампа, масло, – указав на полки с утварью, продолжала Зульфия Халиловна. – Постель в сундуках. Располагайтесь, я пока пойду приготовлю ужин, угощу вас сегодня, познакомимся.
– И мне пора, – спохватился городничий. – Вы только свои вещи из экипажа заберите, зря, что ли, их из самой России везли.
Мужчины снова вышли на улицу.
– Весьма признательны вам, Ерофей Арсеньевич, за заботу, – сказал Саша. – Простите великодушно, что даже отблагодарить нечем.
Касаротов усмехнулся.
– Не доставляйте мне неприятностей, и на том спасибо. Это моя служба. Счастливо оставаться.
Он сел в экипаж, подождал, пока Пушкин отвяжет и снимет дорожный ящик, и крикнул кучеру:
– Трогай!
А Александр с Дмитрием понесли багаж в дом, удивляясь свалившейся на них свободе после целого месяца беспрерывного надзора.
Когда Саша с Митиной помощью наконец растопил печь, уже совсем стемнело. Зажгли лампу. Александр открыл свой ящик и заглянул внутрь в задумчивости. В Магистрате городничий лишь мельком осмотрел содержимое и, видимо, не заметив ничего запрещённого, вопросов не задавал. Гончаров подошёл полюбопытствовать:
– Можно узнать, что вы привезли в эту глушь?
«На что я потратил деньги в Тобольске?» – явственно звучало подтекстом.
– Ого, целых две Библии! А мне ни одной не позволили взять. Дадите почитать?
Пушкин не сдержал смешка.
– Я потом вам всё покажу, – пообещал он. – Сейчас меня волнует вопрос: в чём идти на ужин? Чувствую себя ужасно грязным! – пожаловался Александр, почёсывая отросшую щетину, которую уже даже можно было назвать бородой. Опустившись на пол, он покопался в ящике и достал несессер с бритвенными принадлежностями.
В это время в дверь негромко постучали.
– Молодые люди! – раздался голос хозяйки. – Баню я вам истопила, и ужин готов.
Дмитрий распахнул дверь.
– Спасибо вам огромное! Мы сию минуту идём!
– Я вам там ещё одёжу положила, в бане. Не будете же вы в этом ходить, – она кивнула на засаленный, а когда-то нарядный, костюм Гончарова.
– О, хм, да, вы правы, – смутился Митя, оглядев себя.
– Как всё замечательно складывается! – сказал Пушкин, поднимаясь с колен. – Будем страдать в ссылке со всеми удобствами!
Зульфия Халиловна угощала наваристой шурпой с лепёшками, вкуснейшим чаем с халвой. Новые постояльцы ели и нахваливали.
– Ну, теперь давайте знакомиться! – сказала хозяйка, наливая по второй чашке чая.
Саша расслабленно подумал, что в какой-то момент их должны съесть: старая татарка действовала по всем правилам русских сказок – в баньке попарь, накорми, напои, – как Баба Яга. А может, это всеобщий закон гостеприимства. Выбритый, вымытый, в простой льняной рубахе и штанах, он чувствовал себя почти как дома.
Зульфия Халиловна расспрашивала дотошно, как родная мамушка. И вопросы её интересовали те, что обычно заботят старух. Сколько лет, чем зарабатываешь на жизнь, кто родители, женат ли?
Гончаров до ареста служил в Государственной Коллегии Иностранных дел, правда, недолго – он закончил университет всего за полгода до того. Услышав от Пушкина про работу сочинителем, Зульфия Халиловна скептически поджала губы, но предложила познакомить с муллой – самым образованным здесь, в Эуштинских Юртах, человеком. Саша радостно согласился, новые люди были ему любопытны. С игуменом Ионой в Михайловском Пушкин общался часто, а вот с муллой встречаться не доводилось.
Поблагодарив за вкусный ужин, Александр и Дмитрий вернулись к себе и, рухнув на нары, заснули без сновидений.
Знакомство с муллой состоялось только через несколько дней. До того бывшие столичные жители осваивались с деревенским бытом. В Эуштинских Юртах была лавка, куда завозили хлеб, крупы, масло и другие товары из города. Делалось это на случай буйства стихии и невозможности перебраться через реку. Местные жители могли купить там необходимое, но для ссыльных поселенцев продукты предоставлялись бесплатно в размере солдатского пайка. Зульфия Халиловна рассказала об этом за завтраком, как бы намекая, что её гостеприимство не безгранично.
В этот же день, не желая затруднять хозяйку, Александр и Дмитрий решили перейти на свой стол. Первое приготовление пищи закончилось провалом – ячневая каша прилипла к днищу кастрюли и отдавала горелым. Пришлось обедать хлебом и сыром, взятыми в лавке, куда с утра ходил Гончаров за пайком.
После обеда рубили дрова.
– Болезни от сидячего образа жизни нам здесь не грозят! – запыхавшись, проговорил Митя и вытер пот со лба.
От курятника за работой наблюдала хозяйка.
– Эх, опять баню топить. И рубахи стирать, – критически оглядел себя и товарища Пушкин. – Зульфия Халиловна, покажите, где у вас тазы для белья?
– А, там, – неопределённо взмахнула рукой хозяйка. – Оставьте в бане. Не мужская это работа. И на ужин приходите, самсы нажарю.
– Отказываться от гостеприимства, тем более, восточного – большой грех, – объяснял Пушкин Мите, перебирая вещи. Достав миниатюрный ножик из несессера, он начал вспарывать подкладку жилета. – Скажите, любезный друг, а сколько у вас денег? Не сочтите за бестактность, но бюджет у нас теперь общий на долгие годы, надо как-то счесть капиталы.





